Архитектурно-художественный центр
Московской Патриархии
АХЦ «АРХХРАМ»
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
Том 1
ИДЕЯ И ОБРАЗ
МДС 31-9.2003
МОСКВА 2004
В 2000 г.
введен в действие свод правил СП 31-103-99
«Здания, сооружения и комплексы православных храмов», в котором в силу
особенностей нормативного документа приведены только основные рекомендации и
расчетные данные. В целях более полного раскрытия темы
Архитектурно-художественным центром «Арххрам» разработано Пособие в трех томах
«Православные храмы».
Первый том
«Идея и образ» представляет собой сборник отдельных статей и заметок разных
авторов о христианском и, в частности, русском храмостроительстве и тенденциях
его развития. В нем впервые собраны воедино мысли о храме, его значении,
архитектуре и символике, высказанные различными авторами, начиная от
святоотеческого периода и кончая современными исследователями. Проблемы истории
и теории храмостроительства освещаются как с сугубо церковной точки зрения, так
и с точки зрения светской науки. Данный материал служит основой для решения
проблем современного храмостроительства в русле канонической традиции.
Второй том
«Православные храмы и комплексы» является пособием по проектированию и строительству
храмов. Он посвящен как общим принципам, так и практической стороне
храмостроительства, содержит рекомендации по архитектурно-строительным и
инженерным решениям, убранству храмов, развеске колоколов, порядку разработки,
согласования и составу проектной документации и другие разделы, сопровождаемые
иллюстративным материалом.
В третьем
томе «Примеры архитектурно-строительных решений» представлен дополнительный
графический и иллюстративный материал, включающий следующие разделы:
русское
храмостроительство XI-XX вв.;
проекты и
постройки православных храмов рубежа XIX-XX вв.;
современные
проекты и постройки деревянных и каменных храмов, часовен, храмовых комплексов;
примеры
решений архитектурных элементов и конструкций, внутренней декорации и убранства
храмов.
Трехтомник
«Православные храмы» предназначен как для специалистов в области
храмостроительства, так и для широкого круга читателей. Представленный материал
дает дополнительные знания профессиональным архитекторам и строителям,
студентам архитектурно-строительных институтов и факультетов, может быть
использован для знакомства церковных деятелей, являющихся заказчиками храмов, с
основами храмостроительства, в том числе для специального курса в духовных
учебных заведениях.
Автор-составитель
- главный специалист АХЦ «Арххрам» М.Ю. Кеслер.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие (кандидат богословия О.В. Стародубцев)
1.1. Каноны, или Книга Правил Святых Апостол, Святых
Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец
1.2.Святой Дионисий Ареопагит. О божественных
именах
1.3.Святой Дионисий Ареопагит. О небесной
иерархии
1.4.Преподобный Максим Исповедник.
Тайноводство
1.5. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение
православной веры
1.6.Святой Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова
против порицающих святыя иконы или изображения
1.7.Святой Герман Константинопольский. Сказание о
церкви и рассмотрение таинств
1.8.Блаженный Симеон, архиепископ
Фессалоникийский. «Книга о храме»
1.9.Преподобный Иосиф Волоцкий. Послание
иконописцу
2. Труды клириков Православной Церкви
2.1. Конец XIX - первая половина XX в
2.1.1Митрополит Вениамин (Федченков). На
рубеже двух эпох
2.1.2. Архиепископ Вениамин (Федченков).
Небо на земле
2.1.4. Архиепископ Сергий (Голубцов).
Церковная архитектура
2.1.5. Епископ Варнава (Беляев). Место молитвы
(храм и его внешняя обстановка)
2.1.6. Епископ Лука (Войно-Ясеневский). Сила моя в
немощи совершается
2.1.7.Епископ Николай Охридский. Символы
2.1.8. Епископ Серафим (Звездинский). Хлеб
небесный. Проповеди о Божественной литургии
2.1.9.Священник А. Светлаков. Христианские храмы,
история их и назначение
2.1.10. Священник А. Ястребов. Храм, его
символика и значение в жизни христианина
2.1.11.
Священник И. Святославский. Записки для чтения о храме
2.1.12. Священник Павел Флоренский. Иконостас
- явление небесных свидетелей
2.2.1.Митрополит Антоний Сурожский. «Войду в
дом Твой»
2.2.3. Архимандрит Евлогий (Смирнов). Храм
Божий
2.2.4. Архимандрит Рафаил (Карелин).
Христианство и модернизм
2.2.5. Архимандрит Рафаил (Карелин). Символ
и христианская символика
2.2.6. Архимандрит Рафаил (Карелин). Путь
христианина - проповеди. О беседе с самарянкой
2.2.7. Архимандрит Софроний (Сахаров).
Письма в Россию
2.2.8.Протопресвитер А.Шмеман. Евхаристия.
Таинство Церкви
2.2.9.Протоиерей Сергий Булгаков. Православие
(очерки учения Православной Церкви)
2.2.10.Протоиерей Сергий Булгаков. Слова,
поучения, беседы
2.2.11.Священник В. Иванов. Духовные основы
церковного искусства
2.2.12. Священник Лев Лебедев. Предметная
символика церкви
2.2.13. Иеромонах Гурий (Федоров). Церковный
подход к храмовому строительству
2.2.14.Диакон Николай Чернышев. К вопросу о
восстановлении памятников церковной культуры в наши дни
2.2.15. Настольная книга священнослужителя.
Православный храм
3. Работы светских исследователей
3.1.1. Конец XIX - первая половина XX в
3.1.1.2.Васнецов В.М. Электричество в храмах
3.1.1.3.Голубцов А.П. Из чтений по церковной
археологии и литургике
3.1.1.5.
Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства
3.1.1.6. СалькоА.М. Руководство к устройству
каменных и деревянных церквей
3.1.1.7.
Тарабукин Н.М. Символика храма
3.1.1.8. Тилинский АИ. Руководство для
проектирования и постройки зданий
3.1.1.10. Князь Евгений Трубецкой. Умозрение в
красках. Три очерка о русской иконе
3.1.1.11.Успенский Л.А. Символика храма
3.1.1.12.Успенский Л.А. Богословие иконы
Православной Церкви
3.1.1.13.Успенский Л.А. Вопрос иконостаса
3.1.1.14. Щусев А. Мысли о свободе творчества в
религиозной архитектуре
3.1.2.1.Бобков К.В., Шевцов Е.В. Символ и
духовный опыт Православия
3.1.2.2. Бусева-Давыдова И.А. Символика архитектуры по древнерусским
письменным источникам XIXVII
вв
3.1.2.3.
Вагнер Г. К. Византийский храм как образ мира
3.1.2.4.Вятчанина Т.Н. Проблемы тектоники
храма
3.1.2.5. Гуляницкий Н.Ф. Крестово-купольный
храм Древней Руси и греко-античная традиция
3.1.2.6.Зубов В.П. Труды по истории и теории
архитектуры
3.1.2.7. Кеслер М.Ю. Развитие храмостроительства
на Руси с IX по XX в
3.1.2.9.Кудрявцев МП., Кудрявцева Т.Н. О
проблеме современного храмового строительства
3.1.2.10. Лепахин В. Литургийность иконообраза
3.1.2.11. Мокеев Г.Я. Якоже горний Ерусалим
3.1.2.12. Сомов Г.Ю. Проблемы теории
архитектурной формы
3.1.2.13.Фокеева Л.А. Куб, шар, пирамида -
основные формообразующие символы православного храма
3.1.2.14. Фокеев А.А. Современный храмовый
приходской комплекс - развитие русских монастырей
3.1.2.15. Щенков А.С. О принципах изучения
русской храмовой архитектуры
3.1.2.16. Щенков А.С. Проблемы традиционной
формы в современном храмостроении России
3.1.2.17.Щенков А.С. Проблемы иконографии храма
3.2.1. Геллей Генри. Русский библейский
справочник (скиния,храм, Откровение)
3.2.2.Отто Демус. Мозаики византийских храмов
3.2.3. Клеман Оливье. Истоки. Богословие отцов
Древней Церкви
3.2.4. Мэтьюз Томас. Преображающий символизм
византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе
3.2.5. Нюстрем Эрик. Библейский словарь (скиния,
Иерусалимский храм)
3.2.6. Содереггер Конрад. Миссия Израиля в
Ветхом Завете (скиния)
Приложение 1. Тематический указатель
Приложение 2. Библиографический указатель
Приложение 3. Иллюстративный материал
Современная архитектура призвана учитывать в своем развитии принцип гармонического сочетания новых форм
и стилей с уже устоявшимися в истории традициями зодчества, в том числе и храмового …
Церковь хранит историческую преемственность в поддержании традиций
храмового зодчества. Архитектура ее зданий
органически с содержанием Евангелия, умело и емко воплощая в своих
формах символику Божественного устроения мира, грядущего спасения человечества
и Бессмертия. Поэтому модернистские течения как таковые в традиции православной
Архитектуры не получили развития хотя и имели место. Опыт показывает, что
произвольное изменение облика храмов и монастырей как по причине духовных
веяний времени, так и вследствие урбанистических процессов отрицательно
сказывается на духовности общества.
Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II.
Из послания участникам выставки «Архитектура и религия»
на Росстройэкспо в 1996 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Размышление о храме
Православная Церковь обладает бесценным сокровищем не только в области
богослужения и святоотеческих творений, но и в области церковного искусства.
Как известно, среди прочих церковных искусств особо
значимое место занимает храмовая архитектура. И это естественно, потому что
храм в жизни Церкви - нечто гораздо большее, чем просто строение, каким бы ни
было оно замечательным, или место церковных собраний; храм - это полное и
органическое воплощение самой сути Церкви. В храме Церковь видит выражение
Православия в его целом, Православия как такового. Церковное искусство и жизнь
Церкви взаимосвязаны и взаимообусловлены - поэтому, ни понять, ни объяснить
церковного искусства вне Церкви и ее жизни невозможно.
Остановимся на самом понятии церковности искусства.
Церковностью является совокупность духовно-благодатной жизни Церкви, ее
дыхание, ее проявление в мире и в душе человека, ее свидетельство и проповедь.
Церковность - это язык, выражающий сущность Церкви. Без усвоения благодатного
духа Церкви не может существовать церковная жизнь. Все виды церковного
искусства - архитектура, иконопись, монументальная живопись, прикладное
искусство - дают в видимых образах и символах представление о духовном горнем
мире.
Наиважнейшим в Церкви является установленное Самим
Христом Спасителем таинство Евхаристии - центр духовной жизни Церкви, вершина
богослужения. Все богослужение в Церкви носит глубоко символичный характер;
богатый язык символов служит выражению глубин его содержания.
Как весь строй богослужебной жизни, так и все, что
находится в храме и сам храм, имеют свой, установившийся временем, канон
(устав). Вся церковная архитектура, монументальная живопись и иконопись
объединяются воедино особым изобразительным каноном. Священные изображения
охватывают собой весь круг церковного года, все события церковной жизни,
выражают всю полноту христианской веры и учительства.
В искусстве Церкви можно условно выделить две стороны:
внутреннюю и внешнюю, смыслообразующую и смыслосоставляющую. Главной из них,
безусловно, является внутренняя, в которой заключено духовно-догматическое
значение того, что внешней стороной заключено в видимые условные,
изобразительные (архитектурные, живописные) формы.
Искусство Церкви родственно мирскому искусству, имеет
историческую связь с ним, во многом выросло на его почве. Но, используя и в
определенной степени возрастая на опыте светского искусства, Церковь внесла в
искусство духовность, наполнив его высоким Содержанием, создав символы и образы
неповторимой глубины и своеобразия.
По своей сути церковное искусство принципиально
отличается от искусства светского (мирского), рассчитанного в первую очередь на
эстетическое восприятие. Именно на эту цель направлена вся сила воплощения
технических, художественных и идейных средств. Для светского искусства
критериями являются внешняя красота, изысканность, порой - экстравагантность
форм. В то же время критерием церковного искусства всегда был и есть исихазм,
лежащий в основе понимания всего восприятия мира. Если церковное искусство в
своей сущности и основе является отражением молитвенного опыта человека, то
светское искусство полностью пронизано духом чувственно-эстетическим. На
протяжении всего своего существования Церковь боролась прежде всего не за
художественную изысканность своих произведений, а за их подлинность, не за их
внешнюю красоту, а за внутреннюю правду.
Говоря о церковном искусстве в целом, необходимо помнить,
что оно включает в себя искусство Восточной Церкви и искусство Западной Церкви.
Основа церковного искусства как Востока, так и Запада одинакова, но по ходу
исторического развития происходили порой принципиальные различия. Если
церковное искусство Востока смогло взрастить, сохранить и во многом приумножить
древние традиции, основанные на символике и глубоком понимании его задач,
идущие от первых веков христианства, то церковное искусство Запада достаточно
быстро попало под воздействие искусства мирского и быстро растворилось в нем,
перейдя в искусство чувственно-эстетическое. Зачастую, особенно в Новейший
период истории, происходило проникновение подобного рода идей и образов
западного искусства в искусство восточное, в частности, в русское. Православная
Церковь голосом своих Соборов, святителей и верующих мирян всегда боролась с такими
влияниями, способными привести только к одному: постепенному обмирщению
церковного искусства и тем самым потере его основополагающего смысла.
Христианский храм как архитектурное сооружение имеет
длительную историю своего становления, начало которой - в первых веках
христианства. Прообразом христианского храма были ветхозаветная скиния и
Иерусалимский храм. Преемственно все христианские храмы связаны с Сионской
горницей, где Спасителем была свершена первая Евхаристия.
Каждый храм является образным воплощением догматического
учения Церкви, наглядным и осязаемым выражением всей полноты Церкви Христовой,
где соединены в одно целое небо и земля, Церковь торжествующая и Церковь
воинствующая, лики святых и прибегающие к их молитвенному предстательству
живущие на земле члены Церкви.
Храм изображает собою то святое и чистое состояние всего
сущего, в котором земное и небесное пребывали до грехопадения человека, в
котором теперь оно пребывает во Христе и в котором будут пребывать в вечности
после второго славного пришествия Христова. Православный храм своими настенными
росписями, иконами и всем архитектурным обликом предопределяет и сам путь
очищения и возрождения во Христе человека и всего творения в целом. Поэтому
православному храму с древнейших времен присваивается символическое значение
самого Христа, спасающего весь человеческий род.
Храм - место христианского богослужения; этой главной
цели подчинено все содержание храма. История храмоздательства отражает историю
развития богослужения. Храмовая архитектура всегда сочетается с ее
символической стороной, она олицетворяет видимое изображение высоких духовных
истин, образ догмата о Церкви. Храм - это место особого присутствия благодати
Божией. В храме человек восстанавливает свой божественный образ через приобщение
ко Христу. Возвращение же человека к своему подлинному существу неотделимо от
тайны соборности, от осознания себя членом тела Христова: «Ибо, как тело одно,
но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно
тело - как и Христос» (1 Кор. 12. 12).
Христианской символикой наполнено все церковное
богослужение, вся жизнь Церкви. Через символы приоткрывается верующим
определенная, всегда живущая в Церкви духовная реальность. «Мы не в состоянии
подниматься до созерцания духовных предметов - говорит святой Иоанн Дамаскин, -
без какого-либо посредства, а для того, чтобы подниматься вверх, имеем нужду в
том, что родственно нам и сродно». Реальность христианской символики не есть
реальность мира, но реальность высшая, духовная.
Православная символика не просто иллюстрирует
Божественную литургию - в первую очередь она раскрывает духовные истины,
содержащиеся в Евангелии и учении Церкви, сообщает догматическое видение Церкви
о мире небесном и земном, о Боге, Его отношении к миру и человеку. Иными
словами, в земных, вещественных знаках и образах церковная символика являет
догматическую картину мира, содержащуюся в православном вероучении.
Православная Церковь с древнейших времен хранила
богооткровенное знание как, в каком виде и в каких формах следует изображать
небесное и божественное, чтобы богооткровенное знание, соответствуя всей
глубине догматов Православной Церкви, давало верное представление об истине.
Откровение Божие явило эту истину Церкви в учении святых апостолов, семи
Вселенских Соборов и в святоотеческом наследии. И это - один из
основополагающих догматов Церкви. Поэтому человеческому воображению не должно
прибегать в Церкви к произвольному символотворчеству.
Вследствие греховной поврежденности современному человеку
часто бывает трудно понять значение церковной символики. Одна из причин этого
заключается в том, что земное, вещественное нередко так отягчает наше сознание,
что мы с трудом можем воспринимать внешнее в его неразрывном единении с
внутренним, духовным. Церковный символ соответствует своему небесному или
божественному первообразу, имеет в себе благодатное присутствие Божие и тем
самым исполняет свое предназначение.
Высокое значение православного храма заключено в
выражении в архитектурных формах сущности Церкви: быть местом, достойным для
совершения Божественной Евхаристии и всех таинств. Православный храм: его
устройство, утварь, иконы, росписи - несут на себе особую печать благодати
Божией, и печать этой благодати неизгладима. Все в храме имеет свой глубокий
смысл и литургическое значение. С момента своего освящения храм (дом Божий)
становится особым местом присутствия Бога.
Настоящая книга предназначается для широкого круга
читателей, интересующихся церковной архитектурой. Книга разделена на несколько,
хотя и довольно условных, разделов, которые включают изыскания разных авторов в
области храмоздательства, статьи и некоторые мысли. В основу плана положена
программа, намечающая круг важнейших вопросов, освещение которых необходимо для
понимания своеобразного художественного языка церковной архитектуры. Книга,
составленная на основе множества различных, как по времени написания, так и по
характеру и задачам, отдельных очерков, представляет собой вместе с тем единое
целое, объединенное общей идеей и общим планом.
При всей полноте собранного в этой книге материала
невозможно было, конечно, охватить ни всей сложности проблем, ни всего
богатства истории церковной архитектуры. Задачей составителя была попытка
представить наиболее полную картину мнений самых разных авторов и исследовательских
школ, существующих в отечественной науке. Изложение книги преимущественно
построено на методе сравнительных сопоставлений, причем применяется, между
прочим, и сравнение архитектурных произведений, относящихся к различным стилям
и эпохам. Сравнительный метод чрезвычайно удобен для раскрытия художественного
произведения вообще, хотя и не чужд известной односторонности, поскольку в нем
на первый план выступают, главным образом, те элементы, которые различны в
сопоставляемых вещах.
Настоящая работа имеет целью показать эволюцию
храмоздательства в ее исторической перспективе и, вместе с тем, незыблемость
сложившихся канонов и форм. Однако понимание церковной архитектуры далеко не
исчерпывается ее художественными свойствами. Собранные материалы в меньшей
степени затрагивают вопросы теории архитектуры, но прослеживают неразрывную
связь становления и развития архитектурных форм храма с догматикой,
литургическим действием и исторической традицией.
Кандидат богословия О.В. Стародубцев
Светлой
памяти приснопамятных
протопресвитера Иоанна Соболева
и протоиерея Глеба Каледы
посвящается
ВВЕДЕНИЕ
Милостью Божией в нашем Отечестве вновь появилась
возможность людям беспрепятственно посещать храмы, возрождать поруганные дома
Божий и строить новые. Для многих на этом пути встает множество вопросов:
почему русский православный храм именно таков, в чем заключается притягательная
сила древних храмов, какова должна быть архитектура современного православного
храма и так далее.
Сборник работ о православном храме в целом посвящен его
архитектуре, теме, которая пока не была доступна читателям в той степени, как,
например, тема иконописи, фресок, церковного пения и других видов церковных
искусств, которые существуют в синтезе с храмовой архитектурой, объединяющей их
в храмовом богослужении. Зачастую размышления о храме находятся в трудах,
посвященных иным вопросам: иконописи, литургике и др. Отдельные публикации о
храме, находясь в различных, порой труднодоступных для массового читателя
изданиях, не составляли полной картины. На современном этапе храмоздательства
эта тема чрезвычайно актуальна ввиду того, что понимание внутренней сущности
храма, его идеи, которая должна быть выражена архитектурной формой, для многих
архитекторов, проектирующих храмы, представляет определенную трудность и в ряде
случаев приводит к нежелательным последствиям, о чем говорится в вынесенном в
эпиграф послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Кроме профессионального интереса, материалы
сборника наверняка привлекут внимание и всех тех, кто хочет побольше узнать о
природе храмового зодчества, его связи с православной догматикой, богословием и
литургикой.
Помимо трудов, публикуемых полностью, сборник включает
фрагменты, извлеченные из печатных работ авторов. Наряду с многостраничными
работами, приведены и отдельные высказывания. Перед публикациями даны краткие
сведения об авторах, а в необходимых случаях приведены комментарии.
В связи с тем, что данный сборник является не
академическим исследованием, а изданием, популяризирующим вопросы храмовой
архитектуры, для облегчения восприятия текстов с характерными для научных
исследований многочисленными ссылками на первоисточники и комментарии многие из
них опущены. Читатель при желании сможет найти их в подлинниках. В некоторых
публикациях, связанных с репринтным воспроизведением орфографии
дореволюционного периода сделаны поправки, облегчающие чтение.
Встречающиеся в подлинниках различия написания первых
строчных или прописных букв приведены в большинстве случаев к единству,
опирающемуся на издание Церковно-Научного Центра «Православная энциклопедия»,
2000 г. Для поиска интересующей темы в приложении имеется тематический
указатель. Сборник снабжен также приложением с рекомендуемой библиографией.
В сборнике представлены размышления о храме святых отцов,
авторитетных церковных писателей и деятелей Православной Церкви прошлого и
настоящего времени, а также светских исследователей, стоящих на позициях
православного понимания храма как святыни, в том числе исследователей церковной
архитектуры советского периода.
Принятая структура сборника по авторам с хронологической
последовательностью позволяет проследить как динамику развития богословской
мысли о храме в исторической перспективе, так и авторское видение проблемы.
Так, в начальном периоде христианства святые отцы свв. Дионисий Ареопагит,
Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин разрабатывали теорию отражения небесных
первообразов в образах материального мира. В канонах апостолов, Вселенских
Соборов и святых отцов почти ничего не говорится о том, каким должен быть
христианский храм, его архитектура. Начиная с VIIX вв. с развитием литургики и одновременно храмовой
архитектуры, храм и его отдельные элементы начинают осмысляться символически, в
соответствии с происходящим в нем литургическим действием. Святые отцы: Герман
Константинопольский, Симеон Фессалоникийский, просвещенные Духом Святым, в
своих творениях донесли до нас истинное знание о тайнах домостроительства Божия
и, в том числе, о храме, как образе Его небесного Царства. На творениях святых
отцов основаны труды всех последующих исследователей темы храма. В этом же
разделе представлены труды русских святых далекого прошлого и недавнего
времени: преп. Иосифа Волоцкого и св. Иоанна Кронштадского.
Клирики Православной Церкви, в каком бы ранге
священноначалия они ни были, предстоя престолу Божию в храме, как никто другой
смогли прочувствовать и по возможности донести для читателей в своих трудах
духовное видение храма. Это помогало им найти верную позицию и при изложении
широкого спектра материалов по церковной археологии.
Раздел трудов клириков Православной Церкви при делении на
временные периоды имеет последовательность изложения в зависимости от церковной
иерархии авторов, что объяснимо, учитывая разницу в их духовном опыте.
Последовательность изложения во втором и третьем разделах
поделена на два этапа: конец XIX - первая
половина XX вв. и вторая половина XX в. Этот рубеж достаточно условен, так как
размышлять о храме даже в период господства коммунистической идеологии
запретить было нельзя, да и на Западе продолжали появляться публикации таких
отечественных исследователей, как протопресвитер Александр Шмеман, протоиерей
Сергий Булгаков и др.
В разделе работ светских исследователей авторы размещены
в алфавитном порядке. В данном случае большее значение имеет не столько ученое
звание автора, сколько степень его близости к церковному пониманию
рассматриваемого вопроса.
Православные миряне, обладающие обширными знаниями в
историко-искусствоведческой области, опираясь на святоотеческие творения,
творчески развили их мысли о храме, помогли ярче увидеть развитие
храмоздательства в исторической перспективе и обосновали необходимость
соблюдения канонической традиции в современном храмоздательстве.
В сборник вошли также отдельные работы зарубежных
исследователей, посвященные храмовой архитектуре. Так, американец Генри Геллей
и швед Эрик Нюстрем самым тщательным образом воспроизводят все детали,
связанные с постройкой ветхозаветной скинии и Иерусалимского храма.
Классическим трудом по системе мозаичного убранства византийских храмов
является работа австрийского исследователя Отто Демуса, на основе которой
выросла плеяда советских исследователей храмового искусства Византии.
Читатель без труда найдет разницу в изложении в каждом
разделе, оценивая каждый труд в меру возможностей его автора.
Объединенные общей темой храма, все эти работы охватывают
довольно широкий круг вопросов, в том числе церковного искусства, эстетики,
культуры и творчества, живописной декорации храма и освещения, качества
материалов, связи с литургикой, истории храмоздательства и архитектурных
особенностей храмов, в зависимости от времени и места строительства и др.
Многие работы носят универсальный характер. Подобно Четвероевангелию,
встречающиеся подчас повторы позволяют рассмотреть один и тот же вопрос с различных
сторон, увидеть новые подробности и интерпретации, связанные с задачей автора.
Основой для выбора работ для сборника был православный, опирающийся на
Священное Писание и церковное Предание, подход к рассматриваемым вопросам.
Основными темами работ, помещенных в сборнике, можно
назвать следующие:
1. Ветхозаветный храм. Говоря о
христианском храме, нельзя не сказать о храме ветхозаветном, который посещал в
Своей земной жизни Сын Божий и который был создан по прямому указанию Бога как
необходимый элемент спасения человека.
2. Христианский храм:
- ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ КАК СВЯТЫНЯ. В православном понимании
храм - место священное для молящегося, место особого присутствия Божия, т.е. то
понимание, которое было заповедано Богом еще с ветхозаветных времен. Этот вопрос
особенно актуален в наше время, когда в западном христианстве храм все более
превращается из святыни в место, где могут происходить и внебогослужебные
собрания;
- УСТРОЙСТВО И ЛИТУРГИЧНОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА.
Устройство храма непосредственно связано с богослужением, с его особенностями в
каждый период церковной истории и в каждой христианской конфессии. Православный
храм, как и чин богослужения, ведут свое происхождение из Византии
святоотеческого периода, когда вместе со сложением чина богослужения сложился и
идеально соответствующий ему архитектурный тип храма;
- УБРАНСТВО ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА. Так как храм является
носителем синтеза всех церковных искусств, в сборнике помещены размышления по
системе росписи храмов и иконостасам;
- ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА И ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО. В сборнике
представлены мысли по вопросам, связанным с христианской культурой и церковным
искусством, спецификой архитектурного творчества, которое должно осуществляться
в русле канонической традиции.
3. Храм как символ:
- ОБРАЗ И ПЕРВООБРАЗ. В сборнике собраны мысли церковных
писателей, которые раскрывают богословскую трактовку храма как образа Царства
небесного, таинственную связь образа с первообразом;
- СИМВОЛИКА ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА. В
приведенных работах подробно раскрывается один из наиболее сложных вопросов:
как материальная архитектурная форма может отображать духовный мир в его
многообразии образов.
4. История христианского храма, традиция и
канон:
- ИСТОРИЯ ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВА. В приведенных публикациях
рассказывается о происхождении храма, начиная с ветхозаветных времен, и развитии его архитектуры в новозаветное
время;
- ТРАДИЦИЯ И КАНОН В
АРХИТЕКТУРЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА. В отличие от иконописи, в храмоздательстве
практически нет писаного канона: какой должна быть храмовая архитектура. В
данном случае приходится говорить о канонической традиции, когда
преемственность развития храмовой архитектуры строится с ориентацией на
«образцы», принятые церковным сознанием как отражающие православное видение
храма;
- ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА. «Сочетание покаяния с надеждой на спасение» - так
определил митрополит Вениамин (Федченков) свое видение русского православного
храма в отличие от храмов христианского Запада. В то же время образ храма как
дома Божия, Царя небесного в русской храмоздательной практике воплощался в его
благолепном украшении;
- ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВА. В работах рассматриваются вопросы архитектурного образа
современного русского православного храма, связанного с византийской и национальной
традицией, современной интерпретации традиционных форм храмовой архитектуры.
Суммируя приведенные в
книге мысли о храме, можно сформулировать
СИМВОЛ РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА ДЛЯ
ХРАМОЗДАТЕЛЯ:
Православный храм - место святое, посвященное Богу, удел Божий, место
особого присутствия Бога на земле, Его благодати и всех святых небожителей;
врата небесные, где открывается вечность и вмещается бесконечность; место
богослужения, благоговейного предстояния, поклонения, прославления, молитвы и
сближения с Богом через таинства Церкви.
Православный храм имеет божественное происхождение, богооткровенное
устройство, тесно связанное с богослужением и ведущее начало от ветхозаветной
скинии, сотворенной по Божиему повелению. Форма и устройство храма связаны с
его содержанием, наполнены божественными символами, раскрывающими истины
Церкви, приводящими к небесным первообразам и постижению духовного Света.
Поэтому они не могут быть произвольно изменены.
Православный храм - образное воплощение догматического учения Церкви,
наглядное выражение сущности Православия, евангельская проповедь в образах,
камнях и красках, училище духовной мудрости; символический образ Самого
Божества, икона преображенной вселенной, горнего мира, Царства Божия и
возвращенного человеку рая, единства видимого и невидимого мира, земли и неба,
Церкви земной и Церкви небесной.
Православный храм предназначен для богослужения, таинства
Евхаристии, установившемуся временем каноническому чину которого отвечает
изобразительный канон, в том числе каноническая традиция храмовой архитектуры.
Частным выражением изобразительного канона являются школы и стили.
Православный храм строится по «образцам», выбор которых основывается
на соответствии православной догматике, вселенской православной и русской национальной
традиции храмоздательства. В конкретных условиях «образец» служит базой в
творческой работе по принципам православного церковного зодчества в
соответствии с поставленной задачей.
Православный храм - средоточие всего самого прекрасного на земле. Он благолепно
украшается как место, достойное для совершения Божественной Евхаристии и всех
таинств, в образ красоты и славы Божией, земного дома Божия, красоты и величия
Его небесного Царства. Благолепие достигается средствами архитектурной
композиции в синтезе со всеми видами церковного искусства и применением сколь
возможно лучших материалов.
Православный храм создается с помощью Божией людьми, творчество
которых, основанное на личное аскетическом, молитвенном и профессиональном
опыте, согласуется с духовной традицией и опытом Православной Церкви, а
создаваемые образы и символы причастны небесному первообразу - Царству Божию.
Понимание сакральной
сущности храма, его происхождения и принципов храмоздательства зиждется на
божественном Откровении, изложенном в Священном Писании, фрагменты из которого
предваряют настоящий сборник размышлений о храме.
Храм - место священное
Быт. 28.17, 18 Как страшно сие место! Это не иное что, как дом
Божий, эта врата небесные... и взял камень... и поставил его памятником; и возлил
елей на верх его.
Исх. 3.5 И сказал Бог (Моисею): не подходи сюда; сними
обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.
Исх. 29.43-45; 30.36 Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится
место сие славою Моею. И освящу скинию собрания и жертвенник... И буду обитать
среди сынов Из-раилевых, и буду им Богом... Это будет святыня великая для вас.
Лев. 19.30 Святилище Мое чтите. Я Господь, Бог ваш.
Храм - место особого присутствия Божия
Исх. 33.9 Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался
столб облачный и становился у входа в скинию, и (Господь) говорил с Моисеем.
Исх. 40.34 И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня
наполнила скинию.
Лев. 1.1. И воззвал Господь к Моисею, и сказал ему из
скинии собрания, говоря.
ЗЦар. 8.11 И не могли священники стоять на служении, по
причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень.
ЗЦар. 8.27, 29 Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес
не вмещают Тебя, тем более сей храм, который я построил... Да будут очи Твои
отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя
будет там».
ЗЦар. 9.3 Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы
пребывать имени Моему там во век; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни.
Иез. 43.7 И сказал мне: сын человеческий! это место престола
Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки.
1Пар. 29.1 Не для человека здание сие, а для Господа Бога.
2Пар.6.2 А я построил дом в жилище Тебе, (Святый), место
для вечного Твоего пребывания.
Мф. 23.21 И клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем.
Лк. 2.49 Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему.
1Тим.3.15 Дом Божий есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины.
Храм Божий - место специально приспособленное для
богослужения и молитвы
Ис. 56.7 Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов.
ЗЦар. 8.30 Когда они (народ Израиля) будут молиться на месте
сем; услышать на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй.
Мф. 21.12, 13 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех
продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих
голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется»; а вы
сделали его вертепом разбойников.
Лк. 24.52, 53 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с
великою радостью. И
пребывали всегда в храме,
прославляя и благословляя Бога.
Храм Божий имеет божественное происхождение и
богооткровенное устройство
Быт. 61.14, 15, 22 Сделай себе ковчег из дерева гофер... И сделай его
так: длина ковчега триста локтей; широта его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей... Сделал Ной все; как повелел ему Бог, так он и сделал.
Исх. 25.9, 40 Все, как Я показываю тебе, и образец скинии и
образец всех сосудов ее, так и сделайте... Смотри, сделай их по тому образцу,
какой показан тебе на горе.
1Пар. 28.11-13, 19 И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж
притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и
дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня
и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и
священнических и Левитских отделений, и всякого служебного дела в доме
Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня... Все сие в письмени от
Господа, (говорил Давид, как) Он вразумил меня на все дела постройки.
Откр. 11.1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано:
встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.
Откр. 11.19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчего
завета Его в храме Его.
Откр. 15.5 И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии
свидетельства на небе.
Откр. 21.12, 13, 16 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать
ворот... с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада
трое ворот... Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и
широта... И измерил он город тростью... длина и широта и высота его равны.
Евр. 11.10 Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого
художник и строитель Бог.
Евр. 8.5 Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению
скинии: «смотри», сказано, «сделай все по образцу, показанному тебе на горе».
Христианский храм строится по образцу скинии
Деян. 7.44 Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне,
как повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному.
Деян. 15.16-17 Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую,
и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа
прочие человеки и все народы.
Евр. 9.8, 9 Сим Дух Святый показывает, что еще не
открыт путь во святилище, стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего
времени... Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришед с большею и
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения.
Откр. 21.2, 3 И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа
своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними.
Прообраз храма Божия -
эдемский рай
Быт. 2.8; 3.8, 9 И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке; и
поместил там человека, которого создал... И услышал голос Господа Бога,
ходящего в раю... И воззвал Господь Бог к Адаму.
Храм Божий - воплощение единства неба и земли
Быт. 28.12, 13, 16, 17
И увидел (Иаков) во сне: вот,
лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, ангелы Божий восходят
и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней... Иаков пробудился от сна своего
и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем... Как страшно сие место!
это не иное что, как дом Божий.
Пс. 84.11, 12 Милось и истина сретятся, правда и мир
облобызаются, истина возникает из земли, и правда приникнет с небес.
Храм Божий благолепно украшается
Быт. 28.20, 22 И положил Иаков обет, сказав: если (Господь) Бог
будет со мною... то этот камень... будет (у меня) домом Божиим; и из всего, что
Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть.
1Пар. 22.5 Дом, который следует выстроить для Господа, должен
быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями.
1Пар. 29.2 Я заготовил для дома Бога моего золото для золотых
вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и
дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и
разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора.
2Пар. 3.5-7 Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил
его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими
камнями для красоты... И вырезал на стенах херувимов.
Лк. 21.5 Некоторые говорили о храме, что он
украшен дорогими камнями и вкладами.
Откр. 21.18, 19, 21 Стена его построена из ясписа, а город был чистое
золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими
драгоценными камнями... А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин... Улица
города - чистое золото, как прозрачное стекло.
Пс. 26.47 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту
Господню и посещать (святый) храм Его.
Храм создается с Божией помощью богоизбранными
людьми
Исх. 35.30, 31, 34,
35; 36.1 Смотрите, Господь
назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его
Духом Божим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством... И
способность учить других вложил в сердце его, его и Аго-лиава... Он исполнил
сердце их мудростию, чтобы делать всякую работу (для святилища)... И стал
работать Веселиил и Аголиав и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость
и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как
повелел Господь.
1Пар. 28.10, 20 Смотри же (Соломон), когда Господь избрал тебя
построить дом для святилища, будь тверд и делай... ибо Господь Бог, Бог мой, с
тобою; Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего
дела, требуемого для дома Господня.
Деян. 7.46, 47 Сей (Давид) обрел благодать пред Богом и молил,
чтобы найти жилище Богу Иакова, Соломон же построил Ему дом.
Молитвословия о храме. Молитва перед входом в
церковь
Возвеселихся о рекших
мне: в дом Господень пойдем. Аз множеством милости Твоея, Господи, вниду в дом Твой,
поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, на-стави мя правдою
Твоею, враг моих ради испра-ви пред Тобою путь мой; да без преткновения
прославлю Едино Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
веков.
Молитва по входе в
церковь
Поклонюся Тебе Господу Богу моему, присутствующему благодатию Твоею во святом храме сем, изрядне же в пречистых и животворящих Тайнах; Тебе истинному Христу, Спасителю моему, колена сердца моего преклоняю. Покланяюсь и твоей пренепорочной Матери, Пречистой Госпоже Деве Марии Богородице, помощнице, заступнице, ходатаице, единой надеже и упованию спасения моего. Почитаю святого ангела, слугу Твоего, хранящего божественный алтарь Твой выну: и вся святыя Твоя, на иконах изображенные, и мощами почивающие, любовью лобызаю. И молю Тя благого Владыку моего: да будут уши Твои выну внемлюще гласу молитвенному людей, молящихся Тебе во святем Твоем сем храме; почившие же у него помяни в небесном Твоем Царствии, презирая все согрешения их, яко благ и милостив во веки.
1.
ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
1.1. Каноны, или Книга Правил Святых Апостол,
Святых Соборов
Вселенских и Поместных и Святых Отец
(Изд.2-е, РПЗЦ, Монреаль, 1974, с. 6; 363.)
Книга Правил
является в Церкви Христовой записанным Преданием, а потому она также свята и
богодухновенна, как Священное Писание, как Святое Евангелие, из которого эта
книга выходит как логическая необходимость помочь православным христианам
держаться евангельского пути. Если жизнь по св. Евангелию есть путь в Царство
небесное, то Книга Правил служит вехами на этом пути (из предисловия к
изданию).
ХРАМ БОЖИЙ
Никто не должен созидать
храма без воли епископа. Храмы должны быть освящаемы с обычною молитвою и с
положением в них святых мощей (Правило 7 седьмого Собора, Ни-кейского, 783-787
гг.).
Храмы не расхищать и не
превращать в обыкновенные жилища, а превращенные восстанавливать (Правило 13
седьмого Собора, Никейского, 783-787 гг.).
Храмы Божий досточтимы
(Правило 2) Гангрского Собора, около 340 г.).
Кто учит пренебрегать дом
Божий, тот под клятвою (Правило 5 Гангрского Собора, около 340 г.).
Не должно оставлять
церкви Божией и делать особые (Правило 35 Лаодикийского Собора, около 364 г.),
(Правило 6 Гангрского Собора, около 340 г.).
Внутри храма не должно
есть, пиршествовать, ложе постилать и трапезу братолюбия совершать (Правило 74
шестого Собора, Трульского, 691 г.), (Правило 28 Лаодикийского Собора, около
364 г.), (Правило 51 Карфагенского Собора, 318 г.).
ЦЕРКОВЬ ДОМОВАЯ
Священнослужители могут
священнодействовать и крестить в молитвенных храминах, внутри домов
находящихся, с разрешения епископа (Правило 31 шестого Собора, Трульского, 691
г.), (Правило Константинопольского Собора, двукратного, 861 г.).
1.2. Святой Дионисий Ареопагит. О божественных
именах
(Памятники мировой
эстетической мысли. Т. 1, с. 334.)
Преп. Дионисий Ареопагит - афинский мыслитель, живший в 1 веке, автор знаменитых «Ареопагитик», оказавших большое влияние на развитие богословия в Византии и Западной Европе. Один из способов передачи информации в иерархической системе «Ареопагитик» связан с прекрасным.
Это благо воспевается
святыми богословами как прекрасное и красота, как любовь и предмет любви и
обозначается всеми прочими божественными именами, приличествующими благодатному
облику, который творит прекрасное и вместе с тем Сам прекрасен. Прекрасное же и
красоту следует различать на основе причины, сливающей целое в единство.
Различая во всем сущем причастность и причастное, мы называем прекрасным
причастное красоте, а красотой - причастность той причине, которая создает
прекрасное во всем прекрасном.
Пресущественно - прекрасное называется красотой потому, что от него
сообщается всему сущему его собственная отличительная для каждого краса, и оно
есть причина слаженности и блеска во всем сущем; наподобие света источает оно
во все предметы свои глубинные лучи, созидающие красоту, и как бы призывая к
себе все сущее, отчего и именуется красотой, и все во всем собирает в себе.
Прекрасное же, как всепрекрасное, есть вместе с тем сверхпрекрасное,
всегда сущее, одинаково прекрасное, не возникшее и не уничтожающееся, не
возрастающее и не убывающее, и не в одной части прекрасное, а в другой
безобразное, и не когда-либо прекрасное и когда-либо непрекрасное, и не
прекрасное лишь в отношении одного, а в отношении другого нет; и не здесь
такое, а там иное, и не изящное для одного и уродливое для другого. В самом
себе и в согласии с самим собою оно всегда единообразно прекрасно, возвышенно
излучая из себя глубинную красоту всего прекрасного.
Ведь в простой и сверхприродной природе всего прекрасного существуют
всяческая красота и всяческое прекрасное - единообразно, в соответствии с
причиной своей. Благодаря этому прекрасному, все сущее оказывается прекрасным,
каждая вещь в свою меру; и, благодаря этому прекрасному, существуют согласие,
дружба, общение между всеми; и в этом прекрасном все объединяется.
Прекрасное есть начало всего как действующая причина, приводящая целое в
движение, объемлющая все эросом своей красоты. И, в качестве причины конечной,
оно есть предел всего и предмет любви (ибо все возникает ради прекрасного). Оно
есть и причина - образец, ибо сообразно с ним все получает определенность. Вот
почему прекрасное и благое - одно и то же, ибо все по одной и той же причине
стремится и к прекрасному, и к благому, и нет ничего, что не было бы причастно
к прекрасному и благому. Осмелюсь даже сказать, что даже несуществующее причастно прекрасному и благому, ибо
прекрасное и благое в Боге едины тогда, когда воспеваются в отрешении от всего,
- это единое благое и прекрасное единственно есть причина разнообразных
прекрасных и благих вещей (MOG t.3 col. 701 пер. В.Зубова).
1.3.
Святой Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии
(Сатис, СПб., 1996 (по изд. 1893 г., с.
5-7; 12, 13.)
«Corpus Areopagiticum» (CA)
Дионисия Ареопагита получил широкое распространение в христианском мире после
532533 гг. в качестве одного из авторитетнейших источников христианской
философско-эстетической мысли. Последняя была настолько созвучна направлению
поисков художественного мышления того времени, что оно оказалось способным
воспринять идеи «Ареопагитик» в качестве своеобразной внутренней программы для
развития своего художественного языка. Огромна значимость СА и для последующего
развития средневековой философии, богословия и художественного мышления.
«Ареопагитики» являют собой практически полную, но еще не догматизированную
систему христианского мировосприятия, построенную под утлом зрения христианской
гносеологии - постижения Бога. Эта система, отталкиваясь от философии
неоплатонизма, выступает логическим завершением пятивекового этапа развития
христианской философско-религиозной мысли, (особенно ее александрийской ветви -
Климент Александрийский, Ориген, «великие каппадокийцы»).
Дионисий Ареопагит,
приняв в области философско-религиозного мышления антиномический принцип,
полностью вывел завершение процесса познания в непонятийную сферу -
сакрально-мистическую и эмоционально-эстетическую. Эстетические проблемы заняли
поэтому важное место в его системе (аналогичный процесс на Западе мы наблюдаем
у Августина) и играли в ней ведущую роль. Именно это и позволило
художественному мышлению христиан активно опереться на эту принципиально
«бессистемную систему», внутренне уже использующую художественные принципы.
Кратко сущность
философско-эстетической системы «Ареопагитик» заключается в следующем:
Дионисий Ареопагит
завершил своим учением длительный процесс развития антиномического учения о
трансцендентности Бога, умонепостигаемым образом имманентного миру
материального бытия. Бог одновременно является всем «что существует и однако
ничем из того, что существует», ибо Он «пребывает во всем и вне всего» (Ep.V. 1076A). Он превышает все сущее и несущее, все
постигаемое и непостигаемое. Он обитает по ту сторону бытия и не-бытия,
познаваемости и непознаваемости, но ту сторону «всеохватывающего отрицания»,
превышает любое «за» и любое «нет» (DN
11,4). Таким образом: «Бог познается во всем и вне всего, познается ведением и
неведением... Он, будучи всем во всем и ничем в чем-либо, всеми познается из
всего и никем из чего-либо» (DN VIL 3).
Разум и логическое
мышление смолкают на этой ступени познания, в действие активно включается
«мистическое постижение». Соответственно и объект познания описывается в
«Ареопагитиках» как Нечто, способное возбудить эмоциональную область психики,
вызвать к себе симпатию, влечение, любовь. Познание в акте любви (PJ.46.96C) -
важнейший аспект всей христианской гносеологии вообще, и Дионисий Ареопагит
представляет Бога в качестве абсолютной красоты, «сверхсущностно-прекрасного»,
которое является и творческой причиной всего сущего и источником всего
прекрасного и гармоничного в мире, и, собственно, объектом любви и пределом
всех стремлений и побуждений (DN IV, 7).
Для общения Бога с миром,
а главное (ибо Бог и так пребывает во всем) - для возможности познания Его
людьми, Дионисий создает теорию иерархии (имеющую раннехристианскую
гностическую и неоплатоническую традицию). Весь сознательный универсум между
Богом и человеком разделен в СА на две иерархические ступени: небесную и
земную. Небесная иерархия состоит из трех тройственных чинов бесплотных
существ: I - престолы, херувимы,
серафимы; II - господства, власти, силы;
III - начала, архангелы, ангелы. Земная (или церковная) иерархия также состоит
из трех триад: I - основные христианские
таинства: крещение, Евхаристия и миропомазание; II - священнослужители: епископы, священники,
диаконы; III - верующие: монахи,
верующие, катехумены (готовящиеся принять веру). Главная функция иерархии -
прием и передача (сверху вниз) «совершенного очищения, Божественного Света и сокровенного
знания» (СН VII,2). Передача «знания» в
иерархии осуществляется несколькими «непонятийными способами», основывающимися,
говоря современным языком, на эстетическом познании. Один из них, особенно
актуальный для высших ступеней иерархии, состоит в «богоподражании», в
«уподоблении» Ему. Это «подражание» «неподражаемой», трансцендентной идее
осуществляется не в художественных образах, а в самой сущности субъекта
познания, это - «неподражаемое подражание» (Ер. II 1068А). Иерархия на каждой своей ступени по
возможности «отпечатывает» в себе образ Бога (М III,2), т.е. является иерархией образов, все более
удаляющихся от архетипа по мере спуска по ее ступеням. О том, каковы эти
«образы» для небесной иерархии, СА не дает точной информации, кроме того, что
они неизоморфны и «неподобны» своему архетипу. Для материальной ступени
иерархии в СА теория образа и символа разработана более подробно.
Другой способ передачи информации в иерархической системе «Ареопагитик» связан с прекрасным. Ибо прекрасное и является одной из форм «богоподражания». Абсолютная красота, подобно свету, излучается, никогда не убывая, в иерархию небесных и земных существ, организованных по образу этой красоты, но отражающих ее в различной степени (степень причастности абсолютной красоте обратно пропорциональна степени материализации иерархических чинов).
Еще один из главных
способов передачи знания в иерархии - с помощью «богоначальных озарений» (СН IХ,2), Божественного Света, различной (в
зависимости от ступени) степени материализации. Свет происходит от «Блага» и
имеет две качественно различные формы: физический, видимый свет и «Свет
духовный». Видимый свет, прежде всего свет солнца, является двигателем всей
органической жизни на земле. Духовный Свет выполняет чисто гносеологическую функцию.
Благо сообщает сияние этого Света всем разумным существам в соответствующей их
воспринимающим способностям мере, а затем увеличивает его, изгоняя из душ
незнание и заблуждение (DN IV.5.). Свет этот стоит
превыше всех разумных существ, находящихся под миром, является «первосветом» и
«сверхсветом». Он объединяет все духовные и разумные силы друг с другом и с
собой, совершенствует их и обращает «к истинному бытию».
Большая часть информации
в структуре небесной иерархии и от небесных чинов к земным передается в форме
духовного Света, который иногда принимает образ видимого сияния. По словам
Дионисия, «благость божественного блаженства» распространяется в виде
постоянного количества лучей света ко всем «мысленным очам» (ЕН II. 3,3). Отсюда и таинство крещения, приводящее
человека в Христову Церковь, т.е. приобщающее его к системе иерархии, дающее
ему «первоначальный Свет», называется «таинством просвещения» (ЕН II.2).
Световая информация постоянно излучается Богом и называется Дионисием фотодосией (светодаянием). Являясь посредником между двумя далекими друг от друга уровнями бытия, фотодосия описывается в СА с помощью антиномии: она «никогда не покидает свойственного ей внутреннего единства и, благоподобно раздробляясь и предводительствуя нас к горнему и объединяющему с премирными умами соединению, невидимо остается внутри самой себя, неизменно пребывая в неподвижном тождестве» (СН I.2).
Рубеж небесной и земной
ступеней иерархии «луч фотодосии» может преодолеть несколькими способами.
Во-первых, он непосредственно проникает в душу мистика, погруженного в
молчаливое созерцание. Это состояние стремились передать восточно-христианские
живописцы при изображении святых в росписях и на иконах. Во-вторых, просвещение
верующих светом Божественной благодати происходит в таинствах Церкви. Именно
чин таинств Дионисий поместил на границе между небесной и земной иерархиями. И,
в-третьих, «луч фотодосии» переходит в новое качество, таинственно скрываясь
«под разнообразными священными завесами» (СН I,2) типа различных чувственно воспринимаемых
образов, изображений, символов, знаков, организованных в соответствии с
возможностями нашего восприятия. «Духовный Свет» становится главным содержанием
всех этих материализованных феноменов, созданных, как правило, специально для
его передачи, в том числе и образов изобразительного искусства и архитектуры.
Воспринимается он соответственно не физическим зрением, но «глазами ума»,
«мысленным взором».
Для этого наиболее
обширного и доступного практически всем верующим уровня познания Дионисий разрабатывает
символическую теорию. Ибо только посредством «символических священных
изображений» человек может подняться «к простому совершенству небесной
иерархии» (СН I,3), приблизиться
«неизреченно и непостижимо к неизрекаемому и непознаваемому» (DN I,1). Символ выступает в «Ареопагитиках» наиболее
обобщенной философско-религиозно-эстетической категорией, включающей в себя
знак, образ, изображение, прекрасное, ряд других понятий, а также многие
предметы и явления реальной жизни и особенно церковной богослужебной практики,
как свои конкретные проявления в той или иной сфере. На материальном уровне вся
информация о высших истинах заключена в символах, ибо «все о небесных существах
сверхблагопристойно передано нам в символах» (СН I,3).
Символы и условные знаки
возникали, по учению Дионисия, не ради самих себя, но с определенной и притом
противоречивой целью одновременно выявить и скрыть истину. С одной стороны,
символ служит для обозначения, изображения и тем самым для выявления
непостижимого, «бесконечного в конечном, чувственно воспринимаемом» (Ер. IX.1.). С другой, - он является оболочкой, покровом
и надежной защитой невыговариваемой истины от глаз и слуха «первого
встречного», недостойного познания истины (Ер. IX. 1,110 5с). В символе позволяют осуществить эти
взаимоисключающие цели, особые формы хранения истины в нем. К таким формам
Дионисий относит «красоту, скрытую внутри» символа и приводящую к постижению
сверхсущностного, духовного света (Ер. IX. 1,110 5с; 2,110 8с). Таким образом, непонятийная
информация символа воспринимается стремящимися к ее познанию прежде всего
сугубо эмоционально в форме «красоты» и «света». Однако речь идет не о внешней
красоте форм, а о некой обобщенной духовной красоте, содержащейся во
всевозможных символах - словесных, изобразительных, предметных и т.п. Красота
же эта открывается только тому, кто «умеет видеть». Поэтому необходимо учить
людей этому «видению» символа. Дионисий сам объясняет «все многообразие
символических священных образов», ибо без такого объяснения многие символы
кажутся невероятными для простого человеческого понимания. Самой
«несообразностью изображений» исходные образы поражают зрителя и ориентируют
его на нечто, противоположное изображенному - на абсолютную духовность (СН II.5). Потому что все, относящееся к духовным
существам, подчеркивает Дионисий, следует понимать совершенно в другом, как
правило, диаметрально противоположном смысле, чем это обычно мыслится
применительно к предметам материального мира (СН II,4).
Полное познание символа
приводит к неисчерпаемому изысканному наслаждению от созерцания неописуемого
совершенства и восприятия божественной мудрости, т.е. практически к
эстетическому завершению процесса познания. Но это постижение доступно только
людям, достигшим полной нравственной чистоты и «простоты ума», позволяющим им
преодолеть защитный покров символизма и от множества символов подняться к
духовному постижению единой, «простой и объединяющей истины», «успокоившись от
всякого человеческого способа мышления, сдерживая деятельность разума» (DN 1.4).
Философско-эстетическая
система «Ареопагитик» оказала сильное влияние на систему художественных образов
восточно-христианского искусства. В памятниках византийского,
древне-грузинского, старославянского искусства, особенно в храмовых росписях,
можно найти много почти буквальных иллюстраций к текстам «Ареопагитик»
(изображения Пантократора, небесных чинов, образы святых); и обратно, пользуясь
текстами «Ареопагитик» (огромной потерей является утрата «Символической
теологии» Дионисия), можно «читать» многие символические изображения
христианского искусства, в том числе и символику основных цветов.
Главное влияние
«Ареопагитик» на восточно-христианское искусство может быть кратко выражено
следующим образом:
1. В системе
«Ареопагитик» сформулировано философско-религиозное понимание функции
искусства, присущее практически всей восточно-христианской (ортодоксальной)
культуре. Образы искусства занимают в иерархии Дионисия промежуточное место
между небесной и земной ступенями и служат для передачи особого знания в
специфической (непонятийной прежде всего) форме. Они должны, в первую очередь,
возбуждать психику человека и ориентировать ее особым образом на постижение
высших истин, возводить его к первопричине.
2. Развернутая теория
символа открывала неограниченные возможности перед изобразительным искусством
при изображении неизобразимого, умонепостигаемого, трансцендентного Бога при
том условии, чтобы изображение затем было подвергнуто верной расшифровке.
3. Целостная структура
иерархического универсума, описанная в «Ареопагитиках» явилась теоретическим
прообразом системы храмовой росписи. Ибо храм представлялся христианам
сакральным микрокосмосом, подобным божественному универсуму. Соответственно
организовывалась и система росписей от Пантократора в куполе, через небесные
чины, иногда изображения таинств, Христа и Богоматери (как предстоящих, так и в
евангельских сценах) к святителям, мученикам, монахам в нижних регистрах
росписи. При этом главной задачей как ареопагитовской иерархии, так и системы
росписей восточно-христианского храма, являлась передача знания.
4. Как указывает
Дионисий, знание это передается прежде всего в форме света. И это положение
было использовано восточно-христианскими мастерами. Сложная система освещения
храма, золотые фоны, сверкающая смальта мозаик, потемнение и утяжеление
цветовой гаммы росписей от верхних регистров к нижним, особая организация
пробелов на ликах, ассиста на одеждах - все это наглядно подтверждает, что
восточно-христианские мастера внутренне опирались на эстетику и мистику света
автора «Ареопагитик». (Комментарий Бычкова В.В.)
Князь Трубецкой Е.Н.,
вторя «Ареопагитикам» Дионисия, осмысливает изображения святых в храмовой
росписи в иерархическом смысле: «Отличие святых в их подчиненности храмовому
целому или, что то же, - в их архитектурной соборности. Каждый из них имеет
свое особое, но всегда подчиненное место в той храмовой иконописной лестнице,
которая восходит ко Христу. В православном иконостасе эта иерархическая
лестница святых вокруг Христа носит характерное название чина».
Глава I
§3
...Невещественные чины
представлены в различных вещественных образах и уподобительных изображениях, с
тою целью, чтобы мы, по мере сил наших, от священнейших изображений восходили к
тому, что ими обозначается, - к простому и не имеющему никакого чувственного
образа. Ибо ум наш не иначе может восходить к близости и созерцанию небесных
чинов, как при посредстве свойственного ему вещественного руководства: т.е.
признавая видимые украшения отпечатками невидимого благолепия, чувственные
благоухания - знамениями духовного раздаяния даров, вещественные светильники -
образом невещественного озарения, пространные в храмах предлагаемые наставления
- изображением умственного насыщения духа, порядок видимых украшений -
указанием на стройный и постоянный порядок на небесах, принятие Божественной
Евхаристии - общением с Иисусом; кратко, все действия, принадлежащие небесным
существам, по самой их природе, нам преданы в символах ... дабы мы через
чувственное восходили к духовному и через символические священные изображения -
к простой, горней, небесной иерархии.
Глава II. (О том, что Божественные и
небесные предметы прилично изображаются под символами, даже с ними и
несходными)
§1
Богословие употребило священные пиитические изображения для описания умных
сил, не имеющих образа, имея в виду ... наш разум, заботясь о свойственной и
ему сродной способности возвышаться от дольнего к горнему, и приспособляя к его
понятиям свои таинственные священные изображения.
§4
...И от маловажных предметов вещественного мира можно заимствовать образы,
не неприличные для небесных существ, потому что мир сей, получив бытие от
Истинной Красоты, в устройстве всех своих частей отражает следы духовной
красоты, которые могут возводить нас к невещественным первообразам, если только
мы будем самые подобия почитать ... несходными и одно и то же принимать не
одинаковым образом, а прилично и правильно различать духовные и вещественные
свойства.
1.4.
Преподобный Максим Исповедник. Тайноводство
(Писания св. отцов и
учителей Церкви. Т. 1, Спб., 1855, с. 304-307.)
Св. Максим
Исповедник (580662) византийский богослов, комментатор «Ареопагитик», главный
оппонент монофелитов. Написал трактат «Мистагогия» около 630 г., за век до св.
Германа (657718). Его толкование является первым собственно византийским
толкованием.
Св. Максим
рассматривает богослужение на двух уровнях, один из которых он называет общим,
а другой - частным.
Храм, во-первых,
есть образ всей вселенной: «Святая церковь Божия есть образ и изображение
целого мира, состоящего из сущностей видимых и невидимых... Она ... делится на
место, предназначенное только для иереев и служителей, которое называется у нас
алтарем, и место, доступное для всех верующих, именуемое у нас храмом. Но, с
другой стороны, она остается единой по ипостаси, не допуская разделения своих
частей, (могущего произойти) вследствие различия их между собой... Подобным
образом и весь мир сущих, получивший начало от Бога, делится на мир,
образованный из умных и бесплотных сущностей, и на здешний мир, чувственный и
плотский... И образ бытия нерукотворной Церкви мудро проявляется посредством
этой рукотворной: горний мир в ней - словно алтарь, посвященный вышним силам, а
мир дольний, предоставленный тем, кому выпала на долю жизнь чувственная,
подобен храму». «...Святая церковь Божия есть также символ и одного
чувственного мира самого по себе. Ибо божественный алтарь в ней подобен небу, а
благолепие храма - земле. Точно так же и мир есть церковь: небо здесь подобно
алтарю, а благоустроенность земного - храму».
На частном уровне
рассмотрения церковь символизирует человека: «Святая церковь Божия есть
человек; алтарь в ней представляет душу, божественный жертвенник - ум, храм -
тело. Потому что церковь является образом и подобием человека, созданного по
образу и подобию Божию. И храмом, как телом, она представляет нравственную
философию; алтарем, словно душой, указывает на естественное созерцание;
божественным жертвенником, как умом, проявляет таинственное богословие».
Глава I. (Каким образом и в каком отношении святая
Церковь есть образ и подобие Божие)
По самому первоначальному созерцанию св. Церковь... носит образ и подобие
Божие: потому что она по подражанию совершает действия, подобные (делам
Божиим)... Святая Церковь Божия является, как образ начало образа, совершающего
в отношении к нам действия, подобные делам Божиим... она всем равно сообщает и
дарует один Божественный образ... так что все и были и представлялись одним
телом (составленным) из различных членов, истинно достойных самого Христа -
истинной Главы нашей (Еф. 4. 15).
Таким образом, святая Церковь Божия есть образ Бога: потому что она,
подобно Богу, объединяет верующих, хотя соединяемые его через веру различные
бывают между собою по своим свойствам, ... примеряя и сближая находящихся между
ними отличия силою направления к Себе и объединения в Себе, как причине, начале
и конце.
Глава II. (О том, каким образом и в каком отношении святая церковь есть образ мира,
состоящего из существ видимых и невидимых)
По силе другого
умозрения, святая церковь Божия есть образ и подобие мира в целом его составе,
состоящего из существ видимых и невидимых; так как в ней примечается подобное
же и единство и разделение, как и в мире. Составляя, по устройству, одно
здание, она, по некоторой особенности в отношении к расположению своего
состава, имеет разновидность, разделяясь на (две части) - на место,
предоставленное одним иереям и священнослужителям, называемое у нас святилищем,
и - место, открытое для входа всем верующим, называемое у нас храмом. Но с
другой стороны, в целом она едина, - не раздробляется вместе со своими частями,
по взаимному различию самих частей, но отнимает у самих частей существующее
между ними в названиях различие совокуплением их в одно в себе, выражая обоими
ими (именами частей) одно и каждое из них прилагая к той и другой, тогда как
каждая остается тем, чем есть, - и именно - храму (давая название) святилища,
поколику он освящается силою тайнодействия по сопредельности его (со
святилищем), и святилищу имя храма, так как для
совершения свойственного ему священнодействия храм (в котором устраивается и
святилище) составляет необходимое условие, - а сама при обоих остается одною и
тою же. Таким-то образом, и весь существующий мир, получивший начало от Бога,
разделяющийся на мир духовный, который составляют умные и бесплотные существа,
и этот мир чувственный и вещественный, который величественно сложен из многих
видов существ, будучи как бы другою, некоею нерукотворенною Церковью, мудро
изображается сею рукотворен-ною, имея мир горний, назначенный для вышних сил,
как бы святилищем, а - мир дольний, представленный (существам), получившим в
удел жизнь чувственную, как бы храмом. При всем том мир один: он не разделяется
вместе с частями своими, а, напротив, покрывает различие самых частей по их
естественным особенностям силою отношения их к его цельности и нераздельности,
так что они несметно составляют одно и с ним и между собою, одна входит в
другую, и обе, как части, составляют один мир, в нем, как целом, оставаясь
особными и действительными частями.
Ибо весь
мысленный мир таинственно в символических образах представляется изображенным в
мире чувственном для тех, кои имеют очи видеть и весь мир чувственный, если
любознательно умом разбирать его в самых началах, заключается в мире мысленном:
этот в том своими началами, а тот в этом своими образами.
Если же и
невидимое открывается посредством видимого (невидимая, бо Его от создания мира
творениями помышляема видима суть - Рим. 1.20), то, сомнения, для упражняющих
свой ум в духовном созерцании еще гораздо легче будет уразуметь видимое по
невидимому. Ибо созерцание мысленного в символах при помощи видимого есть
вместе духовное познание и уразумение видимого посредством невидимого: потому
что вещи, которые взаимно объясняют одна другую, необходимо должны иметь на
себе совершенно точные и явственные отражения одна другой, и связь между ними
должна быть неразрывная.
Глава III. (О том, что святая церковь Божия есть также
образ чувственного мира в отдельности)
Святая
церковь Божия есть символ и одного чувственного мира в отдельности. Как бы небо
у нее божественный алтарь; а земля - благолепие храма. Равным же образом, и мир
представляет собой церковь, имея небо, соответствующее святилищу, и украшение
земли, соответствующее храму.
Глава IV. (Каким образом и в каком отношении святая
церковь Божия служит символическим образом человека и сама им образуется, как
бы человек?)
По иному
способу созерцания святая церковь Божия подобна человеку, имея святилище -
душу, божественный жертвенник - ум, и храм - тело, и служа как бы образом и
подобием человека, созданного по образу и подобию Божию. В храме, т.е. в теле
проповедуется нравственное любомудрие; в святилище, т.е. в душе сообщается
духовный смысл естественному созерцанию, а в уме, т.е. в божественном
жертвеннике открывается таинственное богословие. И наоборот, человек есть в
таинственном смысле церковь, в теле, как бы в храме, проявляя деятельную силу
души исполнением заповедей по силе нравственного любомудрия; в душе, как бы в
святилище, принося Богу, при помощи слова, как плод естественного умозрения,
вытекающие из сердца слова, совершенно очищенные духом от всего вещественного,
наконец, в уме, как в жертвеннике, входя в сокровенное на неприступной высоте
многопетое неявленного и неведомого великолепия безмолвие Божества, при помощи
некоего многоречивого и многозвучного молчания, и, сколько возможно для
человека, по силе таинственного богословия пребывая с Ним (с Божеством) и
делаясь таким, каким поистине должен быть тот, кто удостоился приближения Божия
и осияния Его всесветлыми лучами.
Глава V. (Каким еще образом и в каком отношении святая
церковь Божия есть образ и подобие души, рассматриваемой в самой себе?)
Святая
церковь может быть образом не только всего человека в (целом) его составе,
состоящего из души и тела, но и одной души, рассматриваемой отдельно.
... Святая
церковь Божия, в созерцании уподобляемая (душе), будет сходна с душою. Все, что
касается ума и что последовательно происходит из ума, в ней знаменуется
святилищем; все, что касается слова и что происходит из слова в отдельности
изображается через храм; наконец, все сводит она к таинству, совершаемому на
божественном жертвеннике. Кто мог, по благоразумению и мудрости, от того, что
совершается в церкви, возвыситься к созерцанию этих тайн, тот поистине сделал
свою душу церковью Божией и божественной. Для нее-то, быть может, дана нам и
церковь рукотворная, которая разнообразием божественных (вещей), находящихся в
ней, символически изображает душу, с той целью, чтобы вести нас к лучшему.
Глава XXIV
Святая
церковь есть образ и подобие Божие, потому что и она благодатию веры производит
в верующих такое же неслиянное единение, какое в различных существующих вещах
производит своим бесконечным могуществом и мудростию Творец, все содержащий в
Себе. Всех верующих она единообразно соединяет между собою одною благодатию и
званием веры: деятельных и добродетельных - единомыслием, а тех, которые
посвятили себя созерцанию и ведению, сверх того, неразрывным и нераздельным
согласием. (Святая церковь) есть, с другой стороны, образ и мысленного и
чувственного мира, потому что в ней есть святилище - символ мысленного мира, и
храм - чувственного. Она, далее, есть образ человека, так как святилище
представляет душу, а храм - тело. Она же есть образ самой души, рассматриваемой
в себе самой, потому что святилищем изображается слава (способности)
созерцательной, а храмом знаменуется красота (силы) деятельной.
1.5.
Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры
(М., Братство св. Алексия, Ростов-на-Дону, 1992,
с. 289, 290; 307, 308.)
Св. Иоанн Дамаскин (+780) -
обличитель иконоборческой ереси, автор многих богословских произведений, в т.ч.
трех защитительных слов «Против порицающих святые иконы или изображения»
О поклонении на восток
Мы
поклоняемся на восток не просто и не случайно. Но, так как мы сложены как из
видимой, так и невидимой, то есть духовной и чувственной природы, то и
поклонение Творцу предлагаем двоякое, подобно тому как и поем как умом, так и
телесными устами, и крестимся как водою, так и духом, и двояким обрядом
соединяемся с Господом, имея участие в таинствах и в благодати Духа.
Итак, потому
что Бог есть духовный Свет, и Христос в Писаниях назван Солнцем правды и
Востоком, для поклонения Ему должно посвятить восток. Ибо все прекрасное должно
быть посвящено Богу, Которым всякое благо делается хорошим. Говорит же и
божественный Давид: Царства земная пойте Богу, воспойте Господеви, восшедшему
на небо небесе на востоки. А также Писание еще говорит: Насади Бог рай во Едеме
на востоцех, и введе тамо человека, его же созда; его согрешившего, Он изгнал, и
всели прямо рая сладости, без сомнения, на западе. Итак, мы, отыскивая древнее
отечество и пристально смотря по направлению к нему, покланяемся Богу. А также
и скиния Моисеева на востоке имела завесу и очистилище. И колено Иудово, как
более уважаемое, располагалось станом с востока. А также и в славном храме
Соломоновом врата Господни находились к востоку. Но, конечно, и Господь,
распинаемый, смотрел на запад, и таким образом мы поклоняемся, пристально
смотря на Него. И возносясь, Он поднимался по направлению к востоку, и таким
образом Ему поклонились апостолы, и Он такожде приидет, имже образом увидели
Его идуща на небо; подобно тому, как Сам Господь сказал: Якоже молния исходит
от восток и является до запад, тако будет и пришествие Сына человеческого. Итак,
ожидая Его, поклоняемся на восток. Это же - записанное предание апостолов. Ибо
они многое передали нам, не изложив письменно.
Об иконах
Бог искони
сотворил человека по образу Своему. Итак, из-за чего мы поклоняемся друг другу,
если не потому, что мы сотворены по образу Божию? Ибо, как говорит
богоглаголивый и сильный в толкованиях божественных предметов Василий, «честь,
воздаваемая изображению, переходит на первообраз». А первообраз есть то, чей
образ отпечатлевается, то, с чего получается снимок. Для чего Моисеев народ со
всех сторон поклонялся скинии, имевшей образ и вид небесных вещей,
преимущественнее же - всего творения? Действительно, Бог говорит Моисею: виждь,
да сотвориши вся по образу показанному ти на горе. А также и херувимы,
осенявшие очистилище, разве не были делами человеческих рук? А что бывший в
Иерусалиме славный храм? Не рукотворенный ли - он и не был ли сооружен
искусством людей?
1.6.
Святой Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святыя иконы
или изображения
(РФМ, 1993, с. 6-8; 14-16; 60-62.)
Первое защитительное слово
VIII... Мы же получили от Бога способность различать, и знаем - что
может быть изображаемо и что не может быть выражено посредством изображения.
IX. ... Изображение есть подобие с отличительными свойствами первообраза,
вместе с тем имеющее и некоторое в отношении к нему различие. Ибо изображение
не во всем бывает подобно первообразу...
X. В Боге есть также
изображения и образцы тех вещей, которые имеют от Него быть... Святой
Дионисий... называет эти изображения и образцы предопределениями. Ибо на совете
Его все им предопределенное и имевшее ненарушимо случиться в будущем, было
прежде всего своего бытия с точностью определяемо, подобно тому как, если кто
либо желает построить дом, то сначала в уме начертывает и изображает его форму.
XI... Изображениями являются
видимые вещи, телесно выражающие те предметы, которые невидимы и лишены формы,
чтобы они хоть неясно были постигаемы умом... мы не в состоянии подниматься до
созерцания духовных предметов без [какого либо] посредства, и для того, чтобы
подняться вверх, имеем нужду в том, что родственно [нам] и сродно. Поэтому,
божественное Слово, предусматривая нашу способность к восприятию, отовсюду
доставляя нам то, что способно поднять вверх, облекает некоторыми образами как
предметы простые, так и не имеющие образов...
XVII. И всюду ставим
чувственно выраженный образ Его ... ведь изображение есть напоминание: и чем
является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных
служит изображение; и что для слуха - слово, это же для зрения - изображение;
при помощи же ума мы вступаем в единение с ним. По этой причине Бог повелел,
чтобы кивот Завета был... для напоминания о случившемся и предизображения
будущего. Образы были положены для напоминания... как приводившие к
воспоминанию о божественной деятельности.
XX... храм созидая, Соломон
сделал херувимов, как говорит книга Царств. И обложил херувимов золотом, также
и все стены кругом... Соломон, получивший излияние мудрости, изображая небо,
сделал херувимов...
Второе слово
XIII. Ты хулишь вещество и
называешь презренным? Это также [делают] и Манихеи; но Божественное Писание
провозглашает его прекрасным. Ибо оно говорит: «и видь Бог вся, елика сотвори:
и се добра зело». Итак, я признаю, что вещество - творение Божие и что оно -
прекрасно... Итак, смотри - что говорит Божественное Писание о веществе... «И
рече Моисей ко сонму сынов Израилевых, глаголя: сие слово, еже завеща Господь,
глаголя: возьмите от себе самих участие Господу: всяк по воле сердца своего, да
принесет начатки Господу; злато, сребро, медь, синету, багряницу, червленицу
сугубо спрядену, и виссон сканый, и волну козию, и кожи овни очерв-лены, и кожи
сини, и древеса негниющи, и елей помазания, и в сложение фимиама, и камени
сардийски, и [камени] в ваяние, на ризу верхнюю, и на подир. И всяк премудрый
сердцем в вас, шед да делает вся, елика заповеда Господь, скинию.
XIV... Вот, подлинно, и дела
рук человеческих и изображение херувимов; также и вся эта скиния была образом.
Ибо «виждь, говорит Бог Моисею, да сотвориши все по образу, показанному тебе на
горе». И, однако, весь Израиль, [стоя] кругом [ея], поклонялся [пред ней].
Итак, почитаю вещество, чрез которое соделалось мое спасение, и благоговею
[пред ним], и поклоняюсь [ему]. Но почитаю не как Бога, а как исполненное
божественного действия и благодати.
XXII.Итак, что скиния и
завеса, и кивот завета, и трапеза, и все, находящееся в скинии, были подобия и
образы, и дела рук человеческих, которым поклонялся весь Израиль; а еще и то,
что изваянные херувимы были сооружены по повелению Божию, - [это] достаточно
доказано [нами выше]. Ибо Бог говорит Моисею: виждь, да сотвориши все по
образу, показанному тебе на горе.
XXIII. Замечай, что и закон, и
все, сообразное с ним, и все служение, имеющее у нас место, суть рукотворенная
святая, приводящяя нас к невещественному Богу при посредстве вещества.
Третье слово
XXI... Мы не в состоянии
подниматься до созерцания духовных предметов без [какого-либо] посредства, и
для того, чтобы возвыситься, имеем нужду в том, что родственно [нам] и сродно.
1.7. Святой
Герман Константинопольский.
Сказание о церкви
и рассмотрение таинств
(М., МАРТИС, 1995, с.
43-49.)
Св. Герман (657718)
Константинопольский, патриарх (715730) - сыграл ведущую роль на VI Вселенском Соборе и выступал против
иконоборческой ереси. Работа «Сказание о церкви» представляет собой
литургическое толкование, развивающее традицию «Мистагории» преп. Максима
Исповедника.
Церковь есть храм Божий,
место священное, дом молитвы, собрание народа, тело Христа. Имя ей - невеста
Христа...
Церковь есть земное небо,
в котором живет и обращается небесный Бог.
Апсида соответствует
Вифлеемской пещере, где родился Христос, и пещере, где Он был погребен...
Святая трапеза
соответствует месту гроба, где положили Христа... Она есть также и Божий
престол...
Киворий1
соответствует месту, на котором распят был Христос... Он также соответствует
ковчегу завета Господня, в котором, как говорят, заключалось святое святых и
святыня Его...
Жертвенник соответствует
святому Гробу Христову... Жертвенник соответствует небесному и мысленному
жертвеннику и называется по образу его...
Алтарное возвышение есть
основание и трон, на котором восседает Царь всех Христос во главе Своих
апостолов...
Преграда обозначает место
молитвы, показывая внешней стороной пространство, куда входит народ, а
внутренней - святая святых, куда дозволен доступ одним священнодействующим.
Амвон служит образом
камня у святого гроба, на котором, отвалив его от входа, воссел ангел при двери
Гроба...
Молиться на восток,
подобно всему прочему, предано от святых апостолов. Установлено же это потому,
что мысленное Солнце правды - Христос Бог наш - явилось на земле в тех
странах, где восходит солнце чувственное... потому что на востоке надеемся мы
снова обрести Эдемский рай и ожидаем восхода светоносного второго пришествия
Христа Бога нашего.
Литургия во
времена св. Германа
Начнем с краткого
описания того, как совершалась литургия в Константинополе в VIII в. Чтобы правильно понять толкование св. Германа,
нам необходимо зримо представить себе описываемое им богослужение, ибо он
объяснял в первую очередь именно видимую сторону обряда. Между тем византийская
литургия, совершаемая в Святой Софии - кафедральном соборе столицы империи,
представляла собой впечатляющее зрелище. Именно сильное воздействие этого
зрелища, а не какие-либо рациональные рассуждения, побудило в 987 г.
посланников русского князя Владимира доложить ему: «Мы не знали, на небе мы или
на земле, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как
описать это. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми»2.
Действительно, трудно описать словами даже сам храм Святой Софии, построенный
при императоре Юстиниане (527565) и освященный в 537 г. «По своим размерам он
входит в число величайших рукотворных сооружений на земле. Его огромный
сводчатый неф значительно превосходит все сводчатые помещения античности и
средних веков по пространству, заключенному под одним сплошным перекрытием. И
сейчас его конструкция кажется не менее удивительной, чем казалась пугающей в VI в. Прокопию, которому его купол виделся «парящим
высоко в воздухе без надежной опоры и угрожающим жизни находящимся внутри»3.
Больше всего в этом храме поражали размеры центрального нефа (т.е. главной
части храма) и великолепное освещение4. В храм вело около тридцати
пяти дверей, что было совершенно необходимо для богослужения, которое состояло
из многочисленных шествий, не ограниченных, как теперь, замкнутым пространством
храма, но охватывавших весь город.
В центре храма, почти
точно под куполом, находился амвон: большая овальная площадка, на которую с
востока и с запада вели ступени. Под амвоном, покоившимся на восьми больших
столбах, располагалось место для певчих. Амвон соединялся с алтарем солеёй -
длинной огороженной с обеих сторон дорожкой. Алтарь отделялся невысокой
П-образной преградой, глубоко вдававшейся в пространство храма. Из этой
преграды впоследствии развился наш современный иконостас. Алтарный престол
находился напротив апсиды, которую почти полностью занимало сопрестолие (aovSpovov) - ряд полукруглых ступеней, на которых сидели
клирики во время чтений и проповедей5.
Ниже следует описание
литургии времен св. Германа:
Подготовительные обряды
Они совершались в
сосудохранилище, которое представляло собой круглое строение, расположенное с
северо-восточной стороны от Святой Софии. Это строение служило сокровищницей,
где хранились священные сосуды. Здесь клирики облачались для службы. Сюда же
люди несли свои дары перед началом богослужения. Особого чина проскомидии тогда
еще не существовало. Диаконы просто брали хлеб и вино из принесенных людьми
даров и приготовляли всю необходимую утварь: дискос, потир и т.д. Однако в
тексте толкования, содержащем позднейшие вставки, мы можем уже обнаружить
зародыш нынешнего чина предложения.
Часто совершалось
стациональное шествие. Духовенство и народ собирались где-нибудь в городе - у
церкви или в ином месте - для молебна. Затем процессией направлялись к
следующей стации (т.е. месту, где совершались молитвы) или в кафедральный собор
для пения антифонов. Антифоны состояли из псалмов, которые пелись одним или
несколькими псаломщиками, с короткими рефренами, называвшимися тропарями,
которые пел весь народ. Достигнув атриума6, народ останавливался,
между тем как духовенство, вступив в нартекс7, становилось перед
царскими вратами, которые были предназначены для императора и духовенства и
вели из нартекса в храм. Здесь они произносили входную молитву и шествовали
внутрь храма, в то время как собравшийся народ входил через другие двери.
Энарксис
Это была короткая служба,
состоявшая из трех антифонов, совершавшаяся по тем дням, когда не было
стационального шествия. Она состояла из трех псалмов, исполнявшихся антифонно,
каждый из которых предварялся возгласом диакона «Господу помолимся» и молитвой,
которую произносил один из священников. Мирной ектении богослужение в то время
не содержало. Патриарх еще не находился в храме: он облачался неподалеку в
своей резиденции. Верующие постепенно заполняли храм через множество дверей,
оставив свои пожертвования в сосудохранилище.
Вход
Это начало самой литургии, в то время как все предшествовавшее носило сугубо подготовительный характер. Патриарх в полном облачении вступал в нартекс и перед царскими вратами под пение третьего антифона, который обычно состоял из 94-го псалма с тропарем «Единородный Сыне» в качестве заключительного рефрена, произносил входную молитву.
1Киворий - покров над престолом, покоящийся на
четырех опорах.
2Как была крещена Русь. М., 1989, с. 180. На
старославянском см.: Повесть временных лет.
3 Mathews T. The Bysantine Churshes of Istanbul. A
Photografphic Survey. University Park. L., 1976, p. 263; См. также: Mathews Т. The Early Churshes of Constantinople:
Architecture and Liturgy. University Park. L., 1971.
4Taft R. The Liturgy...P. 48.
5 Mathews T. The Early Churshes...P. 9699.
6 Четырехугольный двор перед храмом, окруженный
снаружи стенами, а изнутри колоннадой.
7 Притвор в западной части храма, где во время
литургии стояли люди, которые не могли причащаться: оглашенные и находящиеся
под епитимией
1.8.
Блаженный Симеон, архиепископ Фессалоникийский.
«Книга о храме»
(Писания св. отцов и
учителей Церкви, СПб., 1856, с. 148-153; 179-196; 202-205.)
Блаж. Симеон,
архиепископ Фессалоникийский (XV в.) -
известен борьбой против ересей и своими книгами, в том числе «Книга о храме»,
откуда извлечены предлагаемые отрывки.
О святом храме и
освящении его
...Итак, необходимо
сказать об освящении храма; ибо в самом храме водружается жертвенник и чрез
жертвенник храм становится святым. Без жертвенника он не храм, но только дом
молитвы, получающий освящение только от молитв; - не место славы Божией, не
обитель Божия и не имеет божественной силы, чтобы, по причине присущей в нем
благодати, возносить к Богу воссылаемые в нем молитвы; нельзя в нем и приносить
на трапезе божественные дары, и чрез священноначальственные молитвы и знамение
креста прелагать их Духом Святым в Тело и Кровь Христову; нет в нем даже и
трапезы. Посему, чтобы он был всем этим, чтобы имел такую силу и сделался
храмом Божиим, он созидается и освящается следующим образом.
69. Об устройстве
святого храма и молитве при основании его
Имеющий намерение создать божественный храм приходит
к архиерею и просит на то позволения: без архиерейского повеления никому не
следует приступать к таким делам. Ибо божественные дела должны и совершаться по
божественному повелению и соизволению, и в делах божественных Бог должен быть
началом всего, началовождем и совершителем, который есть Иисус Христос, как
говорит божественный Павел; на престоле же Христовом, милостью Его, восседает
архиерей. Он, испытав намеревающегося строить храм, кончит ли он то, что
начнет, как пишется в Евангелии о столпе, отпускает от себя. Чтобы, начав
(строить храм), строитель не оставил его не оконченным, или чтобы храм,
построенный и освященный, не был потом оставлен и не оставался без
употребления, за недостатком необходимого: посему желающий создать храм только
после исследования и после того, как даст обещание достроить его до конца и
приготовить для него все нужное, получает позволение строить. Затем вырывают место
для основания и приготовляются материалы. Когда же настанет время строить,
приходит на место сам архиерей и, облачившись в священную одежду, в
соприсутствии клира, благословляет Бога, благодаря за божественное дело. Потом
в то время, как клир поет молитву Трисвятого, он, благословив фимиам и взяв
кадильницу, крестообразно благословляет и рвы, освящая все фимиамом. Ибо фимиам
образует благодать Духа, а крест - Христа. Кадит также и все находящиеся здесь
материалы, освящая их. Как вещи, приготовленные для святого дома Божия. Потом,
окадив и предстоящих, уготовляя их на дело и освящая, идет к восточной стороне
оснований, где имеет быть поставлен жертвенник. Став по средине рвов восточной
стороны, где должно быть алтарное полукружие, творит священную молитву, моля
Бога Слова Иисуса Христа, Кровию своею утвердившего Церковь Свою, чтобы и
созидаемый Ему дом был непоколебимо утверждаем силою Его и пребывал. Потом,
произнесши славословие, сам берет руками камни и каким-нибудь орудием известь
или землю и, сошедши в основание, полагает камни крестообразно, благословив их
в знак того, что он положил основанием незыблемый камень - Христа. Взяв также
лампаду, наполнив ее елеем и возжегши, полагает с благословением в малом
промежутке между камнями, как бы во гроб, означая елеем милость Божию, которая
будет подаваться в воздвигаемом доме, а светом - горнее просвещение от
истинного Света и единый истинный Свет - Христа, ради нас положенного во гроб.
Елей служит также знаком того, что Он помазал нас елеем благодати и что елеем,
то есть, миром будет совершен храм, а свет, - что с нами будет, обитая во
храме, Свет - Христос, Восток свыше. Установив твердо этот светильник, как
знамение священного просвещения и точный образ Церкви, по слову Возлюбленного,
который в Апокалипсисе говорит, что седмь Свешников, как он узнал, суть Церкви,
- и положив камень поверх лампады, потому что камень - Христос почивает на
своей Церкви, архиерей восходит из оснований и снова творит другую молитву,
прося, чтобы промыслом и смотрением Божиим храм был воздвигнут и, как должно,
совершен, и чтобы навсегда пребыли непоколебимыми основания его и он сам, а
строители его - свободными от всех наветов и невредимыми (об этом молится
потому, что демоны завистливы и противодействуют божественным делам), равно - чтобы
и приносящие Богу вещи, нужные на создание храма, получили от Него щедрое
воздаяние. Окончив это, благословив и помолившись, уходит, воссылая
благодарение Господу. Тогда начинается работа. Когда, с помощью Божиею, все
будет окончено внутри и извне, святилище, т.е. алтарь, устроено на восточной
стороне, с правой его стороны предложение, с левой диаконник; когда вблизи же
алтаря положен будет амвон, если есть место, столбы прочно утверждены и внутри
алтаря поставлены киворий и столбики, которых должна утверждаться священная
трапеза, или один столб (потому что иногда устрояется и один столб - calamoV,
трость), или вместо столбиков устроен четвероугольник, называемый престольным
ковчегом, (pinsoVbwmou), и
священная трапеза, как должно, предуготована, равно и все остальное
необходимое, и священные сосуды надлежащим образом приготовлены: тогда снова
доносится об этом архиерею. Он приказывает служащему у него приготовить все
нужное к освящению; когда и это будет сделано, как в подробности излагает
Устав, - архиерей приходит и совершает освящение, которое происходит следующим
образом.
70. Об освящении святого
жертвенника и храма
Посмотрим и мы, сколько
дозволено и возможно нам, на созерцательную его сторону. В храм, который должен
быть освящен, приходит архиерей, потому что и Бог пришел к нам, чтобы освятить
нас. Он облачается во все архиерейские одежды, знаменуя сим воплощение ради нас
Бога Слова...
96. Что образует храм и
находящееся в нем?
...храм есть дом Божий,
хотя и устрояется из неодушевленных веществ: ибо освящается он Божественною
благодатию и священнодейственными молитвами.
97. О том, что Ветхий
Завет предизображал действия благодати
Это началось еще прежде
закона. Ибо еще Авель имел жертвенник, на котором Господь обонял воню
благоухания; и он был свят, хотя и был бездушный, и приносимые на нем мяса, как
посвященные (Богу), были святы, и Господь призирал на них. Имел жертвенник и
Ной; соорудил и Авраам, желая заклать сына, и здесь видел Бога. Иаков также,
положив камни, освятил жертвенник и узрел там Бога. А еще яснее - Моисей:
потому что тогда более открыты были и действия благодати. Свята была и скиния,
устроенная из кож, и все, в ней находящееся; а кивот и трапеза, прообразовавшие
нынешний (кивот и трапезу) и, еще прежде всего, Святую Деву, и были, и назывались
святая святых... Посему надобно почтительно обращаться со всякою вещию,
посвященною имени Божию, каковы и глина, и камни, и дерево, и прочее: потому
что все освящено божественным именем, исполнено благодати и подает благодатные
дары и освящение.
99. О том, что храм
образует единого в Троице Бога
Храм, как дом Божий,
изображает собою весь мир, потому что Бог везде и выше всего и, знаменуя это,
разделяется на три части, потому что и Бог - Троица. Тоже изображали и
разделенная на три части скиния, и Соломонов храм, как говорит Павел. И там
были святая святых, святилище и святое людское; ибо тень прообразовала истину.
Здесь священнейший алтарь служит образом пренебесных и горних (обителей), где,
говорят, находится и престол невещественного Бога, то есть место Его упокоения;
его изображает трапеза и здесь, как и там, находятся небесные чины и вместе с
ними священники, заступающие их место; иерарх же образует Христа. Храм образует
этот видимый мир; верхние части его - видимое небо, нижние - то, что находится
на земле и самый рай; внешние же части - самые низшие части земли и одну только
землю, по отношению к живущим неразумно и не знающим ничего высшего...
...одна Церковь горе и
долу... Различие только в том, что там все совершается без завес и символов, а
здесь чрез символы: потому что мы облечены этою дебелою тленною плотию...
Внутрь алтаря, образующего, как мы сказали, духовное и пренебесное, входит
только архиерей с лицами освященными; и то, что находится в алтаре, образует
пренебесное. Так священнейшее сопрестолие образует Вознесение Иисуса и сидение
Его с плотию одесную Отца превыше всякого начальства, и власти, и силы. Посему
и ступени его знаменуют степень и восхождение каждого из ангелов и святых:
потому что и у ангелов и святых есть соответственные степени и чины, и наша
иерархия, по словам Дионисия, имеет их, как подражание небесной иерархии.
100. Что знаменует трапеза и находящееся на
ней, и о том, что все - Христос
Далее, страшная трапеза посреди святилища являет Гроб
Христов и таинство страдания...
101. Что значит завеса и поддерживающие ее
четыре столба?
Трапеза бывает четырехсторонняя, потому что от нее
напитаны и питаются все концы земли; она также делается возвышенною,
напоминающею высоту небесную, по причине высокого и пренебесного таинства,
превысшего всей земли. Она поддерживается столбами, потому что возвышается от
земли и имеет на земле столпы, закланные за нее и твердо поддерживающие ее, -
пророков и апостолов. Иногда этих столбов много, потому что много и пророков и
апостолов; иногда один, называемый тростию, во образ одного, превосходящего
всех, Иисуса...
...за жертвенником по восточную его сторону стоит и
благословенное орудие жертвы - Божественный Крест. Он бывает четверочастный,
ради Пригвожденного на нем, сотворившего и содержащего небесное и земное, и
все, соединившего небесное с земным...
...Привешивается светильник во образ Церкви и подаваемых
чрез нее всем милости и просвещения; а еще потому, что свет надобно приносить
во славу Свету и елей - Милосердому...
103. Что такое горнее место и его ступени?
Горнее место, как сказано, означает превышенебесное
седалище Иисусово, а ступени при нем - чин и степени каждого из иерархов и
иереев...
104. Что означают столбики, верхний космит и
окружающее его
Столбики (в иконостасе) означают отделение чувственного
от духовного и суть как бы тверд, разделяющая духовное с чувственным; а то, что
они (находятся) около жертвенника И. Христа, значит, что есть столпы в Церкви
Его, проповедующие Его и нас утверждающие. Посему поверх столбиков находится космит
(фриз с карнизом), который означает союз любви и единение во Христе святых,
сущих на земле, с горними. Оттого поверх космита, по средине между святыми
иконами, бывает (изображен) Спаситель, а по ту и другую сторону - Матерь Его и
Креститель, ангелы и апостолы, и прочие святые. Так что все это внушает и
пребывание Христа со святыми
Своими на небесах, и присутствие Его ныне с нами, и то,
что Он имеет опять придти. А что алтарь в особенности изображает гроб Христов,
это показывают те же столбики. Святый престол есть Гроб, а алтарь - как бы
гробница, окружающая, т.е., гроб; посему и амвон становится пред дверями
гробницы, означая камень, отваленный от двери гробницы, и возвышается в
знамение высоты проповеди (христианской), или того, что ангел сидел поверх его
и проповедал воскресение Спасителя. Потому-то и иереи с диаконами, изображая
ангелов, на амвоне возвещают Евангелие.
105.Для чего в приалтарном полукружии (находится)
предложение, и что оно означает?
Сбоку алтаря помещается сосудохранительница, называемая
предложением (proesiz); она
изображает Вифлеем и пещеру; потому и бывает в углублении и недалеко от
жертвенника, хотя в больших храмах иногда помещается и несколько дальше для
хранения сосудов. А то, что она находится в углублении, означает убожество первого
пришествия Иисусова, бедность места (рождения Его) и также мрачность и простоту
пещеры.
106. О том, что предложение и принадлежности
его изображают Вифлеем и то, что было при рождении Спасителя нашего и при
поклонении волхвов
Здесь же и то место, на котором первоначально совершается
проскомидия, напоминающее ясли, и притом вблизи жертвенника: потому что вблизи
от Иерусалима и Гроба Господня - Вифлеем, где первоначально вместилось
воплотившееся ради нас Слово Божие...
107.О полукружии алтаря и о сени над престолом
Посмотрим и на внешний вид храма. Он означает видимый мир
и поелику алтарь здесь знаменует небо, то он и имеет полукружия; и это бывает
повсюду во всех храмах, в знаменование горних небес, подобно тому, как
приалтарное полукружие или предложение в боковом алтаре, как сказано,
(означает) Вифлеемскую пещеру. Священная сень на божественном престоле
(означает) невещественную скинию Божию, т.е. славу Божию и благодать, которою
Он покрывается, одеваясь светом, яко ризою, и седя на превознесенном престоле
славы своей, а вокруг Него и около Него серафимы и ангелы и души святых, как
столпы, поддерживающих и ограждающих евангельское учение Его, которое Он,
пришедши, предал им и распространил по концам (вселенной), собрав со всех
концов Церковь свою и соединив ее с ангелами.
108. Что (означают) многосвечники, двенадцатисвечники и
трисвечыики, и прочие (светильники), возжигаемые в церкви?
Поэтому в храме, как в мире видимом, вешаются
светильники, как звезды. Круг светильников (паникадило) изображает твердь и
круги планет. Кроме того, и другие вешаются сосуды со свечами: одни во образ
древнего огненного столпа - в виде столпа и прямые, другие во образ купины,
иные во образ колесницы, восхитившей Илию, - колесообразные; одни трисвечные в
честь Троицы, каковы трикирии, другие седмисвечные по числу даров (св. Духа),
иные двенадцатисвечные в честь апостольского лика, посреди коих ставится одна
высшая свеча во образ великого Света - Иисуса. Бывают еще дикирии, знаменующие
два естества Его, и светильники односвечные, знаменующие единство Троицы, или
указующие на одного какого-либо святого, пред которым они повешены. Ибо и
каждый из святых есть Свет по причастию (Света Христова) и душа его есть как бы
живая сияющая свеча. Твердость же и благолепие храма, и чистота помоста,
означают красоту, чистоту и благолепие святых, также красоту рая, потому что
божественный храм, как мы сказали, изображает и рай...
...красота храма означает, что Пришедший к нам - красен
добротою, как всенепорочный, и что Он есть прекрасный Жених, а Церковь
прекрасная невеста Его...
109.Для чего в храме священные одежды и завесы, и
разнообразные украшения, и различные благоухания?
Драгоценные завесы во храме (употребляются) потому, что
Бог в лепоту облечеся (Псал. 92.1), во образ величия и славы Божией.
Разнообразные украшения - потому, что Ему принадлежит слава, у Него велелепие и
красота, и великое богатство дарований...
Так как в высшем смысле храм Божий - мы сами, - тело и
члены Христовы, как говорит Павел (1 Кор. 6.32) и ради нас сии вещи чувственные,
которые изображают нас. Ибо мы существа духовные и вместе чувственные, что и
изображают принадлежности алтаря и внешние украшения его...
120. О (местах) стояния (в храме) для верных, оглашенных
и кающихся
Так-то становится благочестивый народ во храме,
изображающем сей видимый мир, который состоит из неба и земли... а из
нечестивых, или неправославных, отнюдь никто не входит: ибо нет общения у
Христа с велиаром. Позади же амвона (облачальнаго) в самой последней части
храма стоят те, кои, хотя принадлежат к числу благочестивых и исповедуют веру,
но еще не просвещены и не приняли святого крещения...
121.О том, что ныне не все (согрешившие) выводятся вон
вместе с оглашенными
...Таковые, выводимые вон, стоят в притворах или в
местах, определенных для оглашенных (на папертях), когда совершаются страшные
таинства.
122. Для чего (в храмах) притворы и места для
оглашенных?
Притворы называются так потому, что они суть преддверия
храмов...
Притворы и места для оглашенных изображают только землю,
так как стоящие в них живут на земле еще подобно бессловесным животным... и
живут на земле как бы неверными и изгнанными из рая.
125. Для чего в начале молитвословий мы становимся вне
храмов - в преддвериях, и что означает отверстие врат и вхождение в них?
То же самое выражая и ныне, в начале молитвословий мы
становимся вне храма, как бы вне рая или самого неба, изображая одну только
жизнь земную... Когда же врата отверзаются по окончании песней, петых вне
храма, то мы входим в божественный храм, как бы в рай или небо, а те остаются
вне. Это действие означает, что нам отверзлись (селения) небесные и мы уже
получили доступ во святая святых, восходим ко Свету и приближаясь, приступаем к
престолу Господню. Ибо мы идем к востоку и алтарю, и возносимся, как бы
облаками, божественными вещаниями и песнопениями, во внутреннейший храм, как бы
на воздух во сретение Господа, который, восшедши на небо, возвел и нас горе и
уготовал на путь Себя Самого, дабы нам всегда пребывать с самим Господом,
священнодействуемым за нас. Потому и врата отверзаются и завесы отъемлются,
(дабы выразить), что селения горние отверзаются и вводятся в единение с
насельниками земли. Оглашенные и прочие пребывают еще на земле...
1.9.
Преподобный Иосиф Волоцкий. Послание иконописцу
(М., 1994, с. 43-56.)
Преп. Иосиф Волоцкий (14401516) - основатель и игумен Иосифо-Волоцкого
монастыря, возглавлявший движение иосифлян против «нестяжателей». Автор
«Просветителя» и многих посланий, в том числе «Послание иконописцу и три слова
о почитании святых икон».
Слово первое
Господь повелел Моисею создать храм, то есть скинию,
устроив внутреннее убранство храма в подобие мира небесного... И когда Моисей
приступил к созданию скинии, Бог сказал ему: «Виждь, да сотвориши вся по
подобию, показанному ти на горе» (Исх. 25.40), внешний же вид храма соделав в
подобие земного...
Если же кто станет создавать образы и подобия, которые
Сам Бог повелел творить во славу Свою, и через них умом возводиться к Богу и по
этой причине поклоняться и почитать их, то это дело доброе и богоугодное...
...В книге Исхода сказано: Когда Моисей входил в скинию,
тотчас нисходил столп облачный, и Бог в столпе облачном входил в скинию, а
люди, видя этот столп, поклонялись каждый из двери дома своего (Исх. 33. 810).
Разве не мог Бог беседовать с людьми без скинии? - Мог,
но беседует в скинии, желая показать честь и славу божественной церкви с самого
начала, а еще для того, чтобы мы познавали: там, где церковь Господа Бога
Вседержителя, там и Божие присутствие...
Как в Ветхом Законе церковь и находящиеся в ней священные
предметы являлись подножием ног Божиих, так же в Новом Законе церковь и
Животворящий Крест и божественные иконы есть подножие ног Божиих...
...И Моисей, и Давид поклонялись скинии, то есть церкви
рукотворной, поклонялись и вещам, сотворенным руками человеческими в честь и
славу Божию. Потому что этими божественными вещами и церковь была освящена, и
ради них поклонялись церкви. Так, в книге Исход Писание свидетельствует, что
когда Моисей окончил строительство храма свидения и внес киот свидения1,
который есть скрижали, стамна и жезл Ааронов - свидения, свидетельствующие о
Боге2, - когда он, внеся этот киот свидения, закрыл его завесою,
тогда облако покрыло храм и он наполнился Божией славой...
Когда же Соломон отстроил храм, он внес туда сии
честнейшие и божественные вещи: киот, скрижали, стамну и прочие, - и тогда храм
исполнился славы Господней, так что священники даже не могли совершать службу
(3 Цар. 8. 4, 1011). Вдумайся во все это и познай, что сими божественными
вещами церковь освятилась и что ради них церкви поклонялись...
...Бог есть Свет Разума и
Солнце Правды. И в Писании сказано, что «насади Бог рай в Едеме на востоце, и
введе в онь человека» (Быт. 2. 8). И многажды беседовал Господь с человеком на
востоке, чтобы мы, помня о своем первом отечестве и обращаясь к нему взорами,
поклонялись Богу на восток...
...Писание свидетельствует об этом в книге Исход: когда Моисей завершил
устроение храма Господня, храм исполнился славы Господней. И облако осеняло его
днем, ночью же над ним был огонь. И из храма говорил с Моисеем Господь (Исх.
40) ...
...Если храм - дом Господа Бога Вседержителя, то он и честен и свят. И
вещи, в честь и славу Божию сотворенные по Божиему повелению, также честны и
достойны почитания и поклонения...
...как иудеи, почитая находящиеся в храме две скрижали
каменные и двух херувимов золотых и иное, что было в храме, - не естество
храма, или золота, или дерева почитали, но Бога, повелевшего все это соделать,
так и мы поклоняемся Честному Кресту и божественным иконам и прочим божественным
и священным вещам, во славу и честь Божию сотворенным...
1Киот свидения, или ковчег
Завета, - ящик, сделанный из дерева и обложенный золотом, в котором хранились
каменные скрижали с начертанными на них десятью заповедями Моисеевыми, сосуд с
манной (стамна) и жезл Ааронов.
2Здесь
преподобный Иосиф дает слово «свидение» (цуртирюи) в разных смысловых оттенках,
так же как оно употребляется в Священном Писании: «встреча», «собрание»,
«заповеди» и «свидетельство».
1.10.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе.
Мысли о
богослужении Православной Церкви
(Л., ПДА, 1991, с. 19-26.)
Св. прав. Иоанн
Кронштадский (18291908) - великий молитвенник, обладавший даром прозорливости и
чудотворений при жизни. Будучи священником, св. Иоанн глубоко переживал Божественную
литургию и всю обстановку храма как неба на земле.
Храм есть образ той скинии Бога с
человеками, которую видел св. Иоанн Богослов в видении и о которой говорил ему
громкий голос неба, говорящий: се скиния Бога с человеками и Он будет обитать с
ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их (Апок. 21.3).
Входя в церковь во время богослужения, или не во время
его, вы входите как бы в особенный какой-то мир, непохожий на видимый: вы
видите св. иконы, лиц, когда-то живших на земле и прославившихся дивною жизнью,
святою...; видите особенно выдающийся образ Богочеловека Иисуса Христа, Коего
славою исполнены все концы земли...; видите образ Пречистой Его Матери-Девы -
чудо чистоты, любви к людям...; видите лики святых ангелов, чьи огненные небесные
чины, блистающие небесною красотою...; видите лики св. угодников Божиих,
апостолов, пророков, святителей, мучеников, преподобных и всякого рода
святых... Ко всему этому вы видите в храме престол Божий, на нем книгу Завета
Божия; видите на престоле и за престолом орудие и знамение нашего спасения... -
Крест Сына Божия, на котором Он совершил наше избавление от вечного гнева и
наказания Божия.
В мире вы видите и слышите все земное, преходящее,
хрупкое, тленное, грешное, не приносящее вам существенной, постоянной, вечной
пользы, вечного наслаждения. В храме, напротив, - вы видите и слышите небесное,
непреходящее, вечное, святое; там слух ваш оглашается весьма часто словом о
другом мире - вечном, о другом царстве - царстве вечной правды, любви, мира, царстве
вечной юности, красоты, блаженства в Боге и с Богом.
В храме помещаются изображения таких лиц, предметов,
таких событий, которые Церковь воспоминает, призывает и празднует, как
ежедневно, так еженедельно и каждогодно, или даже в известные часы каждого дня:
лик Господа, Божией Матери, Тайная вечеря, благовещение о воплощении Сына
Божия, образ Креста Животворящего, снятие со Креста и положение во гробе
пречистого Тела Господа (антиминс); изображение событий дванадесяти праздников;
лики Предтечи, апостолов, святителей, мучеников, преподобных и вообще святых,
прославившихся добродетелями богоподобными, украсивших и утвердивших Церковь
своими писаниями и своею жизнью, и нам оставивших прекрасный пример веры,
упования и любви христианской, вообще величайших благодетелей человечества.
Огонь горящих восковых свечей и лампад, как и самое
кадило с горячими углями и благовонным фимиамом, служат для нас образом огня
духовного - Духа Святого, сшедшего в огненных языках на апостолов, попаляющего
греховные наши скверны, просвещающего умы и сердца наши, воспламеняющего души
наши пламенем любви к Богу и друг к другу: огонь пред св. иконами напоминает
нам о пламенной любви святых к Богу, из-за которой они возненавидели мир и все
его прелести, всякую неправду; напоминает нам и о том, что мы должны служить
Богу, молиться Богу пламенным духом, чего у нас большею частью и нет, ибо имеем
охладевшие сердца. Так в храме все поучительно и нет ничего праздного,
ненужного.
Вступив в храм, вы как бы оставляете за собой землю и
вступаете в земное небо, оставляете время и вступаете в вечность; ибо вы
слышите непрестанно славословие и благодарение Богу, прошение к Богу, и частое
повторение слов, выражающих вечность Бога, имеющую начаться вечность и самих
песнословцев: Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков.
У царских врат стоит всегда местная икона Богоматери,
потому что Она своими молитвами к Сыну Своему и Богу отверзает врата Царствия
роду христианскому, Ее ублажающему.
Завеса церковная в алтаре означает завесу, покрывающую
таинство, также завесу между настоящею и будущею жизнью, в которой многое для
нас сокрыто, завесу между небом и землею.
Дом Мой, дом молитвы (Лк.19.46). Приходя в храм, мы как
бы восходим на небо, оставляя все земное за собою - по крайней мере, так должны
входить в храм. Да, нас весьма многое отвлекает от молитвы, а в храме все
внушает на благоговение и молитву: и престол Божий, и лики Господа и святых, и
образ Креста животворящего, и Евангелие на престоле, и царские врата, ведущие в
алтарь, в это земное небо, и самый вид алтаря, возвышенное пред прочими местами
храма, и чтение, и пение, каждение и светильники горящие, и священники - лица
служащие, облаченные в священные одежды: все, все внушает тебе благоговение и
молитву; все внушает, что ты в святилище Божием лицом к Лицу с Самим Богом.
Светильники, горящие пред иконами, означают, что Господь
есть Свет неприступный и огнь поедающий для грешников, нераскаянных, а для
праведника огнь чистительный и животворный; что Божия Матерь есть Матерь Света,
Сама чистейший Свет, немерцающий...
На три части разделяется храм для показания, что в нем
приносится непрестанно жертва благодарственная за святых и умилостивительная о
живых земных и преисподних, или умерших.
Храм - преддверие неба и рая, и как бы самое небо, ибо в
нем престол Божий, служение ангелов, частое схождение Святого Духа, совершение
небесных, животворящих и страшных Тайн, очищение грехов, подаяние святыни,
причащение Божественных Тела и Крови, онебесение, обожение земнородных. Велик,
свят ли храм Ветхого Завета, но больше, святее храм Нового Завета, ибо там
Господь являлся в столпе облачном и огненном; - здесь зрится и осязается и
вкушается в Богочеловеческом Существе, в самом существе Своем. Там ковчег
Завета с очистилищем, манною, скрижалями, жезлом, как образами будущего; здесь
Сам небесный хлеб - Христос...
Мысли у
престола Божия. Где я
стою? На небеси, ибо вижу пред собой престол Божий. Где я стою? Не на Голгофе ли?
ибо вижу пред собой распятого за грехи мира Сына Божия воплотившегося,
пострадавшего и умершего ради крайней благости. Где я стою? Не в Сионской ли
горнице с апостолами Спасителя моего? ибо вижу пред собой совершающуюся Тайную
вечерю, слышу таинственные, проникнутые безмерною любовью к погибающему миру,
слова - (ибо в лице апостолов они сказаны всему миру): - приимите, ядите, сие
есть Тело Мое; и: пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя Нового Завета и прочее
(Мф.26. 2628). Где я стою? Не при Кресте ли умирающего за грехи мира Господа
моего, ибо вижу книгу Завета или последнего завещания Его верующим; сия
заповедаю вам, да любите друг друга, яко же возлюби их вы да и вы любите себе
(Ин. 13.34). Но где я стою и что слышу? Ибо часто слышу священную повесть о Его
житии, о Его чудесных деяниях, о Его искупительном страдании, смерти,
воскресении и вознесении на небо. У ног Его я стою в церкви Его, хранительнице
Его заветов, заповедей и обетовании, Его таинств, Его животворящих дарований.
Но где я стою? То я вижу отверзающимися, то заключающимися врата этого
образовательного неба, этой образовательной Сионской горницы, этой
образовательной Голгофы! Вижу на этих вратах божественного архангела,
благовествующего Пречистой Деве о чудесном зачатии и рождении; вижу четырех
евангелистов Спасовых с символами и чудными небесными благовестиями своими на
вратах сих, как некогда св. Иоанн Богослов видел написанными на стенах
таинственного града небесного двенадцать имен апостолов Агнца (Апок.21.14). Тут
я мысленно ставлю себя в Назарете, в доме древодела, где жила преблагочестивая
Дева, и вижу начинающееся спасение мое и явление таинств, еже от века прежде
всего видимого мира предположенного к совершению в судьбах Вечного. Вижу на
вратах четырех свидетелей или спасителей - благовестников чудесной и
спасительной жизни моего сладчайшего Иисуса, Сына Божия, от Девы чудно
воплотившегося; ибо четверочасен мир по странам света: восток и запад, север и
юг, и во всю землю изыде вещание их и в концы (четыре) вселенныя глаголы их
(Рим. 10.18). Четыре свидетеля с избытком достаточно для показания истины
повествования; они на вратах царских, как на вратах Царства небесного, потому
что через веру в их благовестие входим в отверстое Крестом Иисуса Христа небо -
и они виновники нашего спасения, как пестуны, учителя и отцы наши. Где я стою?
ибо вижу пред собою, по одну сторону царских врат - Господа, по другую -
Пречистую Матерь Его; тут вижу в лицах главнейшие события из жизни Господа
моего: Его рождение, Его крещение и проч., там стоят предо мною апостолы, там
лики пророков, там лики иерархов, мучеников, преподобных, там лики праотцев и
патриархов. Предо мною сонм небожителей, св. человеков. Где я? я на небеси. Как
церковь есть образование неба, так и все мы - члены одной Церкви Божией, и все
св. угодники Божий близки к нам, члены одного таинственного тела Церкви,
имеющие одну Главу - Христа. Оттого диакон часто и поминает в ектений Пресвятую
Богородицу и всех святых, как членов одной Главы и одного Тела, предавая себя и
всех молящихся Главе - Христу.
Церковь есть воистину небо, особенно алтарь, и священник
должен в алтаре оставить всякое земное пожелание, которое убивает в нем жизнь
духа и отрывает от Христа, от благодати Его, от дела Его спасения, от всего
домостроительства Его, от любви к Нему и к спасаемому Им человечеству.
2.
ТРУДЫ КЛИРИКОВ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
2.1. Конец XIXпервая половина XX в.
2.1.1. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже
двух эпох
(М.: «Отчий дом», 1994, с. 384.)
Митр. Вениамин (Федченков)
(18801961) - выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, духовный писатель и
богослов, в 30-х годах - инспектор парижского Православного Богословского
института, настоятель Трехсвятительского подворья.
Был проездом в Кельне... Издали
виднелся знаменитый собор с двумя высокими остроконечными башнями, тоже
искусственно и насильно тянувшимися к небу руками. Снаружи он не понравился
мне, как и вообще все подобные церкви готического средневекового холодного
стиля рационального схоластического «ума и воли», но неживого сердца,
исполненного радостью спасения Христом Господом. Этот радостный стиль знает лишь
православная Византия, в закругленных куполообразных храмах, который начинался
с Айя-Софии и до многих сельских, с розоватыми черепичными крышами церковок,
везде чувствуется совершившееся уже сошествие неба (куполов, круглых окон,
закругленных стен и крыш и даже коротких крестов) на землю. Спасение уже вот
тут у нас: приходи, бери, радуйся, благодари Спасителя, славослови Ему,
торжествуй!
Нам, русским, такое торжество и радость даже не под силу.
Потому наши русские зодчие потом стали строить полутемные, смиренно-покаянные,
с уютными уголками церкви; теснили продолговатыми окошечками храмы
псковско-новгородского стиля; но отчасти соединяли с ним и греческую
кругообразную форму стен и куполов. Таким образом, получился весьма
своеобразный «русский» стиль: сочетание покаяния с надеждой на спасение.
Лично мне трудно было бы ежедневно стоять на молитве в
таких торжественных, светоносных, роскошных куполообразных храмах, как Святая
София. Это можно было бы испытать разве несколько раз в году, а иначе для
грешного сердца было бы чрезмерно «сладко». Потому мне нравились скромные
сельские церковки, особенно старого стиля. В Валаамском, например, монастыре на
Ладожском озере, где новый соборный храм был выстроен в общем по византийскому
стилю, мне нравилось молиться в нижнем полутемном низком храме с низкими и
широкими колоннами больше, чем в огромном высоком разукрашенном верхнем этаже.
И обычно у монахов будничная служба совершалась внизу, а наверху они радовались
лишь по праздникам.
Готические храмы холодны, пусты, даже нет почти икон и
росписей, голые стены. А у нас - сверху донизу - Спаситель, Божья Матерь,
святые или изображения праздников. Бог, небо - опять тут, с нами. Все живет
кругом. А святые - смиренные, со склоненными головами, но полны мира и
блаженной любви к Богу.
Стоит обратить внимание на то, что протестанты, вопреки
католикам, учат, как известно, о своей спасенности лишь за «веру» во Христа, а
не за дела, но в архитектуре их храмов остался этот же готический холодный
нерадостный католический стиль. ...Протестантизм является дальнейшим оскудением
и охладением католицизма и постепенным вырождением из веры в рационализм, а он
- в безбожную общественную мораль... Ни о каком «Царстве небесном» они не хотят
помышлять, все «тут» для них, в царстве земном.
2.1.2. Архиепископ Вениамин (Федченков). Небо на земле
(По словам о. Иоанна
Кронштадского)
(М., 1994, с. 12-18.)
Во время литургии небо и земля сочетаются: Бог - с
человеками; небесные ангелы с человеками земными; все лики святых праот-цев,
патриархов, пророков, апостолов, евангелистов, иерархов, мучеников, преподобных
и всех святых!
Храм истинно делается небом! Ибо Бог в Троице нисходит на
Святый животворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо милосердия
Своего, претворяя хлеб и вино в пречистое Тело и пречистую Кровь Сына Божия и
удостаивая верующих причастия Их...
О литургия... Ты совокупление неба и земли - ангелов и
человеков! Ты низводишь на землю непрестанно Бога воплотившагося и Духа Святого
купно со Отцем соприсносущным! Ты землю обращаешь в небо! Ты - земных человеков
делаешь небесными!...
В храме, особенно в храме, происходит сопряжение душ
верующих, ищущих Бога, с своим Первоначалом и Создателем; особенно - во время
литургии и причащения Св. Тайн...
Входя в церковь... вы входите как бы в особенный какой-то
мир, непохожий на видимый... В мире вы видите и слышите все земное, преходящее,
хрупкое, тленное, грешное... В храме вы видите и слышите небесное,
непреходящее, вечное, святое.
Храм - преддверие неба и
рая, и как бы самое небо; ибо в нем престол Божий, служение ангелов, частое
схождение Святаго Духа...
Стоя в храме, будь весь,
как на небе с Богом, ибо в храме все - небесно...
Литургия начинается
словами: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Идучи в храм, как
в Царство Божие, прежде всего принесите Богу покаяние...
Благословенно Царство...
Мы составляем благодатное Царство Божие, Царство Иисуса Христа, Царство
небесное, блаженное...
Благословенно
Царство...Чу! На земле Царство Божие... О радость, о восторг, о удивление! Какое
это Царство? - Божие, - Церковь Иисуса Христа.
2.1.3. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Вениамин.
Новая скрижаль, или Объяснение о церкви, о литургии,
и о всех службах, и утварях церковных
(М.: Издательство
Православного Братства Святителя Филарета
Митрополита Московского,
1999,с. 7-33; 89.)
Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский (17381811) - известен
своей архипасторской деятельностью, в том числе по собиранию в Архангельской
епархии «древних достопамятностей», а также благодаря многократно
переиздававшейся книге «Новая Скрижаль, или Объяснение о церкви, о литургии, и
о всех службах, и утварях церковных».
Глава I. Об именах и святости церкви
§ 1. Что есть церковь?
Слово «церковь» имеет два
значения. Во-первых, Церковь означает общество истинных христиан, рассеянных по
всему земному кругу... Во-вторых, церковь есть храм Божий или молитвенный дом,
куда верующие собираются славословить Бога и молиться Ему.
§ 2. Название церквей
Церкви, или молитвенные храмы бывают многоразличны.
Одни освящаются во имя Все-святой и Живоначальной Троицы, или одного из Лиц
Троицы; другие - во имя Пресвятой Богородицы, а некоторые во имя ангелов,
апостолов, или одного из иерархов, мучеников, святого или святой. Посему храмы
и носят имена тех святых, которым они посвящены. Так, мы говорим: пойдем к
Троице, пойдем к Рождеству Христову, пойдем к такому-то святому, иерарху или
мученику, т.е. в храмы тех святых, именам которых они посвящены. Впрочем, все
эти храмы без исключения суть храмы Господни, храмы Божий и селения славы
Всесвятой Троицы. Все они одинаково освящаются Божественною благодатью Отца и
Сына и Святаго Духа, во всех одинаково совершаются священнические молитвы и все
одинаково помазуются божественным миром. Симеон, епископ Солунский (в главе
128), пишет: «всякий храм посвящается Богу; это дом Его, и Он живет в нем: и
раб Божий, котораго имя носит храм, обитает в нем, как своем жилище, невидимо
является там духом, часто тут полагаются и мощи его, и он действует
Божественною благодатию и силою».
§ 4. Преобразование новозаветных церквей
в ветхозаветных жертвенниках
Человек, прежде нежели
чрез Моисея получил от Бога закон, воздвигал храмы и жертвенники и на них
приносил жертву Богу; и все таковые жертвенники были святы. При Адаме Авель
создал жертвенник: и хотя этот жертвенник был устроен из вещества, но был свят;
и принесенные на нем в жертву Богу дары, хотя и состояли из заклаемых животных,
также были святы, потому что посвящены были Богу; Бог явился верху их, или, как
пишется, призре Бог на Авеля и на дары его (Быт. 4.4). Ной, вышедши из
ковчега, создал Богу жертвенник. Авраам, намереваясь принести в жертву сына
своего Исаака, созда жертвенник, и рече ему Бог, глаголя: Аврааме, Аврааме!
да не возложиши руки твоея на отрочища: ныне бо познахяко боишися ты Бога (Быт.
22.12). И Иаков также из камня устроил жертвенник, освятил его во имя Божие и
видел при нем Бога. Но самый высокий и многознаменательный жертвенник устроил
Моисей: это скиния, которая была образом храма, и которая лучше, нежели прежние
жертвенники, прообразовала все вещи и таинства новой благодати. Симеон
Солунский (в гл. 125) говорит: «все, что устроил Моисей внутри скинии, а
особенно ковчег и трапеза, прообразовавшие Богородицу, называлось святая
святых...».
Глава II. О главнейших частях церкви
§ 1. Части храма
Церковь, принимаемая в
значении храма Божия или дома молитвенного, разделяется главным образом на две
части: алтарь и собственно храм; но часто к этим двум частям прилагается и
третья, притвор или предхрамие; почему и храм разделяется по обыкновению на три
главные части: собственно храм и притвор.
§ 2. Различие в частях храма
Из всех частей церкви
алтарь есть главнейшая, потому что он назначен для священнослужения, почему и
не дозволяется входить в него непосвященным; храм назначен для верных, а
притвор для оглашенных и кающихся, т.е. таких людей, которые не получили еще
права входить в храм. Такое различие частей церкви повелевают соблюдать 19 и 43
правила собора Лаодикийского и 69 шестого Вселенского, в которых сказано: что в
алтарь дозволяется входить только священникам для священнодействия и царской
власти для причащения и приношения Даров.
§ 3. Первое знаменование церкви
Разделение церкви на две
части, т.е. алтарь и храм, имеет четыре значения. Симеон Солунский (в главе 4,
о храме), назвав алтарь невходным, т.е. местом, куда не всем позволяется
входить, а только посвященным, а храм входным, куда все христиане входят, дает
этим частям следующее значение: 1) они знаменуют Христа, Бога и вместе
Человека, первое, т.е. Божество Иисуса Христа невидимо, а второе - Человечество
видимо; 2) человека, состоящего из души и тела; 3) таинство Троицы, Которая
непостижима по существу, но познается по Своему промыслу и силам, и 4) видимый
мир и невидимый: алтарь означает небо, а храм землю.
§ 4. Второе знаменование церкви
Но церковь, разделенная
на три части, т.е. алтарь, храм и притвор, имеет другие значения. Симеон
Солунский в той же главе говорит: «и с другою целию храм разделяется на три
части: на притвор, находящийся пред храмом, храм и алтарь; эти части знаменуют:
1) Троицу, 2) горния силы, разделяющиеся на три чина, 3) благочестивых людей,
разделяющихся на иереев, верных и находящихся в покаянии и 4) трехчастный образ
храма означает то, что на земли, что на небеси и что превыше небес; паперть
означает землю, храм - небо, а святейший алтарь то, что превыше небес».
§ 6. Почему церковь разделяется на три
части?
Церковь наша или храм
разделяется на три части по примеру скинии Моисеевой и храма Соломонова, в
которых было по три части. Так, апостол Павел пишет к евреям: имеяше убо
первая скиния святое же людское: скиния бо сооружена бысть первая яже
глаголется святая: по вторый же завесе скиния глаголемая святая святых
(Евр. 9). Одно из сих отделений, внешнее, предназначалось для евреев, еллинов,
одним словом для народа. Затем была устроена завеса, отделявшая внешнюю часть
храма: за эту завесу, внутрь храма всякий день входили священники для
приношения жертвы; эта часть называлась святая. Далее была устроена еще вторая
завеса, за которой была третья часть храма, святая святых: туда только один раз
в год входил первосвященник для принесения жертвы. Все эти части храма были
образом наших храмов, так как тень образовала истину. А почему как
ветхозаветные, так и новозаветные храмы разделяются на три части, тому Василий
Великий в своем трактате о Св. Духе (гл. 27) полагает следующую причину:
«Великий Моисей», говорит он, «хотел выразить тем, что не всем дозволено
приступать к тому, что было священнаго в храме; он вне храма назначил место для
мирских людей, а в самый храм, т.е. в святая, предоставил право входить
избранным. Левитов удостоил быть служителями Божиими; священнику предоставил
право совершать заколения и всесожжения и совершать прочия священнослужения. Из
сословия священников он избрал одного, который однажды в год, в известный день
и в известный час, должен был входить в неприступное место (святая святых), для
того, дабы и он сам по трудности и редкости со страхом взирал на святая
святых».
Глава III. О святом престоле и его принадлежностях
§ 1. Знаменование и значение алтаря
Первейшая часть храма,
знаменующая, как выше было сказано, невидимое Божество Христово, душу
человеческую и проч., есть алтарь. Слово «алтарь» латинского происхождения; оно
составлено из слов alta ara, что значит возвышенный
жертвенник. Греки алтарь называли словом bhma, которое имеет то же значение. Alta ara, по общему употреблению греков, означает: 1)
возвышенный жертвенник, или вообще такое высокое место, которое не всякому
доступно и для многих неприкосновенно; 2) кафедру, с которой ораторы
произносили народу свои речи, и 3) судилище, с которого цари народу или
военачальники воинам давали повеления, творили суд, раздавали награды за
заслуги или дары от своего богатства.
§ 2. Престол есть важнейшее место в
алтаре
Важнейшее в алтаре место
есть святый престол. Посему все преимущества, приписываемые алтарю, ни к одному
находящемуся в оном месту не могут быть так близко применены, как к святому
престолу невидимого Бога, возвышающемуся посреди алтаря. Симеон Солунский (гл.
131, о храме) говорит: «священнейший алтарь в сем месте образует пренебесное и
то, что превыше небес, где поставлен престол невидимого Бога».
Глава V. О горнем месте и сопрестолии
§ 1. Горнее место в алтаре
В алтаре к востоку от
престола, или под средним полукружием около стен, по обеим сторонам ставятся
другие престолы, т.е. стулья или скамьи. Они назначаются для сидения
священников, служащих вместе с архиереем. В самой же средине находится
возвышенное место для архиерея: это место Златоуст в своей литургии назвал
горним местом и горним престолом. О горнем месте и стульях или скамьях,
поставленных по обеим сторонам престола, Евсевий говорит так (кн. 10, гл. 4):
«Константин Великий, устроивши храм, украсил его возвышенными престолами в
честь председательствующих и сверх того сделал седалища, которыя в порядке
расположены были вокруг всего алтаря; после этого он среди алтаря поставил
святая святых, т.е. святилище (св. престол)».
Глава VI. Об иконостасе, солее и амвоне
§ 1. Иконостас пред алтарем
Все полукружия, т.е.
алтарь, диаконник и предложение, отделяются ныне от молитвенного храма сплошною
перегородкою, простирающеюся от южной стены до северной. Эта перегородка в
древние времена была решетчатая. Евсевий (кн. 10, гл. 4) говорит: «Константин
Великий оградил алтарь деревянными решетками, дабы в него немногие входили».
Церковь же, после потрясения от гонения иконоборцев, утвердив почитание икон,
как древнее, одобренное и всюду благоговейно хранимое, узаконила утверждение в
иконостасе многих икон святых, и решетчатую перегородку заменила сплошным
иконостасом.
§ 2. Что знаменует иконостас
Что решетки, вместо
которых ныне ставится неперемежающийся иконостас, изобретены для того, чтобы
алтарь был доступен немногим, и какое значение имеют эти решетки и иконостас,
об этом говорят следующие писатели: Св. Герман: «бруски в решетках, отделяющих
алтарь (вима) от прочаго храма, означают храм вне алтаря и вхождение людей
молящихся. Алтарь (или вима по-гречески) есть внутренняя часть храма, и святая
святых, доступное только одним иереям и сослужащим с ними. И далее, перегородки
или решетки означают место молитвы, где стоит входящий народ; алтарь же, как
святая святых, доступен одним только иереям. Так в храме св. Гроба были медныя
решетки, за которыя никому не позволено было входить, хотя бы и нужно было».
Эти решетки в иконостасе и находящийся на верху фриз с карнизом Симеон
Солунский (в гл. 136) объясняет следующим таинственным образом: «два столпа
(бруски в решетках) ставятся для того, чтобы показать различие чувственнаго от
мысленнаго, и суть как бы твердая стена, разделяющая вещественное от
мысленнаго. Вещественным называется то, что человек видит и осязает, а
мысленным то, чего он не видит и не осязает, а только постигает умом. Над двумя
столпами находится фриз с карнизом (космитис), который означает союз любви,
связь и соединение святых со Христом и с горними святыми ангелами».
Иконы в иконостасе
В знак сего-то в
иконостасе над царскими дверьми в средине ставится образ Спасителя, по правую
сторону его лик Божией Матери, а по левую Крестителя и Предтечи, иногда же и
изображения ангелов, апостолов и других святых. Все это внушает мысль, что
Христос со святыми Своими пребывает на небесах, таинственно однако ж
соприсутствует и нам и имеет придти судить мир.
§ 3. Солея пред иконостасом
Впрочем, иконостас
состоит не в одной перегородке: к нему относится и находящееся перед ним
возвышение со ступенями; это возвышение бывает не только пред царскими вратами,
но и идет от южной стороны до северной. Возвышение это хотя и не представляет
предмета особенной важности, но по назначению достойно всякого уважения;
древние отцы не преминули дать ему значение и назвали оное, особенно среднее,
на своем языке солея (отсюда и римское solium - престол). Итак, в церкви для Св. Даров
находятся собственно два престола: один внутренний, другой внешний; первый
устрояется внутри алтаря и назначается для освящения Даров, а второй для
раздаяния оных верующим. Как высоко рассуждали и как пространно писали о
божественных делах отцы греческой Церкви! Они не преминули дать почетные и
священные названия не только великолепнейшим вещам, но и самым, по-видимому,
незначительным частям храма. Значение и превосходство этого внешнего престола
или солеи древние отцы понимали и превозносили в сочинениях своих. Иероним в
своем разговоре христианина с люциферианином, упоминая о святом причащении,
говорит: «епископ преподает народу св. Евхаристию с возвышеннаго места
(солеи)».
Св. Златоуст священника,
призывающего народ к принятию Божественного Тела, изображает сими словами: «по
сей причине священник, стоя на возвышенном месте (на солее), дабы виден был
всеми, при великом молчании громко произносит: Святая святым». Итак, солея
необходима для раздаяния Св. Даров. Ступени же, по коим всходят на солею,
Симеон Солунский (в гл. 135) назначает для сидения иподиаконов и чтецов. «На
сопрестолии, пишет он, непристойно сидеть даже диаконам. Им отделено другое
место, которое поэтому и названо диаконник, и в котором им и сидеть следует.
Для иподиаконов же и чтецов отделена вне алтаря солея, которая и называется
местом чтецов». Здесь следует заметить, что когда избранный из чтецов,
кандиловозжигатель, который есть и прислужник екклисиарха, по своей обязанности
ходит по солее и украшает св. иконы, или зажигает лампады, тогда он делается
распорядителем всей солеи. Впрочем, солея необходима и для предосторожности;
она препятствует множеству предстоящих христиан подходить к иконостасу, стоять
у него, и чрез то дает удобство кандиловозжигателю заниматься своим делом, а
священникам или диаконам совершать входы из алтаря в храм или из храма в
алтарь.
§ 4. Амвон
От средины возвышения или
солеи, далее во храме находится другое особенное возвышение, которое называется
амвон. Амвон, по словам св. Германа, означает находившийся у св. Гроба
камень, который отвалил ангел, проповедуя и глаголя о воскресении мироносицам.
§ 5. Кто восходит на амвон
Так как на амвон восходят
только священники и диаконы, образуя собою ангелов, и на нем читают Евангелие,
посему на него и не дозволено всходить никому другому для какого бы ни было чтения.
Разве только еще иподиаконы и чтецы, как правильно возведенные в чин
церковнослужебный и ариерейским посвящением удостоенные исполнять звание свое,
могут всходить на амвон. Об этом говорится и в 15 правиле собора
Лаодиакийского: «без малых риз никто на амвон не должен всходить, т.е. как
сказано в толковании: никому не следует всходить на амвон, ни петь, ни читать
людям божественнаго слова, если кто на главе не имеет священническаго
пострижения, и не принял по св. правилам благословения от своего пастыря».
Впрочем, помня, что для иподиаконов и чтецов, по их степени, назначено место на
ступенях солеи, как показано выше, они при чтении апостольских посланий не
всходят на амвон, а становятся на ступень оного. Сверх того амвон этот
называется диаконским, потому что на нем только диаконы читают Евангелие и
ектений.
Глава VIII. О дверях царских, катапетасме или завесе и о
прочих дверях
§ 1. Двери царские и святые
В иконостасе находятся
три двери, ведущие из алтаря в храм; одни называются средними, другие южными, а
третьи северными. Средние врата, прямо от престола ведущие во храм,
достойны уважения больше других. Средние врата, во первых, называются
царскими, потому что чрез них в Св. Дарах проходит Царь славы и Господь
господствующих; потом они называются святыми, потому что чрез них проносятся
Св. Дары; притом эти врата святы и потому, что чрез них не позволено входить
простым людям, а только освященным.
Глава IX. О светильниках, воске, елее и фимиаме
§ 1. Светильники во храме многоразличны
Церковь во всех своих
трех частях, т.е. в алтаре, храме и притворе, по средине и по сторонам
освещается различными светильниками. Особенно замечательны в ней светильники о
двух свечах или дикирии, о трех или трикирии, о седьми и двенадцати. Из
светильников последние, т.е. имеющие семь и двенадцать свечей, иногда
называются поликадилами, или многосвечными; а те, кои имеют более двенадцати
свечей, называются паникадилами, или всесвечными, и этим отличаются от
поликадил.
§ 2. Что знаменуют?
Все сии светильники, по
различному положению и по неравному числу свечей, имеют разное значение. Вверху
весь средний купол молитвенного храма освещается многими свечами; эти свечи
поставлены на круге, висящем под куполом. Круг этот вместе со свечами у
Григоровича-Барского (стр. 521) называется по-гречески хорос. Симеон Солунский
(в гл. 27, о храме) свечи в хоросе уподобляет звездам, а самый круг, где
поставлены свечи, называет твердью и говорит: «красота храма доказывает доброту
твари, свечи же, поставленныя высоко, изображают звезды, а крут твердь». Но в
наших русских церквах этот хорос, устрояемый в греческих церквах в куполе,
заменяется поликадилом, или паникадилом, утверждаемым вверху того же купола.
Тот же писатель (в гл. 140) говорит: «в храме и другие светильники
поставляются; иные, как например свечи местный и прямыя, во образе древняго
огненнаго столпа (водившаго Израиля в нощи); другие (на каждой лампаде
разнообразно постановленные) во образ Купины; те свечи, кои располагаются на
лампаде правильными кругами, обозначают колесницу, восхитившую Илию, а самые
круги изображают как бы колеса этой колесницы; три свещи, как то трикирии,
делаются во образ Троицы; седьмисвещники устрояются по числу даров Св. Духа;
двенадцать светильников соответствуют лику апостольскому, между ними висит один
высший свет (лампада на горнем месте), или повыше царских врат во образ высшего
Света - Иисуса; дикирий же (светильник о двух свечах) означает два естества
Спасителя; одинокие светильники (иногда на лампадах ставится по одной свече),
означают или единство Троицы, или одного из святых, пред иконою котораго
поставлена свеча, или привешена лампада».
Глава X. О притворе и паперти, о оглашенных и кающихся
§ 1. Притвор и паперть
Притвор есть третья часть храма и, как предхрамие, от
молитвенного или среднего храма отделяется особенною стеною, в которой
находятся одна или три двери. В притворе во время поучений и некоторых
церковных служб по правилам велено было стоять оглашенным, т.е. готовящимся к
крещению и кающимся. Паперть при храме за притвором есть крыльцо или сени
с крышею. Эти сени или крыльцо греки называют внешним притвором, а самый
притвор внутренним.
Завеса в западных дверях
Значение молитвословий,
совершаемых в притворе, Симеон Солунский (в гл. 12, о храме) так выражает:
«когда мы перед храмом (во внутреннем притворе) творим молитвы, тогда храм
самый образует для нас небо, и уподобляется раю, бывшему в Эдеме. Посему в
некоторых священных обителях, во время пения вне храма (в притворе), самый храм
отделяется завесами, которые открываются, когда служащие входят в него. Этот
обычай напоминает то, как Христос нисшел даже до нас, средостение преграды
разрушил, подал мир и небеса отверз». В гл. 155 тот же писатель говорит: «в
начале служения вне храма, как бы пред раем или самым небом, изображая только
землю: с нами часто стоят кающиеся, обратившиеся к вере, или после отречения,
или после убийства какого-нибудь, или оглашенные в вере. Когда же после
молитвословия, совершеннаго в притворе, отверзаются врата (западныя), тогда мы
входим в божественный храм, как бы в рай или в самое небо. Оглашенные и
кающиеся остаются вне храма, в притворе, и тем самым на деле показывают, что
нам, т.е. верным, отверзлись небеса, открыт вход во святая святых, и что мы
приближаемся к Свету и престолу Господню. Идя к востоку, или алтарю, мы, как на
облацех, с восторгом поем божественные словеса и песни; вошедши во внутренний
храм, мы, как на воздухе, идем во сретение Господу, Который, взошед на небо,
возвел и нас горе и уготовал нам путь чрез Самого Себя, дабы мы всегда
пребывали с Самим Господом, Который за нас священнодействует». Вот почему,
когда входят из притвора во храм, врата отверзаются и завесы отдергиваются, так
как теперь горнее открылось и соединилось с земным. Оглашенные и кающиеся,
стоящие в притворе, стоят как бы на земле; и одни из них, отвергшиеся Бога или
виновные в человекоубийстве, весьма далеки от входа на небо, т.е. в храм, или
только несколько к нему приближены. Симеон Солунский с особенным вниманием
объясняет вход из притвора в храм, бывающий по окончании полунощницы. «Когда
срединощная песнь (полунощница) совершится», - говорит он (в гл. 309), - «тогда
отверзаются врата, ведущие в храм, как бы на небо, и мы входим туда, как бы от
земли, подобно тому, как по втором пришествии, иже
Христовы суть восхитятся на облацех, и тако всегда с Господем будут».
2.1.4. Архиепископ Сергий (Голубцов). Церковная архитектура
(Журнал «К Свету», №17,
Символика русского храмоздательства,
М., 1997, с. 48- 59.)
Архиеп. Сергий (Голубцов) - автор труда по теории церковного искусства,
написанного в 1962 году, часть которого посвящена церковной архитектуре.
Храмы, в которых
совершается богослужение Православной Церкви, имеют своим историческим началом,
с одной стороны, ветхозаветную скинию, а с другой, горницу, в которой совершена
Евхаристия Господом нашим Иисусом Христом.
Первая служила прообразом церкви Христовой, вторая -
ее осуществлением, зерном, из которого впоследствии выросло могучее древо,
символизировавшее грядущее небесное Царство.
В первые века христиане
не могли осуществлять храмостроительство в силу репрессий, но тем не менее с
самого возникновения христианских общин мы наблюдаем вполне сложившееся
внутреннее размещение главных богослужебных помещений. Мы имеем в виду
подземные храмы в катакомбах: крипты и капеллы. Так, например, на краю Рима,
около ворот, носивших название «Порта Маджиоре» был открыт в 1917 г. подземный
храм-базилика, возникший в толще грунтового туфа в 50-х годах в правление
[императора] Клавдия (сконч. в 54 г.).
Это уникальное сооружение
является предшественником соответствующего типа первичных христианских храмов,
в частности, христианских базилик.
В других подземных храмах
в алтарных апсидах высекались седалища для епископов с боковыми сидениями для
пресвитеров.
Одновременно с подобными
подземными храмами существовали в домах помещения, отводимые под места
богослужебных собраний христиан, носившие название икосов. То были столовые
помещения, иногда богато украшенные двумя рядами колонн, которые делили их на
ряд пролетов (нефов), из которых средний был шире и выше боковых.
Возле икосов находились
бассейны, окаймленные стенами и колоннами под открытым небом, так называемые
«перистили». Они могли служить баптистериями для новообращенных.
Икосы явились
первоначальными христианскими интерьерами, из которых впоследствии возникли
древнехристианские базилики. Так последовательно развивалась
архитектурно-художественная композиция древнехристианских храмов, подчиняя
своему назначению бывшие дотоле жилыми помещениями и интерьеры гражданских
зданий.
Этому во многом
способствовало само по себе символическое значение храмов, как кораблей,
уподоблявшихся Ноеву ковчегу, который служил прообразом Церкви Христовой.
Византийская архитектура
представляет из себя сочетание и переработку архитектуры сирийской,
малоазийской (с ее провинцией Анатолией) и, отчасти, александрийской на старой
греко-римской основе. Восточная архитектура, в частности сирийская, привнесла
сильное изменение в базиликальные здания: укоротив их длину, она их расширила,
приблизила к квадрату, исключила поперечный неф (трансепт) и, наконец, возвела
купола на парусах.
Так сложился новый
центричный тип храмов, впоследствии весьма распространившийся в Восточном
Православии и в нем нашедший глубокое символическое значение.
Строительство храмов, по
мере распространения христианства в различных странах и народах, на протяжении
столетий привело к созданию национальной храмовой архитектуры.
Однако следует отметить,
что первоначальный вид базилик с внутренней композицией храма в виде
продольного четырехугольника и главных ее частей: алтаря, средней части храма и
притвора, легли в основу храмовой архитектуры всех христианских народностей
древнейшего периода. Каждая страна вырабатывает на основе общего данного типа
свою национальную храмовую архитектуру. В этом сказалось многогранное выражение
единой Церкви Христовой.
Если в Риме христианская
базилика сохраняет свои конструктивные удлиненные формы с двухскатной крышей,
похожей на домовую постройку, то на Востоке в Малой Азии, Сирии, Палестине,
Месопотамии базиликальная архитектура вырабатывает центрические ее выражения.
Здесь находят свое применение своды, арки и купольная система завершения
здания, которые впоследствии найдут свое блестящее применение в византийской
архитектуре, которая претворила базилику в центрическое здание с куполообразным
завершением.
Так Церковь Христова
постепенно совершенствует формы храмовой архитектуры, идя неуклонно по пути их
выражения как домов Божьих, существенно отличающихся от жилищ человеческих.
Просмотренный нами
вкратце в главных чертах процесс формирования и развития храмовой архитектуры
древнейшего периода приводит нас к выводу, что само по себе назначение храмов
как собраний христиан для богослужения и всей совокупности жизни церковной
неуклонно вело храмоздательство к мистическому выражению в них Церкви небесной
и земной, объединенных и возглавляемых Единою Главою Господом нашим Иисусом
Христом.
Краткий обзор развития
храмовой архитектуры приводит нас к следующим выводам.
В ее развитии наблюдается
всеобщность и постоянство в осуществлении главных моментов, а с другой стороны
изменчивость форм.
К первым относятся
наличие основных частей здания: алтаря с боковыми помещениями, жертвенником,
диаконником и алтарной преградой, далее, средней части с солеей, амвоном и
клиросами, иногда хорами и прилегающей трапезой и, наконец, притвором
(нартексом), имеющим один или несколько входов.
Формы, изменяющиеся в
зависимости от национальных традиций и стилей будут следующие:
1. Прежде всего, план,
диктующий различные композиции внутреннего размещения частей целого и их
соотношения между собой, в то же самое время сохраняющий большую устойчивость в
расположении главных частей алтаря, средней части и притвора.
2. Характер архитектуры:
базилики, базилики с купольным завершением, центричные храмы с различными
купольными завершениями (храмы прямоугольные в плане, близкие к квадрату,
круглые, шестигранные, крестовидные, ярусные и т.п.).
3. Завершение храмов: без
глав, одноглавые, трехглавые, пятиглавые, 13-главые, многоглавые.
4. Кровли, их
перекрытия: двухскатные, восьмискатные, шатровые, позакомарные.
5. Декоративная обработка
храмов: стен, окон, входов, барабанов, куполов.
Из соединения обоих
видов, неизменного и изменяемого, в храмовой архитектуре мы выносим
определенное заключение о единстве литургической жизни Православной Церкви при
многообразном проявлении ее архитектуры в разные времена и в разных
народностях.
В храмовом зодчестве
творчество архитектора не обезличивается, а наоборот живет полноценной жизнью в
созвучии выражения ее со своей народной церковной архитектурной традицией.
Объединенные единой
православной верой все поместные Церкви, входящие в состав Вселенской Церкви,
осуществляют путем созидания своих национальных храмов, единство богослужения,
выражая его богатством мистического содержания, многообразием символических
форм храмовой национальной архитектуры, подобно символическим обозначениям
Церкви Христовой как корабля, Ноева ковчега, камня исповедания веры, столпа и
утверждения истины, мистического Тела Христова и т.п.
В зависимости от того или
иного символического содержания или национальной традиции, зодчие строили храмы
различные в плане и по форме внешнего выражения.
Каковы пути, ведущие к
закреплению церковных традиций в храмовом зодчестве?
Путь к сему лежит в
тщательном изучении всего многовекового архитектурного наследия, оставленного
нам Православной Церковью в различных национальных его преломлениях.
Мерилом, образцами будут
являться при этом лучшие памятники национальной храмовой архитектуры,
заслужившие всеобщее одобрение. Так, например, на строительство храмов Киевской
Руси в последующие эпохи повлиял соборный храм Киевско-Печерского монастыря.
Развитие храмовой
архитектуры главным образом зависит от талантливых зодчих, существенно
понимающих задачи, стоящие перед ними.
Тщательно изучая прошлое
церковное наследие, они многое берут из него, преломляя в своем творческом
сознании древние принципы и их художественное выражение.
Так возникают стили
храмов и их смена.
Без соблюдения древних
традиций немыслимо было бы появление таких новых храмов на Руси, как Покровский
храм в Москве (церковь Св. Василия Блаженного), путь к которому лежит через
столпообразные храмы глубокой древности.
Осуществление принципов
церковного Предания настолько ярко отразилось в храмовой архитектуре, что можно
довольно верно определить: отражает ли данный храм верность церковному
Преданию, или оно в нем затемнено, искажено элементами, чуждыми Православию.
Мерилом верности
церковному Преданию будет служить прежде всего отражение в архитектуре храма
национальной вековой традиции храмового зодчества.
Это обстоятельство
позволит нам отнести данный храм к определенной церкви: византийской, русской,
болгарской и т.п.
Во-вторых, и это самое
главное: соответствует ли он богослужебному назначению, символике храма?
Православный храм должен обязательно
иметь единство своего внутреннего и внешнего выражения. К этому призывает его
вся мистическая сущность храмовой архитектуры, выражающей Церковь Христову.
Существенное выражение путем храмовой архитектуры
Вселенского Православия есть задача всех времен и народов, его содержащих и
сохраняющих до настоящего времени. Церковь Христова, одухотворяемая Духом
Святым, явила миру единство храмового зодчества чрез преломление его постижения
в национальной храмовой архитектуре.
2.1.5.
Епископ Варнава (Беляев).
Место молитвы
(храм и его внешняя обстановка)
(Из книги «Основы искусства святости».
Глаголы жизни, 1992, № 2, с. 8486.)
Епископ Варнава
(Беляев) - новомученик Российский, написавший книгу «Основы искусства
святости».
Уже из различных
наименований - «дом Господень», «дом Божий», «святилище» и других,
встречающихся в Священном Писании и Священном Предании, можно заключить о
важности и святости христианского храма. Св. Церковь приравнивает последний
самому небу. «В храме стояще... на небеси стояти мним», - говорится в одном из
песнопений. «Церковь есть земное небо», - говорит также св. Алексий, митрополит
Московский.
Здесь в материальных
вещах отражается нематериальный, невидимый мир, через материю действует
неосязаемая руками сила духовная.
Алтарь (в особенности
престол) - святейшая часть храма, где не только невидимо, но и видимо, в
Пречистых Тайнах, присутствует Сам Господь.
Срединную часть храма -
дорожку от архиерея, стоящего на кафедре (или священнослужителей на величании),
до престола в алтаре - можно уподобить той таинственной лестнице, виденной
Иаковом, «еяже глава досяжаша до небесе» и где «Господь утверждашася на ней».
Последняя часть храма
есть притвор. Во многих церквах она не совсем резко отделена от средней части,
а иногда нынешние архитекторы, мало разбирающиеся в церковно-богословских
вопросах, и совсем ее выключают. Притвор разделяется на две части - внутреннюю,
собственно притвор (также «трапезу» по Уставу), и внешнюю, или паперть. В
первой некогда стояли некоторые из кающихся или оглашенных. Теперь устав
предписывает совершать здесь молитвы покаянного характера: часы, литию (на
вечерне), полуночницу, чин погребения мирских человек и священников. В
монастырях иногда притвор служит местом братской трапезы, откуда произошло его
второе название.
Во второй части притвора,
то есть на паперти, помещались самые низкие классы кающихся. Здесь же
находились, как и у нас теперь, и нищие, от латинского названия которых (паупер
- «бедный») некоторые производят и самое слово «паперть».
2.1.6.
Епископ Лука (Войно-Ясеневский).
Сила моя в немощи совершается
(М., 1994.)
Архиеп. Симферопольский и
Крымский Лука (Войно-Ясеневский) до пострижения в монашество был знаменитым
хирургом и ученым с мировым именем. В своих духовных беседах владыка помогает
ближнему перенести земные скорби и удостоиться Царствия небесного.
Подчиняясь общим законам
свой психической организации, человек испытывает влияние окружающей его среды и
в этом смысле все впечатления, которые человек получает в храме, подготовляют
его к совершающемуся в нем богослужению. Поэтому так велико влияние на душу
христианина храма, в котором как бы небо нисходит на землю и предощущается
воссоединение Бога с творением, что составляет Его конечную цель.
2.1.7.
Епископ Николай Охридский. Символы
(Журнал «К свету», №17.
Символика русского храмоздательства.
М., 1997, с. 3-5.)
Действительность и ее символы
Об этом дивно говорил
Симеон, Новый Богослов: «Тот, кто просветился Духом Святым, всеобновляюшим,
стяжал новые очи и новые уши и больше не смотрит просто, как человек, т.е.
чувственно на чувственное, но, как бы стоя над людьми, рассматривает
чувственные и телесные предметы духовно, как символы вещей невидимых» (Слово
65). Таков духовно грамотный человек. Он читает слова природы не по складам,
подобно начинающему обучаться грамоте ребенку, но следит за смыслом, усваивает
смысл и истолковывает смысл.
Подобную мысль выражает и
Св. Максим Исповедник, говоря: «Весь духовный мир таинственно представлен в
символических образах в мире чувственном для тех, кто имеет очи, чтоб видеть, и
весь чувственный мир заключен в мире духовном». Видят это те, кто имеют очи,
чтобы видеть, то есть, кто обучен, тот и умеет читать по смыслу; или, другими
словами, кому открыто духовное зрение, те могут смотреть духом - духовно, а не
только телесными очами - телесно.
И апостол Павел говорит
об этом такими словами: «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3.6). И еще:
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к
лицу» (1 Кор. 13.12). И опять, дальше, еще выразительнее: «Мы смотрим не на
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор.
4.18).
И ветхозаветная скиния,
которую сделал богомудрый художник Веселеил по плану, показанному Богом Моисею
на Синае, служила «образом и сенью небесною» (Евр. 8.5). Но скиния исчезла с
пришествием Христовым, как слова, которые теряются из вида, с познанием их
смысла. С появлением действительности символ этой действительности исчез.
Придя, Господь простер символику духовного мира на всю вселенную. Не только скиния,
которая служила как бы первым сокращенным букварем духовного Царства, но и вся
вселенная представляет образ и тень вещей небесных.
Христос, если можно так
сказать, обеими руками брал символы природы для изъяснения духовной жизни,
которую являл Он миру. Когда множество людей собиралось около Него, Он многое
говорил им в притчах.
2.1.8.
Епископ Серафим (Звездинский).
Хлеб небесный. Проповеди о Божественной литургии
(М., 1996.)
Епископ Дмитровский
Серафим (Звездинский) (1883-1937) - новомученик Российский, духовный писатель.
В средней части храма
стоят молящиеся, в алтаре находятся две святыни: святой престол и жертвенник.
Престол поставляется в алтаре с особыми священнодействиями. Прежде всего его
несколько раз тщательно моют, затем надевают на него «срачицу» - белую льняную
одежду - и перевязывают его крестообразно поясом. Потом надевают на престол
блестящую одежду из парчи и после этого покрывают престол покровом.
Все, что я описывал,
имеет глубокий смысл. По толкованию святых отцов, в трех частях храма
изображается троичность Божества, с одной стороны, а с другой - притвор
изображает нашу землю, средняя часть храма - видимое небо, алтарь - небеса
небес. И престол изображает престол Божий. Всюду святая Церковь напоминает нам
о божественной троичности, везде Господь проявляет Себя как Троицу Единосущную.
Если мы всмотримся в
одежды святого престола, то и здесь найдем для себя много образов. Святой
престол омывают, чтобы он стал местопребыванием Господа. И человек, этот «храм
Божий», по свидетельству святого апостола, тоже омывается в воде крещения.
Белая одежда престола напоминает крестильные одежды, и крестообразное
опоясывание говорит о кресте, полученном нами при крещении. Блестящая одежда
говорит о блеске славы Божией, который не могут выносить огнепламенные
серафимы, которые, предстоя престолу Царя Славы, закрывают лица свои и ноги
крыльями, чтобы не опалиться. С каким же трепетом должны мы предстоять престолу
Божию?
Вторая часть храма
изображает небо, и мы, верующие, должны, как звезды на небе, гореть нашими
душами в молитве.
Святой престол
поставляется на мощах мучеников в память того, что первые христиане молились в
катакомбах, причем престолом для них иногда служили гробницы святых мучеников.
Святой престол должен освящаться епископом, но теперь, когда епископу не всегда
возможно поехать на освящение храма, он освящает только антиминс. «Антиминс» в
переводе значит «вместопрестолие» - это шелковый или полотняный плат, в котором
зашиты святые мощи; на плате изображается положение во гроб, четыре евангелиста
и делается надпись о том, когда, при каком епископе дан этот антиминс. Антиминс
обычно завертывается в особый платок-покров, а во время литургии
развертывается, и на нем полагается святой дискос и Чаша. Без антиминса не
может совершаться литургия, на антиминсе можно приступить к служению ее в
обыкновенной комнате, в палатке, на обычном столе вместо престола. Антиминс -
переносный престол. Кроме антиминса, на святом престоле полагается святое
Евангелие, крест и дарохранительница, где сохраняются Святые Дары запасные. Вот
почему на престоле не только невидимо, но и видимо, в святом Евангелии и Святых
Дарах, присутствует Сам Господь.
Жертвенник стоит в левой
стороне алтаря, на нем совершается проскомидия, а в древности на нем полагали
верующие хлеб, который они приносили для совершения божественной вечери.
Вот краткое описание
храма, в котором мы бываем с вами за божественной службой. Всюду и все говорит
нам о присутствии Бога. С каким же благоговением должны мы стоять здесь перед
престолом Божиим, пред которым с трепетом предстоят ангелы, которым и мы
уподобимся в храме, воспевая славословие. И как жалки, как несчастны люди,
которые не любят храма Божия, которые меняют службу Божию на ветошь мира сего,
которых житейские заботы лишают возможности бывать в храме.
2.1.9.
Священник А. Светлаков.
Христианские храмы, история их и
назначение
(Н. Новгород, 1882.)
...Христианину стоит
только вспомнить о святых таинствах Церкви, через которые он получает
Божественную благодать, подаваемую ему по силе крестных заслуг Спасителя и в
которых он получает освящение не по душе только, но и по телу, почему св.
апостол и называет тела наши храмами Св. Духа, церквами Божиими (1 Кор. 3.16,
6.19) и которые по своему совершенству, согласно с завещанием апостолов,
связываются с храмами, как особыми учреждениями, освященными для этого, - и
тогда необходимость храма, необходимость самой тесной связи с ним будет ясно
представляться, как неотъемлемое требование его освященного и
облагодатственного существа.
С другой стороны существо
Божие непостижимо по своей духовности и человек никогда в этой жизни не
может видеть Его как представляются ему видимыми все естественные предметы. Это
ясно выражают св. апостолы Иоанн и Павел: «Бога никто не видел никогда» (Ин.
1.18; 1 Ин. 4.12); «Бог обитает в свете неприступном, и никто из людей не видел
Его и видеть не может» (1 Тим. 4.16). Но стремление к единению с Ним составляет
неотъемлемое требование человеческого духа настолько сильно и неумолимо, что
человек никогда не может ни задушить его, ни отказать ему. В этой своей
томительной жажде он встречает удовлетворение и ответ со стороны Самого Бога.
Чтобы насколько возможно и необходимо для человека в целях его нравственного
усовершенствования он мог познать Бога, так сказать осязать Его присутствие, Сам
Господь нисходит к человеку, являясь ему в видимых образах и освящая своими
явлениями известные места.
Таким образом, появляется
побуждение для человека поставить себя ближе по отношению к Богу, иметь особые
места или здания, посвященные Ему. Вследствие представления о непостижимости
Божественного существа мы встречаемся в Ветхом Завете с отсутствием изображений
Божества не только в патриархальный период, но и в последующем подзаконном
периоде видим только напоминание о Боге, соединенное с ветхозаветным алтарем,
посвященным Ему1.
Обратимся к истории.
Человек, созданный Богом
с душой и телом, при самом творении оказывается в раю, где Господь Сам
руководит им как Отец, беседует с ним, дает ему свои наставления и повеления и
дает ему заповедь о невкушении плода от древа познания добра и зла. Таким
образом, сообразно с собственной природой с первых минут своей жизни человек
оказался в такой обстановке, что рай являлся для него храмом, как местом
присутствия Божия и его обращений и молитвенных отношений к Богу, - первым
храмом на земле как прообразом наших христианских храмов, в которых мы
участвуем в молитве к Богу и душой и телом. И пока человек был достоин этой
святыни, покорял свою волю воле божественной, свято хранил завет свой с Богом,
он пребывал в раю, пользовался всеми благодатными дарами, связанными с этим
святым местом. Но когда была нарушена заповедь, был разорван завет и человек
оказался недостойным, то он был лишен блаженной жизни в раю и изгнан из него.
Но потерялась ли вместе с этим падением человека потребность в его сердце
молитвенного обращения к Богу? - Из слова Божия и из учения Св. Церкви мы
знаем, что образ Божий через грех помрачился, но не уничтожился в человеке;
следовательно, мысль о Боге, как прирожденная человеческому существу, постоянно
побуждает его обращаться к Богу, а сознание своей виновности усиливало и
побуждало эту потребность. Из дальнейшей истории мы видим, что люди, обращаясь
с сознанием своей греховности и виновности к Богу, испрашивая в своих молитвах
прощения своих грехов, всегда совершали это лишь в определенных местах.
Пока народ жил отдельными
племенами под управлением старших в роде, каждое племя имело свое особое место
для совершения жертвоприношений, составлявшими сущность ветхозаветного
богослужения. Это составляло
существенную черту
богослужения не только избранного народа из среды других народов, но и
язычников, переставших следовать пути, указанному Богом. В самом деле, на что
указывают кумиры, представлявшие для язычников божество, поставленные перед
ними жертвенники, на которых приносились жертвы в умилостивление разгневанному
божеству, - дубравы, посвященные богам, на что, как не на то, что язычники
совершали богослужение в определенных местах, с ними связывали молитвенные
воззвания к богам и здесь чувствовали себя ближе к божеству, которое
представляли как бы более внимательным и снисходительным к ним в известном,
посвященном ему месте?!
В патриархальный период
верующие совершали свое богослужение на высотах или на местах, ознаменованных
божественными благодеяниями или богоявлениями. Так, например, Ной принес
благодарную жертву на горе Арарат, когда вышел из ковчега. Авраам - на горе
Мориа, указанной самим Господом. Иаков на том месте, где Господь явился ему в
видении, и назвал это место Вефилем (домом Божиим).
Со времени Моисея, когда
евреи после освобождения из египетского рабства составили особый, отделенный
народ, начавший жить самостоятельной жизнью с особым назначением и дарованными
ему правами и когда, вступив в завет с Господом при горе Синай, составили одну
священную семью, как хранительницу данного обетования о будущем Семени жены,
имеющей избавить род человеческий от порабощения диаволу, Господь повелел
Моисею построить особое здание для молитвы и жертвоприношения, как видимый
образ божественного Своего присутствия в среде народа. Таким образом, явилось
на земле первое специально устроенное место служения истинному Богу в виде
скинии свидения, которая, как походная палатка, переносилась с одного места на
другое, вследствие необоснованности местожительства евреев. Во время Соломона,
когда народ окреп и утвердился на земле обетованной, она была заменена храмом,
постоянным местом, посвященным единому Богу и устроенном в Иерусалиме.
И с тех пор судьба
иудейского народа связывалась с ним тесными узами, - судьба не только
религиозная, но и политическая.
У иудеев был только один
храм в честь истинного Бога для всего народа как выражение абсолютного единства
Божия. Сюда иудеи шли со всех сторон для принесения жертвоприношений и для
молитвы; здесь они изливали перед Богом чувства радости и скорби; сюда же они
собирались для выражения благодарных чувств к Богу за общественные благодеяния
и выражали чувства скорби при общественных несчастиях. Жизнь их так тесно была
связана с Иерусалимским храмом, что оскорбление его святыни являлось
оскорблению национального чувства, его разрушение соединялось с падением
политической независимости. Иерусалимский храм был центром тяжести их
религиозно-гражданской жизни. Как ясно выражает это полный грусти и скорби
вопль иудеев, переселенных в Вавилон: «Пропойте нам из песней Сионских», -
говорят им вавилоняне: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой», - отвечают
они. «Если забуду я тебя, Иерусалим, пусть забудет меня десница моя. Прильни
язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима
во главе (основе) веселия моего» (Пс. 36. 36). К святому Иерусалимскому храму
все частные проявления жизни еврейского народа относились, как периферия к
центру круга; и семейная и общественная жизнь получали здесь свое освящение;
под его сенью еврей получал воспитание и образование, которые так закалили его
в веровании и преданиях народа и выделяли его из среды других народов, что он
всегда стоял в отношении религиозно-нравственной жизни выше других народов. С
этим храмом тесно увязывались сами верования, так что кто не уважал и не
почитал храма, тот считался неверующим в истинного Бога. Таким образом, под
сенью и в связи с Иерусалимским храмом текла жизнь иудеев и постепенно
выяснялись всемирная идея о спасении людей через обетованного Мессию, это
чаяние всех народов.
Этот иудейский
Иерусалимский храм принимал в своих стенах сорокадневного младенца Иисуса, в
нем Он, двенадцатилетний отрок, беседовал с иудейскими учеными, приводя в
удивление их своими мудрыми вопросами и ответами. Неоднократно этот храм был
свидетелем божественной проповеди Спасителя, утверждавшего народу: «Аз и Отец
едино есмь» (Ин.10.31), - был свидетелем многих чудных благодеяний, совершаемых
на благо и спасение народа, - был свидетелем той пламенной ревности, которую
Спаситель показал в изгнании торговцев, унижавших неприличным месту ремеслом
святыню храма и делавших его из дома молитвы вертепом разбойников. Спаситель во
время свой земной жизни всегда с уважением относился к Иерусалимскому храму,
этому единственному ветхозаветному святилищу в честь истинного Бога, пока Своей
жертвой на Кресте не отменил всех ветхозаветных жертв, бывших лишь прообразом
Его жертвы, пока не разорвалась завеса, отделявшая святая святых храма от
святилища и не произнес Свое предпоследнее предсмертное слово «совершишася!». И
вот, в исполнение пророчества Даниилова о семидесяти седьмицах (Дан. 9.2327),
когда Кровью Христовой прекращены жертвы и приношения, началась новая эра в
человеческом роде, - обетование перешло в исполнение и Искупитель мира уже
принес свою умилостивительную жертву за грехи людей и из чад гнева сделал их
чадами любви и божественной благости, когда и само богослужение получило новое
содержание, новую форму, тогда появилась потребность и в новых зданиях для его
совершения.
Как сущность
ветхозаветного богослужения составляли жертвоприношения, так сущность
новозаветного составляет таинство Евхаристии, как принесение бескровной жертвы
Христа Спасителя. В соответствии с этой великой жертвой, имеющей продолжение по
завещанию Иисуса Христа, до Его второго пришествия, начали устраиваться места
христианского богослужения - христианские храмы.
Первый христианский храм,
как краеугольный камень, на котором устраиваются все христианские храмы, - это
Сионская горница, в которой в первый раз Спаситель совершил таинство причащения
со Своими святыми апостолами, когда сказал им, преподавая хлеб: «Сие есть Тело
Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов», а преподавая вино, сказал: «Сия
есть Кровь Моя».
Первые христиане во
времена апостольские собирались для совершения богослужения в особых домах и
здесь нередко при закрытых дверях, должны были совершать таинство Евхаристии.
«По вся дни терпеше единодушно в церкви», - говорит евангелист Лука об
апостолах и первых верующих, - «и ломише по домам хлеб, принимаху пищу в
радости и простоте сердца, хваляще Бога и имуще благодать у всех людей» (Деян.
2.4647); «Смотрев же прииде в дом Марии, матери Иоанна нарицаемого Марка, идеше
мнози собрани и молящеся» (Деян. 12.12), - «во едину от суббот собравшимся (в
доме) учеником преломити хлеб. Павел беседоваше к Ним, хотя изыти на утрие,
простре же слово до полунощи (Деян. 20.7)». Таким образом, местом богослужения
первых христиан и особенно совершения таинства Евхаристии были обыкновенные
дома верующих, - хотя они по этой причине в глазах христиан получали священное
значение, так что после этого уже не могли служить просто жильем. Поэтому св.
Апостол Павел и называет их церквями в отличие от жилых домов. «Первое
сходящимся вам в церковь, - пишет он коринфянам, - слышу в вас распри... Егда
домов не имате, во еже ясти и пити; или о церкви Божией не радите» (1 Кор. 11.
18., 22)2.
Так было в самом начале
существования Христовой Церкви; еще труднее стало ее положение, когда
разгорелся огонь гонений, когда язычество восстало против нее со всей силой
ненависти и злобы. Верующие лишились возможности приносить благодарную
евхаристическую жертву и в частных домах: ненависть язычников, подогреваемая
христоненавистными иудеями, лишила их и этого уединения. Тогда они вынуждены
были скрываться от них и скрывать свою святыню. Должны были для безопасности
выходить из городов и совершать таинство Евхаристии в тайных местах и
преимущественно в ночное время. А такими местами их богослужения служили, как
указывает история, усыпальницы, где гробы мучеников были престолами или
алтарями для совершения таинства. В воспоминание этого мощи святых до сих пор
представляют необходимую принадлежность каждого престола в храмах3.
Эти усыпальницы
находились большей частью в подземных пещерах или катакомбах4.
Это продолжалось почти до
конца третьего века, когда христиане, в первую половину царствования
Диоклитиана, равнодушно смотревшего на распространение Церкви, имели
возможность построить даже несколько замечательных храмов. Так изображает
состояние церкви того времени по отношению к местам богослужения Тертулиан,
писатель и учитель третьего века: «Нашей голубке (церкви) простой дом» (Прот.
Валент., гл.З). Нужно сказать, что в это время почти не видно, чтобы у
христианских писателей места общественного богослужения назывались храмами,
может быть потому, что они не имели внешних отличий от других зданий, а главным
образом потому, что христиане не хотели этим именем отождествлять свои
молитвенные места с местами языческого богослужения, которые носили названия
храмов. Только у некоторых отцов и учителей Церкви мы встречаем название их
церквями или храмами, так например, у св.Игнатия Богоносца (в послании к
магнезиа-нам, гл. 7); уЛактанция (Церк. ист., Евсев. кн. 10, т.З); у
Тертуллиана (Об идол. 7.); у Климента Александрийского (Стромат. 1, 846); а
вообще они назывались то домами Божиими (Киприан, еп. Карфагенский), то
молитвенными домами (Лактанций), то просто домами собрания (Лактанций), то
усыпальницами (в Церк. ист. Евсевия); и чаще всего церквами (домами Божиими).
Такое состояние
христианских мест богослужения было причиной того, что над христианами нередко
глумились язычники, обличая их в безбожии и неверии. В таких словах Минуций
Феликс приводит эти глумления язычников над христианами: «для чего нет у них
(христиан) ни алтарей, ни храмов, ни статуй известных. Почему они не собираются
явно? Какой это Бог единый и одинокий, которому они поклоняются? Только одни
евреи поклонялись единому Богу, но у Бога этого были храмы, алтари, жертвы, обряды,
- а у христиан нет ничего этого» (Минуц. Феликс Октав. Гл. II). Но это не значит, что у христиан действительно
не было определенных мест молитвенных собраний, просто они не имели храмов
наподобие языческих. Цельсу, Лукиану и другим язычникам, возводившим на них эти
упреки, не безызвестны были такие места, в которых собирались христиане для
общественного богослужения. Так, например, Цельс не просто говорил, что
христиане не имеют храмов, но что не имеют громадных, величественных храмов
наподобие языческих.
Со второй половины III века начали появляться молитвенные здания, которые обращали внимание и
язычников. Первые годы мирного царствования Диоклитиана дали возможность
христианам, уже давно сознававшим нужду в особо приспособленных зданиях,
построить, в противовес языческим идольским храмам, несколько церквей (храмов)
для торжественного совершения своего богослужения. Таким, среди прочих, был
громадный Никомидийский храм, который мог вмещать несколько тысяч богомольцев.
Но, к несчастью верующих, судьба их к концу царствования Диоклитиана опять
изменилась. Этот император, долго равнодушно относившийся к их возрастанию и
внешнему благоденствию, по наущению Галерия, злостного и сурового язычника,
своего соправителя, в конце своего царствования издал страшный и жестокий эдикт
(указ), которым строго (под угрозой смерти) запрещалось христианское
богослужение и повелевалось всем без исключения приносить жертвы языческим
божествам. Снова запылали костры для сожжения христиан, снова полилась
христианская кровь, снова христианские храмы стали обращаться в развалины и
пепел, знаменитый Никомидийский храм был сожжен с 20 000 своих богомольцев.
Но это была последняя,
смертоносная для христиан, предсмертная агония язычества, чувствовавшего
неотразимую силу учения Христова, была последняя вспышка и самозащита со
стороны уходящего идолослужения.
Наступила новая эра для
христианства, эра счастья и спокойствия - всходило благотворное Солнце,
осушающее слезы бедствий и несчастий Церкви. На римский престол вступает св.
равноапостольный Константин, принимает христианскую религию под свой царский
скипетр, объявив ее господствующей в империи; и положение христиан изменяется к
лучшему.
Теперь они свободно и
спокойно, под покровом христианского царя, удовлетворяют свое искреннее чувство
единения с Богом в молитвенном обращении к Нему, и св. храмы украшают
христианские города, начиная со столицы (Константинополь). Сам св. Константин
Великий со своей равноапостольной матерью Еленой содействуют этому, строя
множество храмов за свой счет и за счет государства. Так, св. Еленой,
путешествовавшей в Иерусалим для поклонения святым местам, освященным стопами
Спасителя и орошенным Его пречистой Кровью, были построены храмы в Иерусалиме
(храм Воскресения Христова), в Вифлееме, Константинополе и в других местах. Он
всюду содействовал восстановлению и распространению храмов. И какой радостью
объяты были сердца верующих! С каким чувством благодарности принимали они эту
милость от царских щедрот. Сколько радостных слез пролито ими при взгляде на
встающие из пепла и развалин святые храмы. Только теперь св. Церковь, как Новый
Израиль, освободилась от египетского рабства бедствий и страданий, когда она
была подобна горевшей и несгоравшей купине, только теперь она свободно
вздохнула и как бы восстала из гроба. Вот в каких словах передает историк
Евсевий эти чувства радости верующих: «Сколь счастливы мы, говорят они, видя
эти места (т.е. храмы Божий) прежде опустошенными, а теперь, после долгого
грабительства, снова ожившими - видя храмы Господни возникающими из развалин,
восстающими в большем величии и украшенными с большим великолепием! Освящение
этих новых церквей, частные собрания епископов, стечение богомольцев из самых
отдаленных стран, любовь, царствующая между разными народами, священное
согласие, существующее между всеми членами Тела Христова, живущими одним духом,
имеющими то же усердие к вере и воспевающими Господу те же хвалы, - вот
удивительное зрелище, какое представляется нам»5.
Насколько ревностно
относился св. равноапостольный Константин к построению св. храмов, видно из его
письма, адресованного к епископам провинций: «Полагаю, возлюблен-нейший
брат, что все поймут, что всемогущество Божие проявилось, и что все
колебавшиеся из страха или по неверию примут образ жизни, сообразный истине и
добру. Для этого в церкви, где ты председательствуешь, и в прочих, где знаешь,
что есть епископы, пресвитеры и диаконы, имей исключительное попечение, чтобы
занимались церквями, исправляли существующие, увеличивали их и строили новые,
если то полезно. Что же касается расходов, то пусть обращаются через посредство
твое к правителям провинций, получившим повеления исполнять требования твоей
святыни. Бог да хранит тебя, возлюбленнейший брат» (Церк. ист. Евсевия, гл.
46).
Ревность к увеличению и
распространению храмов настолько была велика, как требование внутреннего
религиозного чувства, что нередко самые языческие капища, отличавшиеся как
величиной, так и красотой построек, были обращены с некоторыми изменениями и
освящением, в христианские храмы. Так, император Феодосий Младший даже издал
закон, по которому было велено все капища очищать через постановку в них
крестного знамения, что было уже признаком их обращения в церкви.
Достопочтенный Беда говорит, что Григорий Великий, епископ римский, дал
повеление монаху Августину, чтобы не разрушать хорошо устроенных у саксонов
капищ, но обращать их в места истинного богопочитания; и что в царствование
Фоки после Бонифация IV языческое
капище в Риме, называвшееся Пантеоном, обращено в церковь Всех Святых.
Кроме языческих храмов, с
разрешения царей в места церковных собраний христианами были обращены некоторые
общественные здания, которые у греков и римлян были известны под названием
базилик (царских чертогов). Сам св. Константин положил этому начало и передал
много базилик христианам; поэтому и сами храмы долгое время были известны под
этим именем.
Таким образом,
постепенно, с распространением христианства под покровительством христианских
царей увеличивалось число храмов Божиих, которые украшают теперь христианский
мир и, подобно звездам небесным, служат к просвещению и освещению верующих.
Здесь ясно и наглядно исполнились слова пророка Исайи: «и будет в последние
дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами
и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: приидите и взойдем
на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем
ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима»
(Ис. 2.23).
Переходя к изложению
значения христианских храмов, следует указать, что они отличаются от
обыкновенных зданий не только своей внешней стороной, но главным образом своим
назначением. Хотя мы видим их иначе устроенными, имеющими особую форму,
завершающуюся св. крестом, как вечным памятником божественной любви к нам,
особенно ясно выразившейся в страданиях Спасителя на Голгофском Кресте; но не
во внешности существо храма. Ведь можно возносить молитву Богу везде, на всяком
месте Его владычества, и Спаситель выразил это в беседе с самарянкой, когда сказал,
что «грядет час, когда ни на горе сей (т.е. горе Гаризин, которая была
священной горой самарян, так как на ней был поставлен самарянский храм), ни во
Иерусалиме поклонитеся Отцу. Дух (вездесущий и везде слышащий) есть Бог и иже
кланяется Ему духом и истиною, достоин кланятися» (Ин. 4.2124). На эту мысль
указывали древние отцы и учителя Церкви, когда отражая упреки со стороны
язычников за неимение храмов, говорили что храмы и жертвенники (т.е. как
понимали это язычники) не достойны Бога, что единственный образ Его находится в
Его Сыне и разумных душах, которые через подражание Сыну делаются подобными
Отцу, что они во всякое время и во всяком месте возносили Богу жертвы хваления
на жертвенниках своих сердец, возжигаемых огнем любви. Так, например, Минуций Феликс
на возражения Цецилия, почему христиане не имеют никаких храмов, отвечал:
«какой построю я храм Богу, когда весь созданный Им мир не может обнять Его?
Как я заключу в какое-либо малое здание столь необъятную силу? Не лучше ли
святить Его в нашем уме? Не иначе ли Он должен быть благословляем в нашем
сердце?» (Мин. Окт., стр. 2931). Ориген на подобный упрек Цельса отвечал, что в
самом высшем смысле храмы и изображения Божества заключаются в человеческой
природе Христа, потом во всех верующих, одушевленных Духом Христовым, этих
живых изваяниях, с которыми не сравним никакой Зевс Фидия (языческое божество)
(Против Цельса, кн. 7 и 8, § 17, с. 390).
Можно ли заключить из
этих слов, высказанных в известном смысле и направленных против неверного
понимания язычников, что в древности не было храмов в среде христиан? Можно ли
даже предположить, что они, при всей высоте своего религиозного настроения и
пламенного желания соединяться с Богом, не чувствовали нужды в таких местах
богослужения, в которых ощущается божественное присутствие? Это противоречит
истории и противоречит самому существу богослужения - таинству Евхаристии
(причащения), совершение которого всегда связывалось с особо выбранным и
освященном местом. Храмы или молитвенные дома всегда были у христиан; не
отличаясь внешне от обычных жилых зданий, они отличались своим назначением и
имели в глазах верующих священное значение, значение высочайшей божественной
святости, как место единения с Богом.
Что такое христианские
храмы?
Христианские храмы - это
особо устроенные и приспособленные для совершения богослужения и посвященные
имени Божию здания, в которых совершаются таинства Церкви и особенно таинство
Тела и Крови Христовой (таинство причащения).
Таким образом, с этим
понятием о храмах связывается его временная и вечная судьба, так как только в
них заключается источник благодатного очищения в таинствах Церкви.
Из такого понятия о храме
ясно вытекает наше представление, что храм есть место особенного благодатного
присутствия Бога на земле, т.е. он есть храм Божий.
Такое понятие о храме,
как месте особого присутствия Божия, конечно не выражает того, что Господь Бог
как бы заключился в этом храме, а то, что здесь он изливает на нас Свою
Божественную благодать, подает нам все Свои силы, просвещает и освящает нас светом
Своей Божественной любви.
Господь, как вездесущий
Дух, не нуждается в наших храмах. «Бог, сотворивший мир и вся яже в нем, сей небеси и земли Господь сей, не
в рукотворенных храмах живет: ни от рук человеческих угождение приемлет, требуя
что сам дая всем живот, дыхания и вся», - сказал св. апостол Павел в афинском
Ареопаге (Деян. 17.2425). Так исповедует Господа Бога израильский царь Соломон
в своей молитве, произнесенной им при освящении Иерусалимского храма: «Господи
Боже Израилев! Нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу: Ты
хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим.
Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты
устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоею. И ныне, Боже Израилев, да
будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему.
Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем более
сей храм (Иерусалимский), который я построил (имени Твоему). Но призри на
молитву раба Твоего и на прошение его, Господи, Боже мой: услышь воззвание и
молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм
сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: Мое имя будет там: услышь
молитву, которой будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба
Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем: услышь
на месте обитания Твоего, на небесах услышь и помилуй. Когда народ Твой Израиль
будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою и когда они обратятся
к Тебе и исповедают имя Твое умолять Тебя в сем храме - когда заключиться небо
и не будет дождя за то, что они согрешают пред Тобою... будет ли на земле
голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржащина, саранча, червь, неприятель
ли будет теснить его в земле его, будет ли бедствие, какая болезнь: при всякой
молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем
народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут
руки свои к храму сему, Ты услышь с неба, с места обитания Твоего и помилуй...
Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля придет из земли
далекой, ради имени Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей
руке сильной и о Твоей мышце простертой, - и придет он и помолится у храма
сего: услышь с неба, с места обитания Твоего и сделай все, о чем будет взывать
к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали Имя Твое, чтобы боялись Тебя,
как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей,
который я построил. Когда народ Твой согрешит пред Тобою, ибо нет человека,
который не грешил бы, и Ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и
пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую; и когда
они в земле, в которой будут находиться в пленении, войдут в себя и обратятся и
будут молиться Тебе в земле пленившей их, говоря: мы согрешили, сделали
беззаконие, мы виновные; и когда обратятся к Тебе всею душою своею и всем
сердцем своим в земле врагов, которые пленили их, и будут молится Тебе,
обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты
избрал, и к храму, который я построил имени Твоему: тогда услышь с неба, с
места обитания Твоего, молитву и прошение их и сделай, что потребно для них и
прости народу Твоему, в чем они согрешили пред Тобою, и все проступки его,
которые он сделал пред Тобою и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы
они были милостивы к ним. Ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из
Египта, из железной печи. Да будут (уши Твои) и очи Твои отверсты на молитву
раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда
они будут призывать Тебя». И сказал Господь на эту молитву Соломона: «Я освятил
сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там во вся; и будут
очи Мои и сердце Мое там во все дни» (3 Цар. 8.23-52;9.3).
1 Убеждение в невидимости
Божества было настолько сильно, что даже у язычников мы встречаем храмы,
посвященные божеству, но без всяких изображений. По словам Лукиана, египетские
храмы были без изображений в них божеств. И вообще в более ранний период
времени не было ни живописных, ни скульптурных и никаких других изображений. В
то время, когда стали строить храмы и освященные капища, римляне не делали
изображений бога, так как он был предметом одного умосозерцания.
2 Св. Игнатий Богоносец в послании к магнезианам
такие дома называет храмами Божиими (Библ. пос. Проев. Филарета, с. 592).
3 На всяком престоле св. мощи находятся в антиминсе
(вместопрестолии); в храмах же, освящаемых архиереями, находятся под престолом.
4 Катакомбами назывались молитвенные подземные
пещеры. Они состояли из трех частей: галереи, кубикулы и церкви. Галереей
назывался узкий, длинный коридор, стены которого снизу до верху были наполнены
гробницами св. мучеников. Кубикулами назывались молитвенные комнаты,
расположенные вдоль коридора, они же служили и усыпальницами. Сверху в них
делались небольшие наклонные отверстия для поступления света и воздуха.
Церквями назывались большие кубикулы, в которых совершалось богослужение; здесь
престолом всегда служила гробница какого-либо св. мученика (Ист. Христ. Цер.
Добронравина, с. 134).
5 Как на образец тех храмов, укажем на церковь
Тирскую, описание которой оставлено нам Евсевием. В епископство Павлина с разрешения
св. Константина в городе Тире была основана новая церковь на месте разрушенной,
но в больших размерах. Каменная ограда отделяла ее от окружающих зданий. На
восток возвышался просторный притвор и настолько высокий, что был виден
издалека, и казалось, приглашал язычников направляться к церкви. Из притвора
вступали не прямо в церковь, а в квадратной формы пространство, окруженное
колоннами. Между ними находилась деревянная, резная перегородка; середина двора
была открыта и там, напротив церковных дверей, находился фонтан для омовений:
верующие могли там приготовиться для входа в святилише, а оглашенные - стоять.
За галереей следовала церковь, в которую входили через три двери. Средняя была
выше и шире других, медная с металлическими украшениями и резьбой. Каждая из
боковых дверей вела в галерею, над которой были окна из резного дерева,
разливавшие яркий свет внутрь здания. Внутреннее пространство было богато
украшено; покрытие, выполненное из досок ливанского кедра, поддерживалось
высокими колоннами. В глубине здания находились возвышенные седалища для
епископа, пресвитера и диакона, в остальной части пространства стояли скамьи
для верующих. Для того чтобы святилище было недоступно для мирян, оно было
окружено перегородкой искусной работы (Церк. ист. Евсевия, гл. 4).
2.1.10.
Священник А. Ястребов.
Храм, его
символика и значение в жизни христианина
(ЖМП, 1953, № 11.)
Введение во храм
Пресвятой Богородицы отмечается Православною Церковью как великий двунадесятый
праздник. Оно приравнивается к важнейшим моментам новозаветной истории,
связанным с совершением нашего спасения Господом Иисусом. Так установлено
потому, что этому событию в жизни Богоматери Православная Церковь придает
исключительно важное значение. Для богоизбранной Отроковицы вступление во храм
по обету родителей было как бы вторым рождением, соответствовавшим крещению в
жизни Спасителя.
Девы, посвященные Богу,
жили в здании, которое находилось во дворе Иерусалимского храма, где стоял
народ израильский во время богослужения и где приносились жертвы. Эта часть
ветхозаветного храма соответствовала той части новозаветного, в которой
присутствуют за богослужением верные. Здесь господствовал дух неустанной
молитвы и полного отрешения от земной суеты.
Но согласно церковному преданию, которое ясно выражено в песнопениях
праздника, Пресвятая Дева не только водворена была в храме, но Ей открыт был
доступ и в величайшую его святыню - во святая святых, вход в которую закрыт был
для всех под страхом смерти и куда только верховный первосвященник мог вступать
однажды в год.
Жизнь при храме,
протекавшая в молитве, чтении Священного Писания, в богомыслии и занятиях
рукоделием, была для Пресвятой Девы наилучшим приготовлением к
предопределенному Ей высокому назначению «Яко да будет Владыки всех
Божественный престол, и палата, и одр, и светозарное обителище» (из стихиры
праздника).
Как тесно была связана
религиозная жизнь ветхозаветного человека с Иерусалимским храмом и какой
глубины достигало чувство близости Лица Божия у молящихся в нем, говорят
многочисленные места ветхозаветных Писаний, особенно же ярко эти настроения
выражены в псалмах. «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!» - восклицает
псалмопевец.«Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть
моя восторгаются к Богу Живому... Блаженны живущие в доме Твоем: они
непрестанно будут восхвалять Тебя... Ибо один день во дворах Твоих лучше
тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах
нечестивых» (Пс. 82. 24, II). «Как
лань желает к потокам воды, - говорится в другом псалме, так желает душа моя к
Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу Крепкому, Живому; когда приду и явлюсь пред
Лице Божие!» (Пс. 41. 23).
Но Ветхий Завет основан
был на Законе, который, по выражению апостол Павла, представлял только «тень
будущих благ, а не самый образ вещей» (Евр. 10.1).
Поэтому религиозное
сознание ветхозаветного человека было ограничено. Бог Всемогущий, Творец неба и
земли для рядового израильтянина был прежде всего Богом отцов и Богом
избранного народа, и только в пророческих озарениях возвещалось о горе дома
Господня, к которой потекут все народы (Ис. 2. 2), и вся земля наполнится
ведением Господа, как воды наполняют море (Ис. 11.9).
В то же время в
религиозных переживаниях подзаконного человека преобладало чувство страха пред
Богом как Грозным Судиею; в Новом Завете, по апостолу Павлу, Иисус Христос
примирил людей с Богом «посредством Креста, убив вражду на нем» (Еф. 2.1516).
Содержание религиозного
исповедания отражается на архитектуре и символике храма и полноте религиозной
жизни молящихся в нем; и если храм Ветхого Завета с его неполным откровением
способствовал воспитанию сонма праведников и среди них Пренепорочной Матери
Воплотившегося Слова, то неизмеримо значительнее мы должны признать влияние на
душу христианина храма новозаветного, в котором как бы небо нисходит на землю и
предощущается воссоединение Бога с творением, что составляет конечную цель
домостроительства о спасении.
Но не слишком ли
суживается, в таком случае, возможность сообщения Божественной благодати, если
мы связываем ее с храмом, и не стоит ли этот взгляд на значение храма в
противоречии с словами Господа в беседе с самарянкой о поклонении Богу в духе и
истине «и не на горе сей, и не в Иерусалиме» (Ин. 4. 2123)? Не упразднило ли
христианство вообще необходимость храмов как мест особенного присутствия Божия,
как это утверждают некоторые рационалистические секты?
Действительно, вездесущий
Бог во всяком месте может являть человеку - Свои благодатные силы, но не всякое
место в одинаковой степени настраивает самого человека к общению с Богом.
Подчиняясь общим законам своей психофизической организации, человек в своих
переживаниях испытывает влияние окружающей его среды и обстановки. В этом
отношении святыни храма и весь поток возвышенных впечатлений, получаемых в нем,
наилучшим образом подготовляет христианина к возвышению умом и сердцем к Богу.
Таким образом, идея храма
отвечает нормальным психологическим потребностям верующего.
Почитание храмов освящено
для нас примером Господа Иисуса, Который молился в храме Иерусалимском и
ревновал о его чистоте и славе, изгнавши бичом тех, которые оскверняли святыню
храма торговлею и денежными сделками. Посещали ветхозаветный храм и св.
апостолы (Деян. 3. 1; 21. 21 и др.), пока ненависть иудеев и особенности
христианского богослужения не побудили их проводить молитвенные собрания в
особых помещениях, давших начало христианскому храму.
С течением времени тип
христианского храма и его символика окончательно оформились и в них нашло
отражение глубочайшее содержание христианской религии. Простота и безыскусственность
обстановки молитвенных собраний первохристианских общин не могут служить
аргументом против величественности и благолепия современных храмов, подобно
тому, как трогательная непосредственность и наивность детского возраста не
отрицает необходимости перехода его в «мужа совершенна». «Когда я был
младенцем, - говорит св. апостол Павел, - то по-младенчески говорил,
по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое» (1 Кор.
13. 11). «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и
посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает
больше всех злаков и становится деревом», так что прилетают птицы небесные и
укрываются в ветвях его» (Мф. 13. 31 32). Так из краткого крещального символа первых
веков выросла стройная система христианской догматики.
Содержание религиозной
жизни человека нельзя приурочивать к одной какой-либо душевной способности
религия охватывает всего человека, проникая до последних глубин его существа.
Свою внутреннюю жизнь мы раскрываем при помощи слова, но во многих случаях
словесное выражение оказывается слишком схематичным и бледным для отражения
всей полноты и богатства душевных движений. В этом случае мы обращаемся к
искусству и символике, которые говорят без слов, но с большею силою и
выразительностью. Поэтому, если искусство вообще является необходимою стороною
нашей жизни, то тем более широкое применение оно находит в церковной сфере,
оформляя возвышенные истины и чувства в конкретных образах и звуках.
Первые три века
существования христианства, когда оно в пределах Римской империи находилось на
положении недозволенной религии, условия для храмоздательства были
неблагоприятны, так как христианам приходилось избегать всяких внешних
обнаружений своего исповедания. Поэтому развитие идеи и символики храма могло
завершиться только в IV веке.
Дальнейшие особенности храмоздательства образовались в связи с обособлением
Западной Церкви от Восточной и с появлением протестантства.
Наш православный храм по
внешнему виду имеет форму корабля, или креста, или круга. Вид корабля говорит о
том, что Церковь спасает нас среди соблазнов мира, как некогда Ной посредством
ковчега спасся от потопа, и только при помощи этого корабля мы можем достигнуть
тихой пристани Царства небесного.
Форма круга говорит о
вечности Церкви, как Царства Христова, а крестовидная форма указывает на орудие
нашего спасения Крест Христов.
Над зданием храма
возвышается купол, символизирующий небо, а увенчивающая его глава с крестом
означает главу Церкви Господа Иисуса. Три главы ставятся в честь Св. Троицы, а
пять глав на больших храма - в честь Господа и четырех евангелистов.
Внутренний вид храма в
целом своем составе являет образ горнего мира, куда устремляются взоры
верующего. Но для Церкви, подвизающейся на земле, этот мир составляет еще «край
желаний», полностью она воссоединится с ним тогда, когда откроются новое небо и
новая земля, «в которых обитает правда» (2 Петр. 3.13), и когда «будет Бог все
во всем» (1 Кор. 15. 28).
В настоящий же период
подвигов и борения общение двух миров осуществляется в различной степени в
зависимости от духовного состояния и нравственной чистоты верующих. «Иная слава
солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе» (1
Кор. 15. 41), поэтому и храм делится на три части, каждая из которых
предназначена для присутствия в них различных по их званию и духовному
состоянию групп верующих: алтарь, средняя часть и притвор.
Алтарь соответствует
святая святых ветхозаветного храма, так как здесь возвышается престол Царя Славы,
на котором возлежат в Святых Дарах Тело и Кровь Господа. Священнослужители,
совершающие великое и страшное таинство, уподобляются небесным силам, которые с
священнодействующими «невидимо служат». По словам св. Иоанна Златоуста, «и
ангелы предстоят священнику, и целый сонм небесных сил взывает, и места вокруг
жертвенника наполняются ими в честь Возлежащего на нем». Далее св. отец
передает рассказ некоего благочестивого пресвитера, который во время службы
удостоился лицезреть сонмы ангелов, стоявших окрест жертвенника1.
О таких же видениях сил
небесных, предстоящих вместе с священнослужащими престолу Божию, говорится в
житиях преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского.
Алтарь, таким образом, из
всех частей храма является местом особого присутствия Бо-жия, уподобляется раю
и наиболее близок к Церкви торжествующей, поэтому средние врата, ведущие в
алтарь, именуются царскими, или, в некоторых источниках, райскими.
Престол, на котором
совершается великое таинство Евхаристии и хранятся запасные Святые Дары, по
толкованию отцов Церкви, знаменует собою Гроб Господень и место Его
воскресения.
Жертвенник, на котором
вынимается Агнец, означает Вифлеемскую пещеру как место рождения Господа, так и
погребальную, где положено было Тело Спасителя.
Из художественных
украшений необходимо отметить часто помещаемое в алтарном куполе изображение
сошествия Св. Духа, а в алтарной апсиде - Богоматери с Предвечным Младенцем,
символизирующей, по мнению некоторых, Софию, Премудрость Божию.
В средней части храма
стоят верные, получившие св. крещение и допускаемые к восприятию благодати в
других таинствах. В них греховное начало ветхого человека с помощью благодатных
сил отмирает, и они исполняются жизнью божественной. Здесь, таким образом, в
отличие от алтаря представлена преимущественно Церковь, подвизающаяся на земле,
в которой человеческая стихия совершает восхождение к Божественному Началу. В
связи с этим различные части этого отделения храма, по толкованию св. отцов,
имеют и различные знаменования.
Верх, часто изображаемый
сводом купола, представляет собою небо, светильники уподобляются звездам,
нижняя часть символизирует землю. Но небо и земля здесь не противопоставляются
одно другому, а наоборот устанавливается их тесная связь2. Здесь
наглядно показывается исполнение пророчества псалмопевца: «Милость и истина
сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и правда
приникнет с небес» (Пс. 84. 1113).
От алтаря средняя часть в
православных храмах отделяется перегородкою, которая знаменует раздельность
духовного и чувственного мира, царства славы и царства благодати. Но эта
раздельность не препятствует союзу любви между ними, выражающемуся в этой
помощи, которая оказывается Церковью прославленной Церкви, подвизающейся на
земле. Поэтому алтарная перегородка - иконостас устанавливается иконами
Спасителя, Богоматери, двунадесятых праздников, апостолов, пророков и праотцев.
Здесь представлена образно как бы вся история домостроительства Божия о
спасении человека, взятая в ее основных моментах.
Археологи отмечают, что
высокие иконостасы, которые теперь часто встречаются в наших храмах, были
неизвестны древней Церкви, их заменяла низкая алтарная перегородка с одним
рядом икон3. Такой же вид имели иконостасы и в древних русских
церквах, например, в самых ранних по времени храмах Киево-Печерской Лавры.
По-видимому, здесь нашло отражение то обстоятельство, что более высокая жизнь
древних христиан сопровождалась радостным чувством большей близости к Богу и
Его святым.
Предалтарная солея, по
толкованию отцов Церкви, символизирует огненную реку, разделяющую праведных и
грешных4. Но огню здесь, видимо, придается то испытательное
значение, о котором говорит апостол Павел: «Огонь испытывает дело каждого,
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, и
у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из
огня» (1 Кор. 3.1319).
Художественная роспись
средней части храма соответствует ее символическому значению как Церкви
воинствующей. Купол украшается большею частью изображением Бога Вседержителя,
пребывающего на небесах, где предстоят Ему сонмы ангелов. В барабане купола
помещаются изображения апостолов, пророков, праотцев, в парусах сводов четыре
евангелиста; на стенах храма изображаются события двунадесятых праздников и других
моментов евангельской истории, наконец, на западной стене над входом часто
помещается картина Страшного Суда.
Третья часть храма -
притвор, в котором стояли оглашенные, кающиеся и вообще не вошедшие в состав
верующих или временно из него исключенные. Эта часть, по толкованию отцов,
представляет мир неоправданный греховную землю и даже преисподнюю. Поэтому и
шествие архиерея в чине богослужения на запад символизирует сошествие Спасителя
во ад5.
Стенная роспись притвора,
разнообразная по содержанию, чаще всего отражает его символическую идею.
Итак, внешнее и
внутреннее устройство храма, вся его обстановка и художественные украшения
выводят верующего из мира житейской суеты и уносят его в мир горний. Но внешнее
окружение является только формой того богатства внутреннего содержания, которое
верующий получает в храме. Здесь в псалмах, паремиях, апостольских и
евангельских чтениях он слышит данное в Откровении слово Божие, часто
сопровождаемое пояснительными речами священнослужителя.
Церковные песнопения, исполненные
глубокой поэзии, воспроизводят пред молящимися основные события истории нашего
спасения, раскрывают глубину христианского вероучения и прославляют Богоматерь,
мучеников и святых, жизнь и подвиги которых для христиан являются образцами
подражания. Молитвы за усопших связывают живущих с прежде отшедшими отцами и
братьями, а священные молитвы церковных песнопений, идущие к нам из глубокой
древности, захватывают и потрясают не менее, чем их содержание. Наконец, в
таинствах, совершаемых в храме, христианин делается причастником той жизни,
которую принес на землю Сын Божий и которая служит для него началом жизни
вечной.
В храм приносит верующий
свои скорби и радости и здесь, изливая их в молитвенном обращении «ко Господу»,
находит для души своей, волнуемой движениями моря житейского, «тихое
пристанище».
Вместе с псалмопевцем
каждый истинный христианин может сказать о себе: «Одного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его» (Пс. 26.4).
1 Творение Иоанна
Златоустого, т. II, СПб.: Акад. изд., с. 462,
463.
2Л.Багрецов. Смысл символики, усвояемой св. отцами
и учителями Церкви христианскому храму. СПб., 1910, с. 17-20.
3 Проф. Н.В. Покровский. Церковная археология.
Петроград, 1916, с. 47.
4Л. Багрецов. Цитир. раб., с. 19.
5 Л. Багрецов. Цитир. раб., с. 20.
2.1.11.
Священник И. Святославский. Записки для чтения о храме
(М., 1889.)
«Господи! Возлюбил
благолепие дому Твоего и селения славы Твоея» (Пс. 25.8).
Что называется храмом?
Храмом называется
особенным образом устроенное и освященное здание, в котором собираются верующие
для общей молитвы и для освящения таинствами.
Всегда ли для молитвы
устраивались храмы?
В первые времена рода
человеческого, когда люди еще не знали никаких условий общественной жизни,
храмов или общественных зданий для молитвы не было, и верующие для молитвы и
богослужения собирались под открытым небом на местах, которые чем-либо
располагали к молитве. Такими (молитвенными) местами были частью холмы и
возвышенности, на которых человек естественно мог представлять себя как бы
ближе стоящим к Богу, частью дубравы (рощи и леса), где вид деревьев с их
высокими вершинами, высоко поднимающимися над землей, невольно отводил взор
человеческий от земли к небу, а таинственное безмолвие лесной чащи
сосредоточивало мысли человека для молитвы. Но чаще всего для молитвы
собирались на тех местах, которые были ознаменованы или таинственным явлением
Самого Бога, или какими-либо важными событиями в жизни того или другого из
людей или целого народа. Так были священны по воспоминаниям для израильтян
Сихем, Вефиль, Вирсавия.
Который был из первых
храмов, устроенных на служение истинному Богу?
Первый храм для служения
истинному Богу был устроен Моисеем после того, как израильтяне вышли из Египта,
и устроен по велению Самого Бога по образцу, показанному Моисею Самим Богом на
горе Синай. Это была скиния собрания, или подвижной храм, по своему устройству
приспособленный к тому, чтобы удобно можно было в то время, как израильтяне
странствовали по пустыне, переносить с места на место. Скиния состояла
собственно из двух частей - святилища и святая святых, но кругом была окружена
большим двором. Она имела в высоту 10 локтей, в длину от востока к западу 30
локтей и в ширину, от севера к югу 10 локтей. Двор простирался в длину
на 100 локтей, а в ширину на 50 локтей. Вход в скинию был с востока и был
закрыт завесою узорчатой работы. Стены скинии, обнимавшие ее с 3 сторон, были
дощатые и состояли из стоящих брусьев (досок), составленных плотно один к
другому и вставленных в серебряные подножки. Брусья эти связывались посредством
жердей, проходивших в кольца, ввинченные в каждый брус. От святилища святая
святых отделялась одной только завесою из голубой, пурупуровой и червленой шерсти
и крученого виссона с вытканными херувимами. Двор, который окружал скинию, был
огражден виссонными тканями, которые развешивались на особо устроенных для
этого столбах. Столбы двора (которых было по двадцати на каждой длинной стороне
двора и по десяти на коротких его сторонах) были медные с серебряными крючками
и кольцами, в которые вкладывались для связи длинные шесты или перекладины
серебряные. Скиния (святилище и святая святых) была покрываема сверху,
наподобие шатра, тремя покровами, которые набрасывались один сверх другого и из
которых один состоял из виссона с вышитыми херувимами покрывала и шерстяного
(из козьей шерсти), а другие были кожаные из красных и синих кож, а двор был
под открытым небом. Во дворе, который был назначен для народа и для жертвоприношений,
прямо против ворот возвышался жертвенник всесожжения, который был устроен в
виде деревянного, обитого медью ящика с рогами по углам и с кольцами по бокам
для ношения его на шестах, и медная умывальница для омовений, которые
предшествовали жертвоприношениям. Во святилище, куда могли входить одни
священники во время совершения службы для того, чтобы воскурить фимиам,
наблюдать за неугасающим огнем и переменять хлебы предложения, прямо против
входа во святая святых, перед завесой стоял небольшой золотой алтарь
(жертвенник), на который возлагалась кадильница ручная для курения фимиама, или
жертвы благоухания, на правой стороне стол из акации (трапеза), обложенный
золотом, на котором полагались двенадцать хлебов предложения (по шести на
каждой стороне), а на левой стороне золотой семисвечник с неугасающими
светильниками (лампадами с елеем). Во святая святых, куда мог входить однажды в
год - именно в день очищения - один первосвященник, находился ковчег Завета
(четвероугольный ящик), сделанный из драгоценного дерева и внутри и снаружи
обложенный золотом. Золотая доска, которая покрывала его, называлась
очистилищем, в таинственном смысле была как бы престолом Божиим, на котором
Господь явил Свое присутствие и открывал волю Свою первосвященнику. Над очистилищем
были поставлены два преклоненные херувима, сделанные из золота, осенявшие кивот
Завета. Внутри кивота Завета находилась главная святыня израильского народа:
каменные скрижали Завета, на которых перстом Божиим были начертаны 10
заповедей, данных Богом, кроме того, золотая стампа с манною, в память того,
как Бог чудесным образом питал евреев во время странствования по пустыне, и
жезл Ааронов прозябший, служивший как непререкаемое свидетельство того, что
право священства принадлежит племени, или потомкам Аарона.
Первый постоянный храм
для служения Богу построен был при Соломоне, за 1017 лет до Рождества Христова,
в Иерусалиме на горе Мориа (на том месте, где по повелению Божию должен был
принести в жертву Богу сына своего Исаак), по плану, составленному по образцу
скинии еще при Давиде и одобренному Самим Богом через пророка Нафана. Строился
храм семь с половиной лет.
Храм, построенный
Соломоном, отличался от скинии тем только, что:
1) был устроен в размерах
более обширных, чем скиния: в длину он (во святилище и святая святых) имел до
60 локтей, в ширину 20 локтей и в высоту 30 локтей;
2) вместо одного имел два
двора, из которых внешний, большой, имевший до 500 шагов в длину и в ширину,
назначался для народа, а другой, внутренний меньший, для священников;
3) с восточной стороны
перед входом в святилище был устроен особый притвор, который был вчетверо выше
святилища (120 локтей высотой) и имел со стороны двора несколько (15) ступеней,
на которых помещались певцы для пения псалмов во время богослужения; а перед
притвором были поставлены для украшения две медные, высокие колонны, имевшие
особое наименование Иахин (крепость) и Воаз (сила);
4) святилище с трех
сторон (кроме восточной, где находился притвор) было окружено боковыми зданиями
в три этажа со множеством покоев для жертвенных пиршеств, для хранения десятин
и для помещения чередующихся жрецов, а над самым святая святых находились
крытые залы, имевшие свое особое назначение (вероятно, для хранения
драгоценностей и, быть может, для сложения скинии Моисея и Давида);
5) стены храма были
каменные, но снаружи и внутри были обложены драгоценным кедром с резными
украшениями; а врата деревянные, украшены золотом;
6) на внешнем дворе,
огражденном мраморной колоннадой, куда входили из города тремя вратами, обитыми
медью, и где должен был стоять народ, находилось царское место, устроенное из
меди, в виде амвона, а во внутреннем дворе, который предназначался для
священников и отделялся от внешнего двора только высокой перегородкой из
кедровых брусьев, находились: на восточной стороне большой жертвенник или
алтарь всесожжения, на южной - большая, медная, на двенадцати медных волах,
умывальница (род бассейна), называвшаяся медным морем и служившая для омовения
священников во время жертвоприношения, а на южной и северной стороне десять
малых умывальниц (по пяти на стороне) для омовения назначавшихся для
жертвоприношения животных.
В святилище, внутренние
стены которого были обложены золотыми листами, находилось: перед завесой -
золотой алтарь кадильный и по обеим сторонам десять золотых светильников (пять
по правую сторону от входа и пять по левую) и десять золотых трапез с хлебами
предложения (по пяти на правой и по пяти на левой стороне святилища). Во святая
святых, в которой как внутренние стены из кедрового дерева, так и пол из
лучшего мрамора, были обложены золотыми листами, а стены, кроме того, были
украшены различными изображениями, сделанными из золота, находился золотой
ковчег Завета, перенесенный сюда из скинии, и два херувима, сделанные из
масличного дерева, обложенные золотом, осенившие кивот Завета своими крылами,
простиравшимися во всю ширину здания. Кивот Завета был поставлен на мраморном
подножии высотой в три перста.
После вавилонского плена
храм Соломона, разрушенный Навуходоносором, был восстановлен по указу Кира,
царя персидского, Зоровавелем и возвратившимися из плена иудеями по прежнему
образцу, но уже в довольно скромном виде так, что далеко уступал первому и в
богатстве материала, и в великолепии отделки1,
и что самое главное - не имел священнейших предметов первого храма: кивота
Завета, видимого явления или присутствия славы Божией в храме, священного
(небесного) огня, урима и туммима, употреблявшегося первосвященником при
прорицании, и священного елея помазания. На месте утраченного ковчега, во
святая святых, во втором храме находился только камень, возвышавшийся от пола
на три перста, на котором первосвященник поставлял кадильницу в день очищения.
Впоследствии к храму был пристроен двор язычников, что требовалось по
обстоятельствам времени.
При Ироде Великом храм
Иеговы, построенный на горе Мориа, с которой он возвышался над всем Иерусалимом,
был отделан в великолепном и величественном виде2,
так что по великолепию и обширным размерам постройки (особенно в высоту) мог
уподобиться древнему храму Соломона и служил удивлением для современников. В
это время главным образом построены были наружная и внутренняя ограды,
окружавшие здание храма3.
Ограды эти с разных сторон храма были снаружи устроены с галереями и портиками
с огромными колоннами, украшенными на вершине резьбой, а над дверями храма была
распростерта виноградная лоза с висящими гроздьями, сделанная из золота с
редким искусством. В этом виде храм существовал во время земной жизни Господа
Иисуса Христа.
В каких местах древние
христиане сбирались для общей молитвы и богослужения?
Иисус Христос (во время
своей земной жизни) неоднократно посещал Иерусалимский храм, присутствовал при
богослужении и здесь поучал иудеев с благоговением относиться к своей заветной
святыне - храму Иерусалимскому, но в то же время учил поклоняться Богу духом и
истиной и говорил, что Богу Вездесущему можно служить не в Иерусалиме только,
но и на всяком месте. Апостолы также приходили в храм Иерусалимский для молитвы
и здесь (в притворе Соломоновом) поучали народ вере в Христа, но для совершения
таинства причащения со времен апостольских верующие собирались отдельно и уже
не в храме, а в частных домах4.
В Деяниях апостольских
упоминается о Сионской горнице, в которой апостолы молитвенно пребывали во
время сошествия на них Духа Святаго, и о доме матери Иоанна, называемого
Марком, где верующие молились во время заключения в темнице Петра (Деян.
12.12).
В то время, когда
христиане за исповедание веры Христовой подвергались жестоким гонениям от
язычников и им нельзя уже было и в частных домах совершать своих молитвенных
собраний, христиане стали собираться для общественной молитвы (по ночам) в
местах потаенных и безопасных от преследования - в кораблях, пещерах, каменоломнях
и катакомбах (в которых христиане хоронили умерших) и здесь чаще всего на
гробах святых мучеников, заменявших им престолы, при мраке ночи с возожженными
светильниками совершалось таинство Евхаристии и верующие сподоблялись великой
трапезы Господней5.
С какого время стали
устраиваться открытые христианские храмы?
В некоторых местах
Римской империи храмы были устроены открыто еще в III веке, когда христиане (в области императора Александра Севера) стали
пользоваться некоторой свободой. Во времена Диоклитиана в самой столице
Никомидии был уже христианский храм, который мог вмещать до двадцати тысяч
молящихся. Но только с IV века,
когда христианство окончательно восторжествовало над язычеством, когда не
только прекратились гонения от язычников, но и сами императоры стали
исповедывать христианскую веру, храмы Божий могли и стали беспрепятственно
воздвигаться повсюду в обширной Римской империи. Мать первого христианского
императора Константина Великого - Елена позаботилась прежде всего соорудить храмы
на местах, ознаменованных событиями земной жизни Господа Иисуса Христа, на
Голгофе (храм Воскресения), в Вифлееме (две церкви Рождества пресв. Богородицы
и Вознесения Господня) и др. Сооружались также храмы на фобах святых мучеников
и над входами в катакомбы. Впоследствии, по мере нужды и удобства, в
христианские храмы были обращены разные общественные здания, например залы терм
Диоклитиана и Агриппы, и даже языческие храмы, что впрочем редко; но самыми
удобными строениями для этой цели оказались базилики, т.е. здания судебных и
правительственных учреждений6.
Лучшим образцом
устройства христианских храмов древнего времени византийского стиля служит храм
Св. Софии - премудрости Божией, построенный в IV веке в Константинополе (древней Византии)
императором Юстинианом (по плану Исидора Милетского и Анфимия Трал-лийского).
Храм этот в главных чертах имеет следующее расположение: все здание имело вид
четвероконечного креста. Середина была покрыта куполом в виде небесной сферы (с
44 окнами), восточная и западная части покрыты были полукуполами; над северной
и южной частями возвышались по два малых купола. Внутри на дорогих колоннах
были устроены хоры для женщин. С западной стороны храма был пристроен двор или
притвор для кающихся и припадающих. Весь храм внутри был отделан по нижней
части мрамором, а выше драгоценной мозаикой7.
При завоевании турками
Константинополя храм Св. Софии был обращен в магометанскую мечеть и до сих пор
носит название Айя-София (см.: Душ., чт., 1867, апрель, с. 160).
У нас, в России, первые
каменные храмы были построены греческими мастерами сначала в Киеве и Новгороде8,
а потом и в других городах Древней Руси. Некоторые из них уцелели до настоящего
времени9.
Но как по городам, так и по селам в России строились преимущественно деревянные
храмы и основой для них служил сруб избы, к которому сначала прирубался алтарь
и крыльцо, а потом, при увеличении размеров храма, разные пристройки: приделы,
трапезы, подовые (под навесом) паперти и звонницы.
Почему храм называется
церковью?
Храм называется церковью,
как дом Божий, соответственно греческому слову - «кириакон», и как место
собрания верующих, согласно греческому слову «екклезиа», что значит собрание
призванных (к Царствию Божию).
Чем отличается храм от
прочих зданий?
Храм отличается от
обыкновенных зданий своим внутренним и внешним устройством10.
Как большей частью
строятся храмы по внешнему виду?
Древние храмы строились
или в виде корабля, или в виде круга, или в виде восьмиугольной звезды. У нас
самая употребительная форма храма - греческий четвероконечный крест, иногда с
полукруглым выступом в передней части храма. Образ креста знаменует, что
Церковь основана на Кресте и от Креста получает благодать и силу. Образ круга,
в котором нет ни начала, ни конца, указывает на вечность Церкви. Образ звезды
показывает, что Церковь подобно лучезарной звезде, сияет животворным светом
Христовым; а образ корабля означает, что Церковь наподобие корабля приводит нас
через море жизни по шумным волнам его к тихому небесному нашему пристанищу.
Здание храма сверху
обычно осеняется полусферическим куполом с грушевидной главой и крестом11.
Купол окружностью свода
напоминает нам небесную твердь и горнее небо, глава означает невидимую главу
церкви - Господа Иисуса Христа, а крест водружается вверху как победное знамя,
данное церкви от Божественного ее Основателя для отражения врагов видимых и
невидимых.
Вместо одной главы бывают
на церквах три главы, которые знаменуют три лица Пресвятой Троицы. Иногда около
средней главы, изображающей Иисуса Христа, бывают четыре главы, означающих
четырех евангелистов (Матфея, Марка, Луку и Иоанна), иногда двенадцать,
означающих двенадцать апостолов. Семь глав означают семь даров Духа Святаго,
семь таинств церковных или семь Вселенских Соборов. Девять глав имеют значение
девяти чинов ангельских.
Что обозначают те
особенные наименования, которые придаются каждому храму в отдельности?
Храмы сооружаются или во
имя Живоначальной Троицы, или в воспоминание особенно важных событий в жизни
Иисуса Христа (Преображения, Вознесения Господня) и Пресвятой Девы Марии
(Рождества Богородицы, Успения), или в честь святых угодников Божиих12
(Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца) и согласно с этим имеют каждый свое
особенное название. Но, в сущности, все они являются одним и тем же - храмами
Божими, потому что всякий храм посвящается Богу и престол каждого храма есть
селение славы Божией.
Чем отличается храм от
обыкновенных жилищ по своему внутреннему расположению?
В храме обычно все бывает
приспособлено исключительно только к совершению богослужения, к молитве и к
возможно большей вместимости молящихся. Для этого в храме ставятся в известных
местах иконы, пишутся по стенам разные священные изображения, сам храм делится
на отдельные части - одну для служащих, другую для молящихся и третью - для
тех, кто не может входить в храм.
Из каких частей состоит
храм?
Подобно скинии, или храму
ветхозаветной Церкви, которая служила прообразом новозаветной, храм издревле
имеет три части: алтарь (к востоку), собственно храм (середину храма) и
притвор, или предхрамие (к западу). Алтарь соответствует святая святых
ветхозаветной Церкви, храм - святилищу, а притвор - двору скинии. Храм, имеющий
три части, соответствует трем классам членов Церкви Христовой -
священнослужителей, верных и оглашенных.
Некоторые храмы состоят
большей частью из трех частей - из алтаря, храма и притвора, а иногда из двух -
алтаря и храма и отдельного притвора не имеют, потому что в настоящее время
оглашенных, для которых предназначалась эта часть храма, бывает вообще нечасто.
Храм, имеющий две части, соответствует святилищу и святая святых ветхозаветной
Церкви и изображает собой мир видимый (землю) и мир невидимый (небо).
Не бывает ли еще
каких-нибудь пристроек при храме?
Перед входными дверями
храма обычно устраивается паперть, которая в отличие от внутреннего притвора
называется внешним притвором. Это ни что иное, как крыльцо при храме или крытые
сени13.
Почти при всех церквях у
нас, в России, существуют колокольни, устраиваемые или над папертью, или
совершенно отдельно от церкви, отчасти для красоты здания, а главным образом
для колоколов и для звона. Кроме того, по сторонам главного алтаря, а чаще
всего по сторонам трапезы устраиваются другие с той целью, чтобы в случае
необходимости могли совершаться не одна, а две литургии в один день. Боковые
храмы называются приделами. Внутри храма иногда устраиваются хоры14
в виде внутренних галерей или с одной западной стороны, или с трех сторон -
северной, южной и западной: отчасти для желающих уклониться от взоров людей, а
главным образом для певчих.
Что называется притвором?
Притвором или трапезой
называется западная часть храма, отделяющаяся иногда от середины храма
особенной стеной. Эта часть храма предназначалась для оглашенных и кающихся,
которым стоять в храме (вместе с верными) не дозволялось.
Оглашенными в древней
церкви назывались те, которые приготовлялись к крещению и которым по этому
случаю предлагались особые огласительные поучения о главных истинах веры. Они
должны были проводить время в подвигах поста и молитвы, но потому что еще не
принадлежали к верующим, т.е. уже крещеным, не могли входить в храм и молиться
вместе с верными. Кающимися назывались те из верных, которые за свои грехи
находились под запрещением или отлучением от общества верующих (Церкви).
Кающиеся разделялись на четыре степени. Первая степень, самая низкая, состояла
из плачущих, или припадающих на паперти, которые, стоя при дверях церковных в
одежде покаяния, просили входящих в храм молиться за себя и принять в свое
общение, а иногда даже падали или ложились на помост притвора так, чтобы
входящие в храм могли попирать их своими ногами. Вторую степень составляли
слушающие в притворе, которые вместе с оглашенными могли присутствовать только
при начале богослужения. Третья степень состояла из коленопреклоненных, или
припадающих за амвоном, которым дозволено (с возложением на главы рук епископа)
присутствовать при богослужении в храме, но не иначе как преклонив колена.
Четвертую, последнюю, степень составляли стоящие вместе с верными, которые
получали дозволение присутствовать в храме во время причащения, но не имели
права приступать к принятию Святых Тайн.
Почему притвор называется
трапезой?
Притвор называется
трапезой от древнего обычая устраивать в притворах после совершения литургии, в
знак духовного единения верующих, вечери любви (агапы), для которых специально
приносились хлеб и вино и на которых вечеряли без различия бедные и богатые. По
этому примеру до сих пор у нас в России для монашествующих братская трапеза или
просто обеденный стол устраивается при храме.
Что в настоящее время
совершается в притворе, или трапезе?
В притворе должны по
уставу совершаться литии при всенощных бдениях, должны стоять не имеющие права
входить в храм до очищения и должны ставиться приносимые в церковь жертвенные
дары. Тут же издревле устраивалась купель для крещения.
По древнему обычаю
монашествующие, смирявшие себя перед Богом по образу кающихся, особенно в посты
- как в дни покаяния - слушали полунощницу в притворе и уже при начале утром
входили в храм; в притворе также слушали девятый час, повечерие и первый час.
Совесть каждому и ныне должна напоминать, где ему место в храме.
Что называется собственно
храмом?
Храмом (кораблем)
собственно называется средняя часть храма, в которую из притвора ведут особые
двери (или открытая арка), которые назывались прежде, по особенному их
украшению, красными или великими церковными вратами. Эта часть предназначена
для верных, т.е. крещеных. Здесь устраиваются перед алтарем амвон, солея и
клиросы.
Что такое амвон и что он
обозначает?
Амвон (выход) - это
возвышение перед церковными вратами с двумя или тремя ступенями. Он
устраивается для чтения диаконами Евангелия и ектений и для произношения
поучений. Амвон знаменует отваленный от двери Гроба Господня камень, на котором
ангел проповедал мироносицам о воскресении Иисуса Христа15.
Кроме предалтарного
амвона в соборных (кафедральных) церквях устраивается (высотой в две ступени)
возвышенное место (кафедра) для архиерея, или амвон архиерейский, на который
восходит архиерей для облачения и на котором он во время литургии остается, как
отец молящийся с детьми, до малого входа. В древности в соборных церквах в
средней части храма устраивались особые возвышенные места для государей и для
настоятелей церкви. Мужчины, женщины и дети стояли также на особых местах и
место для женщин было отгорожено в некоторых церквях особой стеной.
Что такое солея?
Солеей (престольным
местом) называется возвышение перед всем предалтарным иконостасом, которое
простирается от северной до южной двери и на котором верующие сподобляются
святого причащения.
Отцы Церкви это
возвышение, с которого преподаются верующим Святые Дары, называли внешним
престолом (в отличие от другого, внутреннего, на котором совершается освящение
Даров). Ступени на этом возвышении с древности представлялись иподиаконам и
чтецам для сидения.
Солея делается
возвышенной для того, чтобы входящих на нее священнослужителей могли видеть все
присутствующие в храме. Для предотвращения беспорядков при тесноте во время
священнослужения солея отделяется обычно от храма решеткой, за которой стоять
не принадлежащим к клиру воспрещено.
Что называется клиросами?
Клиросами (жребием)
называются отдельные места на солее, на которых обычно стоят избранные
церковной властью и народом для служения в церкви и потому называемые
клириками, чтецы и певцы.
Клиросы устраиваются на
солее по правую и левую сторонам храма для ведения церковных песнопений
попеременно, и оттого называются обычно правым и левым. При них обычно ставятся
хоругви.
Что такое хоругвь?
Хоругвью (греческое -
«хоригион», походный знак) называется прикрепленное к древку священное
изображение, сделанное на полотне или металле в виде знамени с крестом наверху
и предназначенное для использования в крестных ходах. Хоругвь представляет
победное знамя Церкви Христовой над врагами.
По самому назначению
хоругвей можно видеть, что они введены в употребление в Церкви вместе с
установлением крестных ходов, совершавшихся еще в древние времена в память
особо важных событий в жизни Церкви. Есть данные, что первые хоругви в храме
были поставлены при равноапостольном царе Константине Великом, который после
чудесного видения креста приказал изобразить крест на воинских знаменах и,
победив врага Максентия, поставил их как символ победы в одном их христианских
храмов. Вот как описывает это знамя очевидец, историк Евсевий: «Оно имело
следующий вид: на длинном, покрытом золотом копье, был вверху поперечник,
образовавший с копьем образ креста. На самой вершине копья неподвижно лежал
венок из драгоценных камней и золота, а в венке начальные буквы имени Христова.
На поперечнике креста висел тонкий плат, царская ткань, покрытая драгоценными
камнями, блестевшая лучами света. Вышитый золотом, этот плат казался зрителям
невыразимо красивым, и, вися на поперечнике, имел одинаковую широту и долготу.
На прямом копье, нижний конец которого был очень длинен, под знаком креста, при
самой верхней части ткани, висело, сделанное из золота, грудное изображение
боголюбезного царя (Константина) и его детей» (см.: Душ. чт., 1878, декабрь, с.
159).
Что такое алтарь?
Алтарь (возвышенный
жертвенник) - это восточная и главная часть храма, в которой находятся престол
для совершения бескровной жертвы и жертвенник для приготовления Святых Даров.
Знаменует собой небо, или невидимый мир святых ангелов.
Почему храмы всегда
обращены алтарем на восток?
Ветхозаветная скиния была
обращена своей святая святых на запад и дверью, ведущей в святилище, - на восток
в знак того, что верующие Ветхого Завета еще ожидали пришествия, как востока
свыше, обетованного Мессии. Мы, христиане, исповедуем уже пришедшего в мир
Спасителя нашего Иисуса Христа, а потому и храмы своим алтарем, и себя самих в
своих молитвах обращаем лицом к востоку как стране света, где пребывает Солнце
Правды - Спаситель наш. На востоке, в земле иудейской, Господь Иисус Христос, о
котором мы должны вспоминать при богослужении, и родился, и жил, и пострадал
для нашего спасения. Там же, на востоке, было и блаженное жилище первых
человеков.
Какие принадлежности
алтаря?
В алтаре находятся горнее
место, престол, жертвенник и диаконник.
Что такое горнее место?
Горним местом называется
вообще пространство между святым престолом и восточной стеной алтаря, в частности
горним местом называется несколько возвышенное седалище, устраиваемое, как это
бывает в кафедральных храмах, у восточной стены алтаря, за престолом, на
которое в известное время при богослужении может восходить только архиерей,
носящий в себе образ Самого Иисуса Христа, Вечного Архиерея и Господа славы.
Оно знаменует горний престол, или высшее небо, где Бог обитает в неприступной
славе Царствия Своего со святыми ангелами.
Что такое сопрестолие?
Сопрестолиями называются
устраиваемые по обеим сторонам горнего места седалища для священников, которые
при архиерейском служении изображают святых апостолов.
Что такое престол?
Престол, иначе святая
трапеза - это возвышенный стол посреди алтаря перед царскими вратами, который
устраивается и освящается собственно для священнодействия Божественной
Евхаристии. Он называется престолом (царским троном) потому, что здесь невидимо
присутствует Царь небесный Господь Иисус Христос, а трапезой потому, что здесь
совершается таинство святого причащения. Престол знаменует в разное время на
литургии и Голгофу, и Гроб Господень, и Сионскую горницу, в которой вечеряя со
Своими учениками в ночь перед Своими страданиями, Иисус Христос установил
таинство святого причащения.
Что необходимо заметить
об устройстве святого престола?
Престол устраивается чаще
всего из дерева на четырех столпах с четвероугольной доской наверху в знак
того, что на нем приносится святейшая жертва для всех четырех сторон мира.
В том случае, если
освящение храма совершается архиереем, под престолом в середине устраивается
пятый столп с ящиком для положения в особом ковчежце святых мощей, которые
кладутся под престолом по древнему обычаю христиан, совершавших богослужения и
устраивавших храмы над гробами святых мучеников. С V века престолы устраивают чаще из камня и украшают
золотом и серебром.
Для чего устраивается
иногда сень над престолом?
Для удобства соблюдения
чистоты святого престола и охраны Святых Даров во время службы от разных
случайностей устраивается иногда над престолом на четырех столпах в виде
балдахина сень.
1 Во втором храме святая
святых отделялась от святилища вместо стены двойной завесой. Храм строился 20
лет с 537 по 517 год до Рожд. Хр.
2Покрытый со всех сторон
золотом, храм при восходе солнца представлялся взорам человека как бы огненным
и свет, отражавшийся от него, был так ярок, что глаз человека не мог выносить
его. Приезжающим издалека он казался снежной горой, потому что мраморные доски,
которыми были покрыты места, не обитые золотом, отличались необыкновенной
белизной (Душ. чт., 1878, октябрь). Храм строился 46 лет.
3 Ирод Великий оставил
неприкосновенным здание самого храма, т.е. святилище и святая святых, что было
возобновлено самими священниками.
Первая ограда
заключала в себе так называемый двор язычников, а вторая - двор израильтян,
который подразделялся на три отделения, из которых одно было предназначено для
израильских мужей, другое -для израильских жен и третье, - находившееся на
западной стороне, для священников и называлось двором священников; тот и другой
двор был устлан белым мрамором. Из внешнего преддверия, предназначенного для
язычников, вступали во внутренний двор через десять ворот, богато убранных
золотом и серебром. Над воротами был поставлен из угождения римлянам золотой
римский орел (Душ. чт., 1878, окт. и Библ. ист. А. Филарета, изд. 9. М., 1852,
с. 383).
4 Однако те отделения
домов, где состоялись молитвенные собрания христиан, а также и столы, на
которых приносилась святейшая жертва Тела и Крови Христовой, оставались
неприкосновенными для житейского употребления.
5 Самые обширные катакомбы
существуют в Риме. Это были устроенные под землей длинные, извилистые переходы
(галереи) с более или менее крупными комнатами (кубикулами), которые служили
местами для молитвы, для хранения священных сосудов и для погребения умерших.
Входы в эти подземелья в свое время были тщательно скрыты. Более крупные залы
служили местами для богослужения.
6 Базилики представляли
собой продолговатые прямоугольные здания, предназначенные для судилища. В
передней части находился портик (крытое крыльцо) с колоннами, из которого три
двери вели внутрь здания. Внутри здание разделялось на три части двумя
параллельными рядами колонн, расположенных в два яруса и увенчанных
антаблементом (карнизом) с арками (сводами) вместо архитрава (перекладин). Средняя
часть здания была выше и шире боковых, которые разделялись на два яруса двойным
рядом колонн. В конце средней части находилась полукруглая пристройка, покрытая
полукуполом; пол ее был несколько возвышен над остальной частью здания.
Пристройка эта называлась трибуной, так как в ней помещался трибунал, т.е.
судьи, и апсидой от греческого слова, означающего свод, как единственная часть
здания со сводчатым покрытием. По обе стороны здания между входом и апсидой
делались боковые пристройки, которые римский зодчий и писатель Витрувий
называет халцидиками и, по его свидетельству, в них продавались различные
припасы и напитки; тут же было помещение и для адвокатов. Думают, что базилики,
будучи судилищами, в то же время служили и для собрания торгового сословия,
заменяя биржи. Очевидно, что подобное здание было наиболее удобно для
христианского богослужения. Апсида могла служить для помещения епископов и
священнослужителей, перед ней устраивался алтарь с сенью на колоннах, под ним
подземелье с мощами святого, памяти которого посвящалась церковь. Средняя часть
базилики могла служить для церковных процессий; своей продолговатой формой она
напоминала форму корабля, почему христиане и называли ее кораблем. В боковых
галереях помещались богомольцы: слева - мужчины и справа - женщины. Халцидики
придавали плану здания священную для христиан форму креста и служили для
помещения ризниц и крещален (см.: Ист. и Археол. Архитектуры. Открытие и
возобновление древней базилики в Мире Ликийском. Иером. Афанасия. Спб., 1874).
7 До IV века храмы первых христиан не блистали ни
богатством украшений, ни изяществом архитектуры, а с этого времени храмы стали
украшаться живописью, мозаикой (наборной работой из разноцветного материала),
лепными и резными украшениями, колоннами и пр.
8 В Киеве - Десятинная
Успенская и в Новгороде церковь Иоакима и Анны, построены в 980 г.
9 В Новгороде Софийский храм до сих пор остается
великолепным памятником времени Ярослава (1052). В Киеве также остается
Софийский храм, построенный в 1038 г., хотя он после позднейших подновлений и
изменил уже свой древний фасад.
10 Молельная или часовня
устраивается подобно храму для собрания верующих и для молитв, но в простом
молитвенном доме нет самой важной принадлежности храма - святого престола и,
следовательно, в нем не может совершаться таинство святого причащения, как оно
совершается в храме.
11 На куполах некоторых
храмов под крестом помещается иногда украшение в виде короны. Но корона, как
царский атрибут, служит только памятником царственного построения храма или
владения. На главах некоторых древних церквей (в Новгороде) находятся кресты с
полумесяцем под ними, или с сидящим поверх креста металлическим голубем. Первый
символ под крестом, большей частью четвероконечным, по объяснению Максима
Грека, - образ крестного восхождения Христа. Второй символ выражает собой
просвещение Духа Святаго в виде голубя над святыми храмами и над молящимися в
храмах (Путешествие рус. чел. на поклонение В. Новгороду. А.С., Спб., 1868).
12 Освящая храмы в честь
угодников Божиих, верующие тем самым избирают святых в покровители храма и в
молитвенники перед Богом. Этот обычай произошел от того, что в древности
строили храмы большей частью на гробах мучеников и называли эти храмы их
именами.
13 Название «паперть»
указывает, что здесь издревле стояли «несуперты», т.е. нищие, просящие
подаяние.
14 Хоры или катихумены
составляли необходимую принадлежность древних византийских храмов - так в храме
Св. Софии, построенном Юстинианом, обнимали в виде галерей все три стороны
храма. Хоры предназначались собственно для женщин, которые по древнему обычаю
восточных церквей стояли в храме отдельно от мужчин. У нас в России по этому
образцу устроены соборы в Киеве, Смоленске, Могилеве, Чернигове, Москве.
15 Собором, бывшем в Лаодикии, запрещено входить на
амвон для чтения людям, не посвященным
2.1.12.
Священник Павел Флоренский. Иконостас - явление небесных свидетелей
(Сочинения в четырех томах,
т.2. М., 1996, с. 441, 442.)
Свящ. Павел
Флоренский (1882-1943) - православный философ, ученый. Среди многочисленных
работ в разных областях знаний имеются труды по церковному искусству.
Иконостас есть граница между миром видимым и миром
невидимым, делается доступною сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей,
обступивших престол Божий, сферу небесной славы, и возвещающих тайну. Иконостас
есть видение. Иконостас есть явление святых и ангелов - агиофания и
ангелофания, явление небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого
Христа во плоти, - свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти.
Иконостас есть сами святые. И если бы все молящиеся в храме были достаточно
одухотворены, если бы зрение всех молящихся всегда было видящим, то никакого
другого иконостаса, кроме предстоящих самому Богу свидетелей Его, своими ликами
и своими словами возвещающих Его страшное и славное присутствие, в храме и не
было бы.
По немощности
духовного зрения молящихся, Церкви, в заботе о них, приходится пристраивать
некоторое пособие духовной вялости: эти небесные видения, яркие, четкие и
светлые, отмечать, закреплять вещественно, след их связывать краскою. Но
этот костыль духовности, вещественный иконостас, не прячет что-то от верующих -
любопытные и острые тайны, как по невежеству и самолюбию вообразили некоторые,
а, напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им, хромым и
увечным, вход в иной мир, запертый от них собственною их косностью, кричит им в
глухие уши о Царствии небесном, после того как оказались они недоступными речи
в обыкновенный голос. Конечно, этот крик лишен всех тонких и богатых средств выразительности,
которыми обладает спокойная речь; но кто же виноват, если последнюю не только
не оценили, но и не заметили ее, и что остается тогда, кроме крика. Снимите
вещественный иконостас, и тогда алтарь, как таковой, из сознания толпы вовсе
исчезнет, закроется капитальною стеною. Но вещественный иконостас не заменяет
собою иконостаса живых свидетелей и становится не вместо них, а - лишь как указание
на них, чтобы сосредоточить молящихся вниманием на них. Направленность же
внимания есть необходимое условие для развития духовного зрения. Образно
говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной;
иконостас же пробивает в ней окна, и тогда через стекла мы видим, по крайней
мере можем видеть, происходящее за ними - живых свидетелей Божиих. Уничтожить
иконы - это значит замуравить окна; напротив, вынуть и стекла, ослабляющие
духовный свет для тех, кто способен вообще видеть его непосредственно, образно
говоря, в прозрачнейшем безвоздушном пространстве, - это значит научиться
дышать эфиром и жить в свете славы Божией; тогда, когда это будет, вещественный
иконостас сам собою упразднится, с упразднением всего образа мира сего и с
упразднением даже веры и надежды и с созерцанием чистою любовию вечной славы
Божией.
ИКОНОСТАС
Храм есть
путь горнего восхождения. Пространственное ядро храма намечается оболочками:
двор, притвор, самый храм, алтарь, престол, антиминс, Чаша, Святые Тайны,
Христос, Отец. Храм есть лестница Иаковлева, и от видимого она возводит к
невидимому; но весь алтарь, как целое, есть уже место невидимого, область,
оторванная от мира, пространство неотмирное. Весь алтарь есть небо: умное,
умопостигаемое место с «пренебесным и мысленным жертвенником». Сообразно
различным символическим знаменованиям храма, алтарь означает и есть различное,
но стоящее в отношении недоступности, трансцендентности к самому храму. Когда
храм, по Симеону Солунскому, в христологическом толковании знаменует Христа
Богочеловека, то алтарь имеет значение невидимого Божества, Божеского естества
Его, а самый храм - видимого, человеческого. Если общее истолкование
антропологическое, то по тому же толкованию алтарь означает человеческую душу,
а самый храм - тело. При богословском толковании храма, как указывает Солунский
Святитель, в алтаре нужно таинство непостижимой по существу Троицы, а в храме -
Ее познаваемый в мире промысл и силы. Наконец космологическое изъяснение у того
же Симеона за алтарем признает символ неба, а за самым храмом - земли.
Небо от
земли, горнее от дольнего, алтарь от храма может быть отделен только видимыми
свидетелями мира невидимого, живыми символами соединения того и другого, иначе
- святыми.
В нормах
церковного сознания светские историки и позитивистические богословы усматривают
свойственный Церкви обычный ее консерватизм, старческое удержание привычных
форм и приемов, потому что иссякло церковное творчество, и оценивают такие
нормы как препятствия нарождающимся попыткам нового церковного искусства. Но
это непонимание церковного консерватизма есть вместе с тем и непонимание
художественного творчества. Последнему канон никогда не служил помехой и
трудные канонические формы во всех отраслях искусства всегда были только
оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования.
Подымая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая форма высвобождает
творческую энергию художника к новым достижениям. Требования канонической формы
или, точнее, дар от человечества художнику канонической формы есть
освобождение, а не стеснение. Истинный художник хочет не своего во что бы то ни
стало, а прекрасного, объективно-прекрасного, т.е. художественно воплощенной
истины вещей. Художник, опираясь на всечеловеческие художественные каноны,
когда таковые здесь или там найдены, через них и в них находит силу воплощать
подлинно созерцаемую действительность. Принятие канона есть ощущение связи с
человечеством, свое же постижение истины, проверенное и очищенное собором
народов и поколений, оно закрепило в каноне.
Ближайшая
задача - постигнуть смысл канона, изнутри проникнуть в него, как в сгущенный
разум человечества, и, духовно напрягшись до высшего уровня достигнутого,
определить себя, как с этого уровня мне, индивидуальному художнику, является
истина вещей.
В отношении к
духовному миру Церковь, всегда живая и творческая, вовсе не ищет защиты старых
форм, как таковых, и не противопоставляет их новым, как таковым. Церковное
понимание искусства и было и есть и будет одно - реализм. Это значит: Церковь,
«столп и утверждение Истины», требует только одного - истины. В старых ли, или
новых формах истина, Церковь о том не спрашивает, но всегда требует
удостоверения, истинно ли нечто, и, если удовлетворение дано, благословляет и
вкладывает в свою сокровищницу истины, а если не дано - отвергает.
Каноническая
форма - это форма наибольшей естественности, то, проще чего не придумаешь,
тогда как отступления от форм канонических стеснительны и искусственны. Чем
устойчивее и тверже канон, тем глубже и чище он выражает общечеловеческую
духовную потребность: каноническое есть церковное, церковное - соборное, соборное
же - всечеловеческое.
Стиль требует
известной полноты круга условий, некоторой замкнутости художественного целого
как особого мира, и вторжение в него иного характера ведет к искажению как
целого, так и отдельных частей, в целом имевших свой центр и начало равновесия.
В храме, говоря принципиально, все сплетается во всем: храмовая архитектура,
например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект, как вьющиеся по
фрескам и обвивающие столпы купола ленты голубоватого фимиама, которые своим
движением и сплетением почти беспредельно расширяют архитектурные пространства
храма, смягчают сухость и жесткость линий и, как бы расплавляя их, приводят в
движение и жизнь Тончайшая голубая завеса фимиама, растворенного в воздухе,
вносит в созерцание икон и росписей смягчение и углубление воздушной
перспективы.
Вспомним о
пластике и ритме движений священнослужащих, например, при каждении, об игре и
переливах складок драгоценных тканей, о благовониях, об особых огненных
провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами горящих свечей.
Синтез
храмового действа не ограничивается только сферой изобразительных искусств, но
вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэзию. Тут все подчинено единой
цели и потому все, соподчиненное тут друг другу, не существует, взятое порознь.
Искусство
выводит из субъективной замкнутости, разрывает пределы мира условного и,
начинаясь от образов и через посредство образов, возводит к первообразам, от
эктипов через типы к прототипам. Искусство - не психологично, но онтологично,
воистину - есть откровение первообраза. Искусство воистину показывает новую,
доселе незнаемую нами реальность. Художник не сочиняет из себя образа, но лишь
снимает покровы с уже, и притом премирно, сущего образа.
2.1.13.
Ерминия, или Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом живописцем
Дионисием Фурноаграфитом
(1707-1733, Киев, 1868. Переиздание: М., 1993, с.
223-236.)
Иеромонах Дионисий
Фурноаграфит (1701-1755) - афонский живописец из Фурны, составивший на основе
изучения творчества Мануила Панселина (XI в.) и своего опыта «Ерминию, или Наставление в
живописном искусстве», где описывается система росписи церквей разной
архитектуры.
О церкви трульной (т.е. с куполами)
Когда хочешь
расписать церковь трульную, то в небе купола нарисуй разноцветный круг,
подобный радуге, которая бывает видима в облаках во время дождя, и в нем
изобрази Христа, благословляющего и держащего на персях Евангелие, и надпиши: Иисус
Христос Вседержитель. Около круга изобрази херувимов и престолы и надпиши: видите,
видите, видите, яко Аз есмь, и несть Бог разве Мене (Втор. 32. 39). Аз
сотвори землю, и человека на ней. Аз рукою Моею утвердил небо (Ис. 65. 12).
Ниже Вседержителя (в шее
купола) изобрази прочие лики ангелов. И среди них к востоку Богоматерь с
распростертыми руками и напиши над Нею: Матерь Божия Владычица ангелов.
Напротив Нее, к западу, изобрази Предтечу; под ними пророков, и под пророками
на венце купола напиши тропарь: Утверждение на тя надеющихся, утверди
Господи церковь, юже стяжал ecи честною Твоею Кровию.
Ниже, в углах, что подле сводов, изобрази четырех евангелистов; а на одной
линии с ними, на ключах сводов, но с лица их, на восточной стороне изобрази
святый убрус, на западной - святое чрепие; на южной - Иисуса Христа, держащего
Евангелие со словами: Аз есмь лоза, вы же рождие; на северной -
Эммануила, держащего хартию с надписанием: Дух Господень на Мне, Егоже ради
помаза Мя. Потом нарисуй виноградные ветви, расходящиеся от этих четырех
изображений по окружиям сводов до евангелистов, а среди переплетенных ветвей надпиши
поясные изображения апостолов. На тех же верхах каждой арки, кои противоположны
верхам их, что с лица, изобрази по три пророка с хартиями, которые
пророчествовали об изображенных под ними праздниках так, чтобы каждый из них
ясно указывал на тот праздник, о котором кто пророчествовал.
Начало первого ряда стенной живописи
Внутри алтаря, в
восточном углублении, пониже линии пророков, изобрази Богоматерь, сидящую на
престоле и держащую Христа Младенца, и над Нею напиши: Матерь Божия высшая
небес. По обе стороны Ее изобрази двух архангелов, Михаила и Гавриила,
ходатайствующих. Потом на одной линии с нею, в алтаре и во всем храме, на
верхних частях стен изобрази Господские праздники, святые страсти Христовы и
чудеса Его по воскресении. Так расписывается первый ряд.
Начало второго ряда
Под Превысшею небес
изобрази Божественную литургию. Потом, на одной линии с этим изображением, на
всех стенах храма напиши божественные дела и чудеса Христовы. В двух боковых
куполах алтаря помести следующие изображения: в небе купола над тем отделением,
где совершается проскомидия, изобрази Христа в архиерейской одежде, сидящего на
облаке, благословляющего и держащего открытое Евангелие со словами: Аз есмъ
пастырь добрый; и над ним напиши: Иисус Христос, Архиерей великий. А
вокруг Его изобрази херувимов и престолы. В шее купола пиши святителей, каких
кто хочет, а на стенах проско-мидийного отделения историруй жертвоприношение
Авеля и Каина, жертвоприношение Ноя, на восточной арке этого отделения изобрази
снятие Спасителя со Креста.
В небе купола, что над
диаконником, изобрази Богоматерь с младенцем, с распростертыми руками и над нею
напиши: Матерь Божия ширшая небес. В шее этого купола живописуй
святителей, каких кто хочет, а на стенах диаконника представь Моисея, видящего
купину горящую, трех отроков в пещи, Даниила во рве львином, странноприимство
Авраама.
Вне алтаря, в четырех
бессветных полукуполах изобрази:
в первом, что перед
диаконником, - великого совета Ангела, на облаке носимого четырьмя ангелами и
держащего хартию со словами: Аз от Бога изыдох и приидох, и о Себе не
приидох, но той Мя посла (Ин. 7. 28), и напиши над Ним: IС. ХР., великого совета Ангел;
во втором, что перед проскомидийным отделением,
изобрази Эммануила на облаке со словами на хартии Его: Дух Господень на Мне,
Его же ради помаза Мя; а на четырех сторонах облака четырезрачные знамения
евангелистов;
в третьем изобрази
архангела Михаила, в правой руке держащего меч, а в левой хартию со словами: простираю
меч мой на приходящих в чистый дом Божий с нечистыми сердцами;
в четвертом изобрази
Предтечу на облаке, правою рукою благословляющего, а в левой держащего крест и
хартию со словами: покайтеся, приближибося Царствие небесное.
Пониже, в самой арке
ставрофолия изобрази Моисея, держащего скрижали закона, и Аарона с золотою
стамною и с процветшим жезлом, обоих в священном облачении и в митрах; потом
Ноя с ковчегом в руках и Даниила с хартиею - всех друг против друга.
В арке второго
ставрофолия изобрази Самуила, держащего рог с елеем и кадильницу, Мельхиседека,
держащего блюдо с тремя хлебами, Захарию, отца Предтечи с кадильницею - всех в
священном облачении, также праведного Иова в венце, держащего хартию со
словами: буди имя Господне благословенно от ныне и до века.
В арках третьего и
четвертого ставрофолия изобрази двенадцать апостолов (по 6 в каждой). На двух
брусах, что на капителях восточных колонн, поддерживающих главный купол, с лица
изобрази, на одном брусе Богородицу, а на другом - архангела; на боках брусов,
у Всесвятой - пророка Давида, держащего хартию со словами: слыши и виждь, и
приклони ухо твое; а у благовествующего архангела - пророка Исайю,
указывающего перстом на Пресвятую и говорящего на хартии: Се Дева во чреве
примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил.
На капителях четырех колонн подпиши:
на первой: Сей дом
Отец устрой.
на второй: Сей дом Сын
утверди.
на третьей: Сей дом
Дух Святый обнови.
на четвертой: Троице
Святая, слава Тебе!
Начало третьего ряда стенной живописи
Внутри алтаря, ниже
изображения Божественной литургии, пиши кистью преподание Тела и Крови
Господней апостолам, как сказано выше; а на стенах алтарных, по этой же линии
до иконостаса, слева живописуй Введение Богородицы, Моисея и Арона,
священнодействующих в скинии свидения, а справа, также до иконостаса, -
лествицу Иакова и перенесение ковчега Завета в Иерусалим.
Вне алтаря, на трех
стенах храма, по этой же линии, изобрази избранные притчи, Воздвижение Креста и
восстановление почитания святых икон. А на западной стене, над дверьми храма,
изобрази Успение Богородицы и другие Богородичные праздники. Так расписывается
третий ряд.
Начало четвертого ряда
Под третьим рядом в
алтаре и во всем храме изобрази святых в кружках, в алтаре - св. иерархов, у
клиросов - мучеников, в остальных местах - преподобных и песнотворцев, каких
кто хочет.
Начало пятого ряда
Под четвертым рядом в
алтаре, вокруг св. трапезы, изобрази св. иерархов, на правой стороне - Василия
Великого, на левой - Иоанна Златоустого и других именитых святителей с хартиями
и словами на них, как сказано выше. На стене подле жертвенника изобрази Петра
Александрийского, вопрошающего на хартии: Кто твой хитон, Спасе, раздра?
А пред ним - Христа, яко младенца стоящего на святой трапезе в раздранной
срачице, правою рукою благословляющего, а в левой держащего хартию с ответом: Арий
безумный и всезлобный, Петре! В арках, отделяющих алтарь от жертвенника и
диаконника, напиши святых архидиаконов, как указано выше.
Вне алтаря над клиросами изобрази великомучеников, -
на правой стороне церкви - Георгия, а на левой - Димитрия и прочих по порядку,
также св. бессребреников и Константина Великого и Елену, держащих вместе Крест
Господень.
На западной стене церкви
справа изобрази св. Антония, слева Евфимия и других именитых преподобных и
песнотворцев с хартиями и надписаниями, как указано выше.
У выхода из церкви в
притвор справа изобрази архангела Михаила с мечом и хартиею, на которой
пишется: Божий воевода есмь, меч носяй, и входящих сюда со страхом стрегу,
защищаю, заступаю, покрываю, с нечистым же сердцем входящих грозно посекаю
мечом сим. Слева напиши Гавриила, держащего хартию и пишущего на ней
тростью: держа в руке трость скорописца, отмечаю приношения входящих;
усердных храню, а неусердных наказую скоро.
Над самым выходом
изобрази Христа, яко трехлетнего младенца, спящего на подушке,
так что головка покоится на ручке Его, и Богородицу,
стоящую пред Ним с благоговением, а около Него ангелов, держащих рипиды и
веющих над Ним.
Под этим изображением
напиши: сей божественный и священный храм святой обители (имя рек) живописан
иждивением (того-то), в году (таком-то).
О паперти
Если паперть, которую
придется расписывать, имеет два трулла1, то в одном изобрази псалом Всякое
дыхание так: обведи круг и в нем изобрази Христа с ликами ангелов, а ниже,
кругом - лики святых, как сказано выше.
В другом трулле очерти
небо и по окружию его напиши: Свыше пророцы Тя предвозвестиша; а в небе
изобрази Пресвятую Богородицу с младенцем и ангелов, носящих Ее; пониже,
кругом, напиши пророков, как сказано прежде; еще ниже на углах рисуй
песнотворцев, сидящих на седалищах и пишущих. На правой стороне, где изображено
Всякое дыхание, рисуй: Иоанна Дамаскина, пишущего: прежде век от Отца
рожденного...; св. Косму, пишущего: Образ неизменный Сущаго, Сыне, Слове,
Мудрость, Тя воспеваем со Отцем Твоим и Духом; святого Анатолия, пишущего: Веселитеся
небеса, вострубите основания земли; святого Киприана, пишущего: Дивен ecи, Боже наш, и дивна дела Твоя и путие Твои
неисследованни. Ты бо ecи Мудрость Божия и Ипостась совершенна.
На левой стороне, где
изображено: Свыше пророцы Тя предвозвестиша, представь св. Мит-рофана,
пишущего: речи пророков и гадания преднаписаша, Пречистая, Твое
рождество...; св. Иосифа, пишущего: Небо простерший волею, небо земное
ино распростре тя, Богомати чистая и проч.; св. Феофана, пишущего: словесем
последующе богоглаголивых, пречистая, Богородицу мним Тя...; св. Андрея,
пишущего: Бессеменного зачатия рождество несказанное, матере бе-мужныя
нетленен плод...
На сводах, поддерживающих
труллы, изобрази страдания мучеников, сколько можешь поместить их.
А на верхних частях стен
изобрази акафист Богородицы, как указано выше.
На восточной стороне, над
входом в церковь изобрази Христа, сидящего на престоле, с открытым Евангелием,
в котором пишется: Аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется, а по
обе стороны Его - Пресвятую Матерь и Предтечу, молящихся. На западной стене
изобрази св. Вселенские Соборы, как указано выше.
В южном воскрылии паперти изобрази корень Иессея, преступление и изгнание
Адама и другие ветхозаветные события, как сказано
выше. В северном воскрылии нарисуй душеспасительную и небошественную лествицу,
также преподобных и песнотворцев, каких кто хочет.
1 То есть, два углубления в потолке, в виде
полукуполов.
Как располагаются изображения в фиале, в
котором святят воду
В глуби
купола нарисуй небо с солнцем, луною и звездами, а по окружию его - радугу со
множеством ангелов; под ними, кругом, в первом ряду, изобрази действия Предтечи
на Иордане, как сказано выше, поместив на восточной стороне крещение Христа,
над главою Которого пишется сходящий с неба луч и в конце его Дух Святой, а в
самом луче этом до низу пишутся слова: Сей есть Сын мой возлюбленный, о
Немже благоволих. Ниже, во втором ряду, изобрази ветхозаветные события,
прообразовавшие божественное крещение, как то: обретение Моисея, потопление
египтян, услаждение вод Мерры Моисеем, двенадцать водных источников и 70
финиковых деревьев, воду пререкания, руно Гедеоново, перенесение кивота через
Иордан, жертвоприношение Илии, переход Елисея через Иордан, исцеление вод им
же, Неемана, моющегося в Иордане, и живоносный источник. На капителях колонн
напиши пророков, прорекавших о крещении.
Как располагаются изображения в братской
трапезе
Когда позовут
расписать трапезу, то прежде всего в углублении, выше игуменского стола,
изобрази Тайную вечерю, а по сторонам сего углубления - Благовещение
Богородицы, на стенах же трапезы - евангельские события.
В первом верхнем ряду
Иисуса
Христа, ядущего с мытарями; апостолов, срывающих колосья; Иисуса Христа,
благословляющего пять хлебов; гостеприимство Марфы; блудницу, помазующую миром
ноги Господа в дому Симона; Иисуса Христа, преломляющего хлеб в Емманусе;
Иисуса Христа, ядущего по воскресении печеную рыбу; Иисуса Христа при море
Тивериадском, и притчи, какие угодно, а также житие святого, которому празднует
монастырь, и низвержение денницы. Так пишется первый ряд.
Начало второго ряда
Ниже Тайной
Вечери изобрази именитых святителей в одеждах подвижников и с монашескими
наставлениями на хартиях. По правую сторону изобрази Василия Великого,
наставляющего: Должно всецело сохранять красоту души; ее взыщет Бог от
смертного рода; святого Григория Богослова, говорящего: быв поставлен
пастырем словесного стада, будь прост, смирен, терпелив и кроток; святого
Николая, говорящего: Един Бог, Отец Слова живаго, Мудрости самобытной и Силы
и Образа вечного. По левую сторону напиши Златоустого, говорящего: кто
оставит прежние грехи, тот спасется, в чем даю верную поруку, св. Афанасия
Александрийского, говорящего: Единого Бога чтим в Троице, и три Ипостаси в
Единице; св. Кирилла Александрийского, говорящего: отвергающие оружие поста
покоряются чревоугодию и гибнут от греха прелюбодеяния.
Вне
углубления (что за игуменским столом) изобрази: на правой стороне - св.
Антония, обратившегося к трапезе и говорящего: Да не прельстит тебя, монах,
насыщение чрева; послушание с воздержанием покоряет демонов; на левой - св.
Ефрема, обратившегося к трапезе и говорящего: Трапеза с молчанием,
славословием и воздержанием благословляется святыми ангелами; а трапеза без
молчания, но с празднословием и неумеренная, оскверняется демонами.
На стенах
трапезы изобрази и других преподобных, каких кто хочет, с их наставлениями. У
выхода из нее представь житие истинного монаха и суетную жизнь мира. Если
трапеза велика и крестообразна, то изобрази и апокалипсис Иоанна Богослова или
что другое, по произволению.
Вне трапезы
над дверью изобрази святого, память которого чествует обитель.
Как располагаются изображения в церкви
ставрофольной
Когда надобно
расписать церковь ставрофольную, то в середине изобрази Вседержителя и лики
ангелов, а по углам - четырех евангелистов, в арках же - праотцев и пророков,
по произволению.
Если же
церковь велика и имеет пять куполов, то в среднем, большем куполе изобрази
Вседержителя, как и в трульной церкви, а из остальных, в одном - великого совета
Ангела, в другом - Эммануила, в третьем - Богоматерь с младенцем, в четвертом -
Предтечу; ниже их напиши евангелистов, пророков, праотцев - в арках, а на
ровных стенах - господские праздники и святые страсти, а также чудеса святого,
которому посвящена обитель, и проч., как указано выше.
Как располагаются изображения в церкви с
коробовым сводом
Если церковь, которую надобно расписывать, имеет
коробовый свод, то на самой середине его изобрази Вседержителя в круге, на восток от него, над иконостасом - Богоматерь,
на запад же - Предтечу. В пустом пространстве между этими тремя ликами
представь небо, и на нем множество ангелов, а по обе стороны неба - праотцев и
пророков в кругах; ниже их изобрази: в первом ряду - Господские праздники,
святые страсти и чудеса по воскресении, в углублении же алтаря - Ширшую небес.
Под первым рядом изобрази второй ряд, как и в трульной церкви, а вне алтаря -
евангелистов и чудеса святого, во имя которого освящена обитель; все прочее
расположи, как в трульной церкви.
2.2. Вторая
половина XX в.
2.2.1. Митрополит Антоний Сурожский. «Войду в дом
Твой»
(Сатис, СПб, 1999, с. 38-47; 52-58.)
Из циклов бесед,
которые митрополит Антоний вел в религиозных передачах русской службы Би-Би-Си
в 1990-1991гг.
Митрополит Антоний
Сурожский уже многие годы несет православное свидетельство о Евангелии на
Западе. К нему с уважением прислушиваются не только христиане, не только
верующие. Его беседы обращены к тем, кто хочет осознанно приобщиться к
богослужебному строю в православном храме.
Мне хочется провести ряд бесед о
православном храме и о том содержании, которое в нем есть - не о предметах
только, а о духовном содержании. И начну я с того, что представляет собой храм,
стоящий посреди города.
В древности, как вы все, наверное, знаете, христиане были
гонимы. Храмы не стояли явно для всех; христиане собирались в катакомбах, в
подвалах, в потаенных местах. Что представляли эти места для них? Это были
места, посвященные Живому Богу, в Которого они верили. Весь остальной мир был
враждебен Христу, христианской вере. Можно сказать, что и в современном мире
положение храма в значительной мере таково же, потому что общество, среди
которого мы живем, тем более - безбожное; активно безбожное общество как бы
поставило Бога, Христа вне закона. Бог не имеет права жительства, Он не имеет
права законно существовать в той или другой стране, а если Он и существует, то
игнорируется большинством жителей. И храм, стоящий посреди города, говорит
людям, которые к Богу никакого отношения не имеют и не желают иметь, что у Него
есть приверженцы, что люди в Него верят, и вера их в Него достаточно сильна,
чтобы построить храм или сохранить этот храм и молиться в нем, чего бы это им
ни стоило.
Помню, как я впервые увидел Москву (это было в 1960 г.):
современный город, здания, какие они есть - бездушные, бедность довольно явная.
Меня повели в храм. Здания вокруг были мертвые; войдя же в храм, я вдруг
оказался в царстве красоты. Знаете, есть замечательные слова у Платона; он
говорит, что красота - это убедительная сила истины. Я остановился перед этой
красотой, которая была так непохожа на то, что я видел снаружи. Французский
писатель в одном из своих романов описывает человека, который обнаруживает, что
вокруг него настала какая-то непостижимая, глубокая тишина; он к этой тишине прислушивается
и вдруг восклицает: «Да, в сердцевине этой тишины - живое присутствие Бога!».
Так вот то, что составляет сердцевину храма и придает жизнь красоте, которая
иначе могла бы быть только эстетикой - здесь она становится средоточением
смысла.
Если понять, что содержание храма - это та тишина, та
глубина, в которой находится Бог, то понятно делается, почему человек, идущий в
храм, еще только пускаясь в путь, настроен так, как он не бывает настроен,
когда идет на работу или в гости. В храм собираешься с того момента, когда
просыпаешься и знаешь: я иду на встречу с Живым Богом. И одеваешься по-иному, и
готовишься по-иному, и стараешься, чтобы разговоров лишних не было, чтобы не
рассеивало ничто недостойное той глубины, в которой только и можно пережить содержание
храма. И по дороге идешь серьезно; идешь, как на встречу с очень значительным
или с очень любимым человеком, не рассеиваясь пустыми мыслями, а зная: я иду на
встречу - ну, скажем просто, - с возлюбленным, с самым дорогим, драгоценным
человеком или существом, какое у меня есть на свете.
По церковным правилам (но, конечно, эти правила были
писаны тогда, когда храмов было очень много и дорога из дому до храма была
недолгая) по дороге полагалось читать молитвы. Начинали путь, сказав:
Благословен Бог наш, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. То есть
навсегда Он благословен; что бы ни случилось, что бы со мной ни было, я
благословляю Его имя. Когда доходишь до самого храма, останавливаешься на
мгновение: это дом Божий, это Божий удел. И крестишься перед ним не только на
икону, которая видна, но и на самый храм: это место селения Божия. Вступая в
него, мы говорим: Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему во страсе
Твоем. И, переступив порог, останавливаешься, не спешишь никуда, стоишь мгновение,
потому что ты вошел в удел Божий. Все это пространство, все это место посвящено
Богу в мире, который Его отрицает, который Его не знает, в мире, где у Него нет
ни места, где главу преклонить, ни гражданства, ни права жительства. В храме Он
дома; это место, где Он у Себя и принимает нас как хозяин; это святое место,
куда можно вступить только с такими чувствами, которые достойны и самого
человека, и Бога, на встречу с Которым идешь.
В храм человек входит через притвор. Притвор - это не
только дверь, но и небольшое пространство между ней и самым храмом. Теперь это
место стало проходным; но в древности притвор играл громадную роль. В притворе
стояли те люди, которые еще не были крещены (их называли оглашенными), и те,
кто был исключен из церковного общения: кому нельзя было причащаться, потому
что они нарушили какие-то основные правила христианской жизни.
Я употребил слово оглашенные. Оглашенные - это люди,
которые услышали проповедь, услышали о Христе, до которых дошла эта весть,
дошел голос (откуда и слово «оглашенные») и которые зажглись интересом или
верой. В этом отношении притвор тем архитектурно интересен, что он закрыт в
сторону церкви и открыт в сторону улицы, то есть он открыт всему миру. Все, кто
только услышат о Христе, все, у кого дрогнет сердце, у кого вдруг появится
живой интерес, могут туда прийти; но там они должны были бы оставаться. Теперь
мы этого не делаем, но в древности это соблюдалось строго. В храм вступали не
через дверь, а через крещение, и пока человек не был крещен, он оставался в
притворе. Но для того, чтобы люди могли молиться, часть службы совершалась при
открытых дверях, так что стоявшие в притворе могли слышать ту часть
богослужения, которая была поучением.
На стенах притвора часто изображались сцены Страшного
суда, суда Божия над грешной душой; притвор был местом, где человек стоял перед
судом своей совести.
Поэтому притвор широко открыт на улицу. Оттуда, из мира
может прийти всякий, кого коснется сознание своего недостоинства, кто услышит
голос Божией любви. Раньше люди стояли в притворе, ожидая, что откроются врата
самого храма и они вступят в область, которая является домом Божиим, уделом
Божиим. В этом заключается смысл притвора, который, к сожалению, сейчас
представляет собой только проходное пространство.
Храм - удел Божий. Что это значит? Это значит, что все
пространство, которое обрамлено стенами этого храма, принадлежит Богу, и что в
этом мире, где Ему часто нет места в городе, среди общественности, в
политической или частной жизни людей, храм для Него - как бы место убежища. Так
не говорят никогда, конечно, потому что мы привыкли к тому, что Бог в убежище
не нуждается. На самом же деле отвергнутый Бог теперь часто не имеет никакого
места, которое принадлежало бы Ему, кроме храма; и вот в этом отношении храм
является Его уделом. И замечательно то, что Бог сотворил весь этот мир, который
осквернен, обезбожен, опустошен человеком; а храм создан людьми, которые
остались верны Богу и создали такое место, где Он имеет право жить, где Он
царствует, где Он хозяин и может совершать над нами, людьми, чудеса, которых
никакая культура, никакая техника не может совершить. Это - удел Божий.
Вот в какую область мы входим; вот с каким чувством, с
каким трепетом, внутренним страхом мы должны вступать в храм. И поэтому
новопостроенный храм, раньше чем он станет в полном смысле местом Божия
вселения, освящается.
Самое слово «освятить» значит - сделать святым, сделать
принадлежностью Самого Бога. Поэтому храм строится с молитвой, первый камень
закладывается с молитвой и благословением. Храм строится с верой, что эти стены
обрамляют какое-то пространство - малое, но такое, которое принадлежит Богу и
которое в этом отношении нельзя назвать малым или великим.
В этом отношении освященный храм, как бы он ни был
невелик или архитектурно несовершенен, делается больше вселенной, потому что
это место вселения невместимого Бога. Закладывается храм, строятся стены, и
потом храм освящается. Произносятся молитвы, освящаются стены, иконостас,
каждая икона в отдельности, освящается престол, на котором будет совершаться
богослужение, и все покровы на этот престол, все сосуды, которые будут
употреблены, священнические одежды. Все это освящается не каким-то магическим
обрядом, а благословляется так, чтобы оно стало Божиим и не принадлежало, не
могло принадлежать никому другому и ничему другому. Освящает храм епископ или
священник. Кто бы ни совершал освящение, оно означает, что мы берем этот клочок
земли и говорим: Господи, в этом обезбоженном мире этот клочок - Твой; Ты здесь
нераздельно хозяин.
Что же мы увидим? Мы увидим (может быть, с удивлением),
что храм разделен на две области, на две части. В одной части стоит весь народ,
а где-то впереди преграда, за которую народ не входит. За преградой - алтарь.
Что же это значит? Это значит, что мы все - на пути ко спасению, но еще не
достигли той полноты, которая является Царством Божиим. Как бы в глаза
бросается то, что Бог пришел в мир, что мы стоим там, куда пришел Христос, что
в эту область сошел Святой Дух, что Бог нас любит,- но что есть область, в
которой Он живет полнотой Своей жизни, и куда мы устремлены, но до которой мы
еще не дошли.
Церковь иногда сравнивают с кораблем и самую центральную
часть храма даже называют кораблем. Этот образ взят из Ветхого Завета.
Некоторые из вас помнят, что в Ветхом Завете рассказывается о потопе и о том,
как малая часть человечества, еще сохранившая в себе подлинные человеческие
черты, была спасена вместе с животными в ковчеге. Вот этот образ небольшого
числа людей, которые спаслись, потому что остались вместе во имя Божие и в единстве
своего человечества, перенесен и на Церковь. И когда мы думаем о том, что эта
часть храма называется кораблем, мы думаем не только о том, что случилось в
Ветхом Завете. Ведь корабль - это деревянное судно, это хрупкая, в сущности,
постройка, на которую обрушиваются волны, дуют ветры, которую стараются
разрушить все силы природы. Не так ли древние христиане воспринимали корабль
церковный, когда они были гонимы, ненавидимы, когда их отдавали на суд и на
муки?.. Храм - это малая область, посвященная Богу, которая действительно была,
как корабль; это место, где они с Богом были спокойны, уверены в своей судьбе.
Вот почему так дорого это название корабля. Это не только место, где люди в
безопасности. Это место, где люди и Бог вместе, но где - вместе с Богом,
Который стал человеком, чтобы жить для спасения людей и умирать ради спасения
людей, а Его ученики готовы и жить, и умирать в Его имя для спасения других.
Корабль церковный, то есть та часть, в которой стоит весь
народ, представляет собой человеческий мир, тех людей, которые уверовали во
Христа, отдали Ему свою верность и свою жизнь и которые - на пути к полному
духовному возрастанию, до момента, когда сами войдут в глубины Божий, когда, по
слову апостола Петра, они станут причастниками Божественной природы, приобщатся
вечности Самого Бога, жизни Самого Бога. А алтарь нам говорит о том, что путь
наш еще не кончен, что в нас еще не все принадлежит подлинному человечеству и
обоженному человечеству, что за пределом земли есть тайна Божия, которой мы еще
не постигли, которую мы можем только видеть иногда издали, иногда очень близко,
иногда мельком, но которая нас зовет.
Когда раскрываются царские врата, то есть двери
посередине иконостаса, закрывающие нам центральную часть алтаря, мы видим перед
собой две вещи. Мы видим квадратный стол, который называется престолом, потому
что на нем восседает Бог, и дальше, в глубине алтаря - икону Воскресения
Христова: это то, к чему мы призваны. В некоторых храмах стоят другие иконы (в
нашем храме - икона Преображения); но в любом случае они говорят о том же: эта
икона нам являет, чем может стать человек, если он станет подобным Христу
Спасителю.
Но перед нами стоит иконостас. Почему? О чем он говорит?
Иконостас не отделяет нас от алтаря, он, наоборот, нас с алтарем соединяет. В
западных храмах иногда бывает просто легкая преграда; если была бы только
запретная черта - и этого было бы достаточно, чтобы указать на то, что мы в
Божией области, но еще не вошли в тайну вечной жизни. Иконостас перед нами
ставит образы нашего спасения. По одну сторону царских врат - икона Спасителя
Христа, именно Спасителя, Бога, ставшего человеком для того, чтобы человек мог
приобщиться Божеству и войти в полноту, в самые глубины божественной
тайны. Святой Иоанн Златоуст говорит о том, что если мы хотим познать, как
велик человек, то должны не взирать в сторону престолов царских, а просто
поднять глаза к небу, чтобы увидеть Человека Иисуса Христа, который
одновременно является и Богом нашим, сидящего по правую руку Бога и Отца. По
другую сторону святых врат - икона Божией Матери, которая говорит нам о том,
что действительно от Девы родился Спаситель мира Христос; но не только: она
говорит и о том, что это стало возможным, потому что в лице Божией Матери все
человечество отозвалось на Божию любовь, отозвалось на то, что Бог сказал нам:
Я хочу стать одним из вас для того, чтобы все вошли в вечность и в радость Мою.
А по правую и левую стороны - иконы разных святых,
которые говорят нам о том, что это не пустое обещание, что тысячи людей прежде
нас прошли этим путем и действительно дошли до такой меры богопознания, до
такой изумительной красоты человечества, которая и нам возможна.
2.2.2.
Епископ Костромской и Галицкий Александр.
Национальная
духовная традиция и созидание среды обитания
(Доклад на Всероссийском
совещании в Костроме 21-25 сентября 1992 г.
«Проблемы и пути возрождения Российской
архитектуры». М., 1993, с. 7-10.)
Сейчас мы приходим к осознанию того, что в течение многих
столетий вера православная, хранимая Русской Церковью, была и источником
вдохновения, и основой содержания, и мерилом красоты и подлинности любого
творческого процесса - храмоздательства и иконописания, литературного
творчества и декоративно-прикладного искусства.
Только обратившись к животворным духовным истокам
творчества предыдущих поколений, мы сможем сохранить то, что осталось после
многолетнего истребления культурного наследия нашего народа, и, может быть, -
создать что-то новое, достойное наших предков.
Архитектурное творчество особенно дорого нам, верующим
русским людям. Во все времена русский народ выражал свои высшие религиозные
чувства в построении храмов Божиих. Многочисленные монастыри, храмы и часовни
наполняли Русскую землю, были средоточием духовной жизни народа, хранилищами
его духовного достояния. И пока народ наш помнил о Боге, жил по Его заповедям -
Господь не оставлял нас Своею милостью. Сейчас мы удивляемся соразмерности и
пропорциональности древнерусских храмов, выверенности их архитектурного облика,
и возникает вопрос - как же русские зодчие смогли воплотить в своем творчестве
идеалы гармонии, к которым нынешнее технократическое общество до сих пор
пытается подойти сложными построениями человеческого разума? Конечно, ответ не
может быть однозначен. Но мы, чада Православной Церкви, знаем: истинное
творческое вдохновение есть дар Божий, который посылается людям высокого
духовного уровня. Неудивительно потому, что все памятники древнерусской
архитектуры связаны с именами духоносных подвижников, прославленных нашей
Церковью в лике святых. Это непреложный закон духовной жизни древнерусского
общества, начиная с причисленных к лику святых греков - строителей соборной
Успенской церкви в Киеве - матери русских городов.
Русское храмоздательство воплощало в себе не только
духовные и эстетические идеалы Православия; зодчие рассматривали свое
творчество как воплощение в дереве и камне образов Царства небесного. Особенно
показателен в этом смысле удивительный ансамбль Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой, который строился под руководством и
по замыслу патриота Русской земли Патриарха Никона. Все в нем - и топонимика
окрестностей, и духовно-архитектурное содержание комплекса монастырских
строений - прежде всего главного Воскресенского собора - позволяет современным
исследователям видеть в нем воплощение сокровенных чаяний русской души о граде
Божием, небесном Иерусалиме, вечном Отечестве.
Веяния западного искусства, проникшие к нам через
прорубленное Петром I «окно в
Европу», стали во многом определяющими в архитектурном творчестве. Однако
тем-то и был ценен вековой опыт русского храмоздательства, что оно гармонично
воспринимало новые архитектурные формы, сохраняя характерные черты национальной
духовной традиции. А когда новаторство грозило размыванием канонических норм
церковной архитектуры, русская мысль обращалась к опыту прошлого, к
традиционным формам, уделяла особое внимание памятникам старины. Особо это
заметно во второй половине XIX - начале XX веков.
К сожалению, сейчас в деле церковного строительства и
реставрации преобладает се-кулярный подход. Методические рекомендации сводятся
к формальному историко-художе-ственному описанию. Игнорируются духовное
содержание памятника, его смысл, роль и значение. Между тем православные храмы,
часовни, монастырские комплексы и другие памятники церковной архитектуры
следует рассматривать прежде всего как святыню.
2.2.3. Архимандрит Евлогий (Смирнов). Храм Божий
(ЖМП, 1973, № 10.)
Архимандрит (ныне
митрополит Воронежский) Евлогий (Смирнов) - занимал должность эконома
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, руководил воссозданием Свято-Данилова монастыря
в Москве и Оптиной Пустыни.
Путь человека к Богу лежит через храм
и его святыни. С незапамятных времен человек осознал потребность в храме. В нем
он возносил жертвы и молитвы к Богу, духовно соединялся с ним. Места молитв и
богослужений ничем не походили на обычные жилища людей, ибо храм - образ
небесного на земле. «Храм есть дом Божий, хотя и устрояется из неодушевленных
веществ: ибо освящается он Божественною благодатью и священнодейственными
молитвами» - учит святой Симеон Солунский.
Храм никогда не создавался по побуждениям внешним, чисто
эстетическим. Высокое назначение храма, его духовность, выраженные в
богослужении, святых таинствах, обрядах, священных предметах, - вот что
определяет его внешний вид и содержание.
Глубокое основание святости храма Божия есть присутствие
Божие во храме, таинственное и непостижимое. Господь во храме святем Своем
(Пс.10.4). «Нигде так таинственно близко не соприкасаются люди с Богом и Бог с
людьми, как в храме, на месте Его особенного божественного присутствия», -
говорит митрополит Московский Филарет.
Из евангельской истории мы узнаем об отношении к храму
Самого Христа Спасителя. «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему»
(Лк.2.49). «Я каждый день бывал с вами в храме» (Лк.22.52), - говорил
Христос.
По преданию, Божия Матерь с трех лет была отдана в храм
Божий. Молитвы в нем со-делали Ее Богородицей.
Получив благословение в храме, праведные люди начинали
подвижнический путь очищения души. Вспомним святую Анну пророчицу, о которой
сказано в Евангелии, что она не отходила от храма (Лк.2.37), преподобную Марию
Египетскую, возродившуюся у порога святого храма.
Сионская горница вошла в историю христианства как первый
новозаветный храм. Она стала священной ввиду совершенного в ней Христом Спасителем
таинства Евхаристии. Вступая в храм и приобщаясь благодати святых таинств,
человек возрождает свою душу.
С течением времени тип христианского храма и его
символика окончательно оформились и в них нашло отражение глубочайшее
содержание христианской религии. Простота и безыскусственность обстановки
молитвенных собраний первохристианских общин не могут служить аргументом против
величественности и благолепия современных храмов, подобно тому, как
трогательная наивность детского возраста не отрицает необходимости перехода его
в «мужа совершенна». «Когда я был младенцем, - говорит св. апостол Павел, - то
по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил
младенческое» (1 Кор. 13.11).
2.2.4. Архимандрит Рафаил (Карелин). Христианство и модернизм
(М., 1999, с. 155-158.)
Архимандрит Рафаил (Карелин) - современный духовный писатель, живущий в
Грузии.
Храм - это икона неба, храм - место невидимого
присутствия Божия, поле Божественных сил и энергий. В храме Церковь земная
соединена с Церковью небесной. В храме непрестанно льются, как волны реки,
песнопения ангелов, их небесные хоралы слышит человеческая душа, погруженная в
молитву; храм наполняет духовный свет, незримый для глаз, но видимый
человеческим сердцем, омытым слезами покаяния. В храме проходит в священных
символах и образах вся история человечества. В храме время теряет свою
прямолинейную протяженность, будущее и прошлое во взаимопроникающих циклах
становятся настоящим. В храме время, оцерковленное ритмами богослужения, отражает
световой образ вечности. В храмовом богослужении раздается голос пророков,
возвещающих о пришествии Христа, и проповедь апостолов о том, что спасение мира
совершилось; в храме безгласно звучит пение серафимов, которым они славили Бога
при мироздании; в храме предвозвещается будущий Страшный суд над ангелами и
людьми. В храме само пространство и время открываются в новых таинственных
глубинах и измерениях, в огромных внутренних емкостях, в которые вмещаются вся
история мира и все пространство вселенной. Храм - это Библия, воплощенная в
камне, это иерархические ряды священных символов, через которые душа человека
восходит к Богу. Храм - это место сокровенной встречи души с Божеством.
Круг храмового богослужения становится золотым кольцом,
которым человек обручается с вечностью. Люди, не включенные в духовную жизнь,
обычно воспринимают храм как синтез зодчества различных эпох, культур и
народов, как достижение человеческой мысли и воплощение эстетического гения
художника. Но это не так: храм является откровением Божественного Логоса на
земле, частью священного Предания. Христианский храм несет в себе вечное и
неизменное (поэтому содержание формы храма, его знаково-символический язык
должны быть твердыми и устойчивыми, общими для всех регионов и времен).
Образ ветхозаветной скинии - походной церкви - был
показан Моисею во время Теофании на Синайской горе.
План Иерусалимского храма составили цари-пророки Давид и
Соломон. Один из них написал «Псалтирь» - основу богослужебных молитв, другой -
«Песнь Песней», которую древние мистики сравнивали со святая святых храма. Все
в храме священно, все имеет таинственный смысл. В Библии подробно указаны формы
и описаны внутреннее убранство и материал для его строительства и для
изготовления богослужебных предметов (может быть, потому, что каждое вещество
обладает неизвестными нам излучениями - эманациями).
В образе величественного храма апостолы Павел и Иоанн
созерцали Царство небесное. Идеи и пророчества ветхозаветного храма раскрылись
и воплотились в храме новозаветном. Здесь их генетическое единство и
историческое различие - как между самими заветами - Ветхим и Новым.
Ветхозаветный храм - храм надежды, новозаветный - храм благодати.
Мистическое значение храмового богослужения заключается в
том, что молитва каждого вменяется всем и молитва всех присутствующих
возносится за каждого.
Храмовая молитва становится единой и цельной, как
неразделим свет от множества горящих свечей, как неотделимы друг от друга капли
дождя в общем потоке.
Чем выше духовная культура человека, чем глубже его
внутренний религиозный опыт, тем более он дорожит традицией - как
сокровищницей, из которой боится потерять хотя бы один драгоценный камень.
Некоторые говорят: «Если храм - это образ неба, то ведь наше представление о
космосе меняется, значит, и формы храма должны изменяться и эволюционировать».
Но, во-первых, храм - образ духовного неба, знания о котором на протяжении
истории человечества скорее не приобретаются, а теряются; во-вторых, храм - не
модель и не зеркальное отражение вселенной, а сложная символика.
Храм - это живая Библия. Храм дает человеку возможность
самому участвовать в событиях священной истории в качестве действующего лица. В
храмовом богослужении человек через священные символы и ритуалы присутствует
при творении мира, молится в скинии, сопровождает Господа во время Его земной
жизни, находится на Тайной вечере с апостолами, причащается из рук Спасителя,
слышит весть мироносиц о Воскресении Христа из мертвых, видит картины Страшного
суда. Как белый цвет является не отсутствием цветов, а синтезом красок всего
спектра радуги, так и безмолвие храма содержит в себе молитвы и священные
песнопения небесной и земной Церкви. Храм - это образ потерянного Эдема и
возвращенного рая.
Символика храма учит человека смотреть на видимый мир как
на образы и символы, тени и подобия мира духовного, чувствовать бесконечное в
конечном, видеть, как просветы в тумане, отражение вечного во временном.
2.2.5. Архимандрит Рафаил (Карелин). Символ и христианская символика
(Церковь и мир на пороге Апокалипсиса. М., 1999, с. 159-181.)
Православная антропология учит о двух видах слова:
внутреннем и внешнем логосе. Внутренний логос можно условно сравнить с
непосредственным видением вещей, интуитивным познанием, созерцанием; это -
духовная сторона логоса. В душевном плане поле действия внутреннего логоса -
это тайники сердца, где хранится в закодированном и зашифрованном виде вся
информация, которая генетически свойственна человеку. Эта информация настолько
велика, что античные философы склонны были отождествлять познание с припоминанием
(информация, которую получает человек во время своего земного бытия, не только
от рождения, но и от самого момента зачатия). Свойства логоса - это способность
мгновенно обработать огромную информацию, превосходящую объем информации,
содержащейся во всех библиотеках мира. К внутреннему логосу относится также
ощущение истины как чувства достоверности. Этот внутренний логос присущ людям
всех времен и всех народов и составляет одно из существенных (субстанциальных)
свойств человека как образа и подобия Божия. Внутренний логос охватывает
области духа и души в их динамическом взаимодействии.
На поверхности, как бы на оболочке внутреннего логоса,
рождается внешнее (профористическое) слово, или комбинация представлений.
Внешнее слово локализуется на плоскости рефлексий. Если внутренний логос имеет
пневматопсихический (духовно-душевный) характер, то внешнее слово -
психосоматический (душевно-телесный). Действенность внутреннего логоса
стабильна, несмотря на то, что ее обнаруживание, то есть связь с рефлексией,
зависит от многих факторов психофизического состояния человека. Внешнее слово
нестабильно; оно зависит от настроения (непосредственные переживания, страсти,
целевые ориентиры). Профористическое слово относится к внутреннему слову как
подобие, однако воля и страсти человека колеблют внешнее слово, отрывают от
внутреннего; тогда происходит ложь мыслей. Бывает состояние, когда внутреннее
слово подавляется внешним. Внешнее слово, как язык, исторически беспрерывно
меняется, внутреннее - постоянно. Внешнее слово воспринимается как средство
общения фонетически и графически (речь и книга). В некоторых случаях оно может
восприниматься и визуально, и это имеет существенное значение. Внешнее слово
является знаком, а язык - условной системой. Если внешнее слово совпадает с
внутренним, то оно является средством его выявления, обнаружения, как бы
материализации; если же оно не выявляет внутреннего, то превращается в оболочку
пустоты, в средство дезинформации как для самого человека, так и для тех, кто
находится в общении с ним. По отношению к языку внешнее слово - это
строительный материал. Внутреннее слово - душа языка.
Священное Писание - откровение Божие, обращенное к людям
на человеческих языках. Главным средством выражения и познания является символ,
вокруг которого группируются остальные изобразительные средства речи. Священное
Писание многопланово, оно дает уникальный пример гармонии между внутренним и
внешним словом, реальные события служат символом духовных сущностей или
процессов; поэтому в словах Священного Писания история дана как тайнопись духа.
Символом широко пользовались древние поэты и философы, но
никто из них не дал определения символа, возможно потому, что они считали, что
символ - не только средство выражения, а тайна бытия. Символ отличается от аллегории
и эмблемы, во-первых, тем, что не сочиняется и не составляется, а находится во
взаимодействующей с человеком среде, включая историческую, культурную,
общественную и материальную среду, и выявляется обобщенным сознанием
человечества, особенно в творческом гносисе. Аллегория - искусственное
построение образа, основанное на внешнем сходстве. Символ многозначен и
многогранен, аллегория обычно однозначна. Аллегория сочиняется, а эмблема
составляется, притом они могут меняться. Число эмблем и аллегорий может
увеличиваться и убывать, а число символов ограничено. Символ имеет постоянный и
устойчивый характер.
Какова основа символа? Земной мир и духовный мир имеют
одного Творца. Цель земного мира (космоса) - преображение, одухотворение и
единство с духовной сферой. Земной мир действием Духа Святаго через человека
как образ и подобие Божия - связующее звено - должен войти в плерому духа и эон
вечности. В идее это уже осуществилось, когда Сын и Слово Божие принял
человеческую плоть. В эсхатологическом плане это завершится, когда, по словам
апостола Петра, мир сгорит, но не уничтожится, и будет новое небо и новая земля
(2 Пет. 3. 10-13). Поэтому богословы видят сходство между духовным и
материальным, но сходство особой формы: материальный мир, сотворенный Божественной
премудростию, является иерархической системой символов, в которых зашифрована
информация о вечном и бесконечном, о предназначении мира и его Творце. Это
сходство и различие между идеальным и реальным, духом и материей, является
основой того вида гносиса, который мы назвали бы священной символикой.
После грехопадения человека произошла деформация
макромира и микромира во всех их плоскостях. Деформирован космос, в него вошли
распад и тление. Деформирован человек и способности его к богообщению и
богопознанию, поэтому символы выявляются из общей картины мира как уцелевшие
части поврежденного здания. Символ может открыться в слове в Священном Писании
и в обряде (ритуале). «Символ» в точном переводе этого слова означает
связь, связывающее начало. Он имеет в себе не только закодированную информацию,
но и то, что гораздо важнее, - свойство коммуникации. Через системы символов
человек включается в бытие духовного мира, соприкасается с ним глубинами своего
духа, недосягаемыми для рефлексий. Поэтому расшифровка и объяснение обрядов
имеют второстепенное значение: и богослов, и неграмотная женщина могут
одинаково включаться в литургическую жизнь и переживать мистику богообщения.
Символ может быть полностью понят только в вечности, когда будет раскрыт
целевой план космоса, его динамических структур, энергетических сущностей и
эйдосов (образов-идей), то есть он может быть понят только взором, брошенным из
будущего в прошлое, а в земном бытии можно фиксировать символ, но не разрешить
его иерографическую задачу. Здесь нам важна связующая коммуникативная
способность символов, то есть включение человека в символ
и обряд через веру и волю, чтобы посредством символа соприкоснуться с бездной
духа, с бездной божественного бытия. Храм - это символ неба, физическое место,
где вмещается бесконечное, - полнота бытия, не ограниченная ничем, как
человеческое тело Христа Спасителя, ограниченное в пространстве, вмещает
полноту Его бесконечного и трансцендентного Божества. Здесь во времени через
литургические символы открывается вечность, так как вечность - это прежде всего
особое состояние, откровение Духа Святаго человеческой душе. Церковные символы
- это не припоминание прошлых событий и не воображение будущего, а каналы и
мосты, переброшенные между двумя сферами бытия - земного, пространственно-временного
и духовно-вечного.
По нашему мнению, здесь проходит раздел между
Православной Церковью и сектами. Для сектантов символ - это только
изобразительное средство; это носитель информации, то есть условный знак,
посторонний для человеческого духа. Поэтому сектанты стремятся утилизовать
символ, заменить его словом - рассудочной информацией. Стержнем сектантских
собраний служит проповедь. В плане эмоционального воздействия это выражается в
замене мистики светской музыкой и пением. Сам обряд и ритуал в сектантских
собраниях превращен в знак припоминания тех или иных библейских событий, а
иногда в их имитации. Поэтому такие обряды у сектантов, как «преломление хлеба»
являются простым воспоминанием. В связи с различным отношением к символу у сектантов
возникает иная система духовных ценностей, иное представление, чем у
православных, о возможностях человека к богообщению, и на первом месте ставится
информация. Их религиозная деятельность бурно протекает на уровне
миссионерства, но застывает там, где начинается область мистики и аскетизма.
Сектанты сами чувствуют потерю мистической глубины и пытаются заменить ее в
одних сектах категорической уверенностью в своем спасении, в других -
искусственной экзальтацией.
Нам кажется, что различное отношение к символике можно
наблюдать в католичестве и протестантизме - как по отношению к Православию, так
и друг к другу. Возможно, что корни этого скрываются в антропологических
концепциях. Католицизм уменьшает значение и следствия первородного греха для
человека. Католические теологи, особенно из ордена иезуитов, утверждают, что
первородный грех лишил человека только благодати и сверхъестественной помощи,
но оставил целостными естественные силы человека. Католицизму чужд аскетизм
древних подвижников, учение о борьбе со страстями и о непрестанной молитве,
являющееся непременным условием православной сотериологии1. Поэтому
в католицизме наблюдается перемещение от символического к картинному
изображению, замена иконы как символического изображения портретным рисунком и
изваянием, там как будто хотят заменить символ зеркальным отображением
духовного мира, что, по нашему мнению, ведет к приземлению духа. В литургике
это проявляется в театрализации и внешней эффектности богослужения.
Протестантизм впадает в другую крайность: он учит о
первородном грехе не как о болезни и порче мира и человека, а как о низвержении
их в состояние некоего хаоса. По их мнению, грех разрушил связь между духом и
материей, поэтому они не признают коммуникативное значение символа, а
рассматривают его как условный знак. Эта расщепленность между образом и словом
привела к крайнему упрощению обряда. Человек из соучастника своего спасения
превращается в предмет спасения, от которого требуется только уверенность в
том, что он спасен. Для поддержания этой уверенности в рационалистических
сектах употребляется проповедь, перемежающаяся совместным пением (ритмическим
словом), а для сект, называющих себя мистическими, - искусственные приемы,
приводящие в состояние нервного возбуждения (магические мистерии, танцы и т.д.).
Для протестантов Церковь - это форма солидарности, а религия заключается в
личных субъективных переживаниях. В противоположность католицизму символ в
протестантизме заменен условным знаком, поэтому здесь наблюдается тяготение к
абстрактному искусству.
Так как большинство сект ссылается на Священное Писание
как на единственный авторитет, то следует разобрать вопросы о значении символа
в самом Священном Писании, о символике в обрядах ветхозаветной Церкви, которые
достаточно полно представлены в Библии, особенно в Пятикнижии Моисея. Без
разрешения проблемы символа беседы с сектантами будут похожи на беседу людей, говорящих на разных языках. Сектанты, допуская ошибку в понятии
символа, затем логически продолжают ее, отрицая Церковь, священство, иконы и
ритуалы.
В проблематике символа некоторых вводит в заблуждение
термин «символизм» как название литературного течения конца XIX - начала XX столетия. Однако поэтический «символизм» ничего общего не имеет со
священной символикой. Там вместо символа тонкие ассоциации и неясные туманные
образы, как бы знаки, всплывшие на поверхность нашего подсознания. Символ же
объективен, поэтому он отвечает идее Церкви как общности и единства. Образы
символистов субъективны, они ведут к крайнему индивидуализму. Характерно, что
многие выдающиеся символисты, такие как Бодлер, Метерлинк, Блок и Андрей Белый,
принадлежали к оккультным сектам. Богопознание - это процесс, в котором должны
участвовать все силы человеческого духа, весь целостный человек как личность, а
не только его чувство или рассудок. Церковное богослужение - это система
символов, в которую включается человек как цельная личность, поэтому он
является реальным участником тех событий Священной истории, которые содержатся
в обрядах и ритуалах Церкви.
Отвергая символы, протестантизм оказывается на краю
пропасти, разделяющей духовное и материальное. Этот вакуум, эту открывающуюся
пустоту он хочет заполнить уверенностью, что цель уже достигнута посредством
внутреннего состояния, которое он отождествляет с действием благодати. Эти
переживания носят субъективный, индивидуальный характер; они не подлежат
коррекции через мистический опыт Церкви, который в протестантизме отсутствует,
не интегрируются в литургике, так как обряды упрощены, объединены и сведены к
минимуму. Духовный путь протестанты заменили медитацией: Христос пришел, и
поэтому они уже спасены. В противоположность, как реакция на это, появились
секты мормонов, иеговистов, которые абсолютизировали земные реалии и смотрят на
вечность как на бесконечное продолжение земного существования. Католицизм в
своем стремлении утилизовать и инструментализовать символ заменяет его в
живописи миметическими изображениями, а в ритуале - сценическими имитациями
событий. На полотнах позднекатолических художников увековечены человеческие
страсти и завуалирован грех. Это чувствовали сами католические живописцы, и
потому одни старались найти выход к потерянной духовности в античном культе
красоты, другие - в патологических душевных состояниях (так, например,
знаменитый Эль Греко искал натурщиков для своих картин в психиатрических
лечебницах).
Важным предметом разногласия между Православной Церковью
и баптистами является вопрос об иконах. Баптисты отвергают возможность
изображения духовного мира в физическом плане и поэтому не признают почитание
икон. Они смешивают понятие иконы с понятием идола, с изображением
несуществующих божеств, то есть религиозной фантазии и фикции. Для православных
икона - органическая принадлежность храма, выявление духовного и невидимого в
материальном плане - не как его зеркальное изображение или проекция, а
посредством особого знакового языка. Икона является символом и подобием, но
особого рода, где смысловую нагрузку символа несет образ, где сходство
становится знаком, а знак приобретает визуальное сходство, где конкретное
изображение святого становится символом его духовного бытия, знаком его
присутствия. В иконе сочетаются два принципа: катафатичность (сходство) и
апофатичность (несходство). Сходство необходимо для узнавания святого, для
выявления его как неповторимой личности; условность и несходство служат
выражением другой формы и бытия его существования. Икона одновременно обращена
к земле и от земли. Мы смотрим на нее от земли взором, привыкшим видеть только
земные реалии. Святой как бы смотрит через икону на землю, поэтому в иконе нет
земной перспективы, она асимметрична и условна, в ней преломляются иные линии
зрения. Как иероглиф занимает промежуточное место между буквой и рисунком, так
и икона сочетает в себе свойство символа и картины. Икона многопланова; иногда
это достигается отсутствием перспективы, то есть иллюзорного восприятия
пространства, иногда в иконе очерчено несколько взаимопроникающих сфер.
Одноплановость и присутствие зрительной перспективы являются нарушением
принципа иконописи и открывают широкое поле для религиозной профанации.
Итак, икона - это не живопись духовного мира и не
отвлеченный знак, а обобщенный в художественную идиому мистический опыт всей
Восточной Церкви.
Икона имеет несколько аспектов: информативный,
психологический, мистический, сотериологический, эсхатологический. В
информационном плане икона - книга, написанная краской зрительных образов.
Духовный мир в своей сущности невыразим. Но не следует забывать, что и
материальный мир так же невыразим в своих сущностях, а фиксируется через
действие и свойства. Человек воспринимает не сущность материального предмета, а
его динамико-энергетическое проявление, и затем трансформирует его в образы
предметов (например, лучевые волны в цвета и звуки и т.д.). Духовный мир также
невыразим словом, однако у нас есть Священное Писание как откровение самого
духовного мира на уровне человеческого языка, в системах звуков и графики. Если
утверждать, что невозможно дать некоторые духовные понятия о мире, поднять к
нему мысль, отразить его хотя бы в теневом отражении изобразительным средством
языка, то это будет значить, что Библия - не откровение Божественных истин, а
ничто. Библия и икона - путь к богообщению. Икона и храмовая живопись - это
аналог Библии в визуальном плане.
Рассмотрим и психологический аспект. Мы мыслим и
воспринимаем через сложную систему ассоциаций. В нее включена наша
эмоциональная сфера. Вещь, принадлежащая близкому нам лицу, дорога нам как
воспоминание о нем. Портрет родного или любимого лица пробуждает чувство его
присутствия, поэтому с психологической точки зрения икона способствует
сосредоточенности в молитве и актуализации нашего религиозного чувства. Даже в
этом, по сути дела, рационалистическом плане значение иконы не может быть
отвергнуто. Икона имеет мистический и сотериологический характер. Она соединена
с лицом, изображенным на ней. Благодать, то есть ипостась святого, проявляется
в его образе через особое духовно-энергетическое поле. В этом смысле икона
является источником сил, исцелений и сверхъестественных явлений, которые
зафиксированы в истории Церкви и в наименовании некоторых икон чудотворными.
Икона имеет эсхатологический смысл: это будущее преображение человека Духом
Святым. Икона - это идея будущего одухотворения космоса, когда окончится
противоборство духа и материи. Высшим символом и иконой преображенного космоса
является храм. Символ - это связь и средство взаимодействия между модусами
бытия, между материальным и духовным, временным и вечным, сотворенным и
несотворенным, ограниченным и абсолютным. Первые страницы Библии - сама
величественная картина творения - дают нам некоторые указания на свойства
символов:
1) творение происходило постепенно и поэтапно, от низшего
к высшему:
а) символ динамичен, сходство между символом и
символизируемым имеет не только структурный, но и динамический характер;
б) символ иерархичен. Символы составляют систему
ценностей и ступени гностического постижения;
в) символ перспективен: событие из прошлого может
раскрываться в настоящем и символизировать будущее;
2) творение имеет цель - возведение мира к Богу. Символ
обладает целевой идеей, поэтому включение человека в ритуальную символику
служит началом его одухотворения и преображения;
3) Земле даны силы для воспроизведения жизни. Она
является субстратом жизни.
Символ имеет свою энергетическую сущность, подобно
энергетической сущности символизируемого. Поэтому, включаясь в символ, в нем и
через него душа энергетически общается с символизируемым. Творение человека -
это творение через единого (Адама) множественности в силу единства человечества.
Символ имеет обобщенное и обобщающее свойство. Он понятен во все времена и всем
народам, хотя и раскрывается на разных уровнях. Здесь корни сходства символов
языческого и христианского миров, сходства, имеющего космический и
универсальный характер. Это сходство, относящееся к общности человеческого
рода, его познаний и исканий, нередко профанируется сектантами и атеистами как
проникновение язычества в христианство. Те, кто хочет видеть в сходстве
символического языка рецидив язычества в Церкви, должны помнить, что
христианство не могло придумать новой символики, как, скажем, придуман
искусственный язык эсперанто2; это была бы не символика, а
непонятная, чуждая людям обрядовая тайнопись. Христианство взяло
общечеловеческую символику и раскрыло ее глубокий смысл. И в ветхозаветной
Церкви, и в языческом мире зажигались светильники в храмах, приносились жертвы,
воссылались молитвы, но целевые идеи и понятия о символизируемом были у
язычников искажены.
Что же касается символического языка новозаветной Церкви
по отношению к ветхозаветной, то символы были углублены, возведены на высшую
иерархическую ступень, однако между ними сохраняется генетическая связь.
Символами могут являться исторические события, так как история человечества
носит провиденциальный характер. Самые характерные события, как бы нервные узлы
истории, - это символ будущих судеб человечества и мира.
Шесть дней творения и седьмой день покоя являются
историческим ядром мироздания, которое затем через деятельность человека
переходит в миросозидание и должно окончить вселенским преображением,
воплощением и раскрытием всех символов и подобий в новом небе и на новой земле.
Мы отметили, что высшее место в системе символов занимает
храм. Значение храма многогранно. Это место присутствия Божества, поэтому имя
храма - Святыня. Это пространство, где воплощено единство двух литургисающих
Церквей - небесной и земной, где события Священной истории, уже произошедшие на
земле и предсказанные в Откровении, имеют форму актуального, настоящего.
Поэтому в циклах и ритмах богослужения открывается вечность, а в пространстве
храма вмещается бесконечность. Храм - это символ, единый и многогранный, и в
то же время целый мир символов. Храм - это образ преображенного космоса, это
символ небесной Церкви, это история Ветхого и Нового Заветов, радиусы которых
сходятся в одном центре, в лице Христа Спасителя. Апостол и тайновидец Иоанн
Богослов свидетельствует, что в небесном Иерусалиме храма не будет: сам Бог в
будущем веке станет храмом для спасенных; поэтому храм служит символом Самого
Божества и Божественного Света, который делает Церковью душу человека и
вселенную, освобожденную от власти смерти, тления и греха. Нам могут возразить,
- а нужна ли сложная символика, не лучше ли в простоте молиться Богу. Но ведь
беда в том, что в нас на самом деле нет простоты, которая чистым зрением
созерцает духовный мир. Грех ввел сложность и распад в душевно-телесный
организм человека, овеществил тело, разделил во внутренних противоречиях силы
души, противопоставил душу духу. Человек - запутанный клубок противоречий,
оземлен, подавлен грехом, опален вспышками страстей. О простоте может говорить
только человек, потерявший самопознание. Мы не можем видеть духовный мир, как
наши глаза не могут видеть солнца; однако через земные символы и иносказания,
как через затемненное стекло, мы смотрим в страну вечного света. Апостол Павел
говорит: Мы видим как бы сквозь тусклое стекло <...> тогда же лицем
к лицу (1 Кор. 13. 12).
Те, кто отрицает символику или же впадает в крайний
спиритуализм, забывая о своей телесности и греховности, - живут в мире
мечтательных представлений о себе как об уже спасенных, в замкнутом кругу, в
призраках, вызванных из небытия, или же, в другом случае, материализуют
духовный мир, считают его продолжением земной жизни без преображения и
качественного изменения (это последователи Сведенборга, мормоны, иеговисты и
хилиасты различных толков). В первом случае убеждение, что спасение совершено,
делает символ как путь к спасению ненужным. Во втором случае, если земная
реальность единственна, то понятие символа как связи вообще исчезает. Апостол
Павел говорит, что мы через видимый мир познаем невидимое Божество (ср. Рим. 1.
20). Но религиозное познание его - не философское суждение и не абстракция, а
познание через общение и контакт. Символ –связь видимого с невидимым,
материального с духовным. Отрицая символику, сектанты забывают о том, что такой
универсальный факт религиозной жизни, как молитва, совершается посредством
слова, являющегося, с одной стороны, материальным субстратом речи (графика и
фонетика слова), с другой стороны, условным знаком. И здесь в молитве
совершается связь между чувственным и сверхчувственным, связь души через
материально-знаковую систему профористического слова с миром духовных
сущностей.
Отвергая почитание икон, сектанты отвергают также
почитание Креста, в отличие от византийских еретиков-иконоборцев VIII - IX веков, которые допускали в храмах изображения Креста, но без Распятия. К
своей обычной критике иконогючитания сектанты прибавляют еще особые возражения
против почитания Креста и употребления крестного знамения. По мысли сектантов,
Крест - это орудие пыток и смерти Спасителя мира, орудие, через которое
совершилось самое великое злодеяние и несправедливость, оно стало как бы
сосредоточением и воплощением земного и космического зол. Сектант недоумевает,
как можно почитать ложе пыток и плаху казни любимого человека, тем более Бога,
принявшего плоть. Для ветхозаветного сознания крест был знаком отвержения и
проклятия, он внушал чувство ужаса и отвращения. Апостол Павел писал о том, что
Распятие, Крест иудеям - соблазн, эллинам (язычникам) - безумие, а нам - сила
Божия (1 Кор.1. 23). Юридическое мышление, в основе которого лежал принцип
мирской справедливости и причинно-следственной связи между действием, результатом
и целью, в рамках которого рассматривалось само божественное правосудие,
промысл Божий о мире и провиденциальный ход истории, не могло понять, как из
преступления, совершенного людьми по отношению к Мессии, может последовать
спасение человечества. Этот кажущийся парадокс противоречил всем правовым и
нравственным понятиям зарождающегося раввинизма, который хотел составить точный
регламент действия не только для человека, но для Самого Божества. Иудейские
книжники быстро поняли, что Иисус из Назарета обращается с вестью о спасении не
только к Израилю, но ко всему миру, и это уравнение Израиля с языческим миром в
возможности стать наследниками Царства Божия, Обетованной земли, воспринялось
интеллектуальной элитой Израиля как вопиющая несправедливость. И само Евангелие
прозвучало для них как ложная весть, как провокация против избранного народа.
Крест, крестная смерть Спасителя были для них очевидным свидетельством того,
что Бог отверг Иисуса из Назарета. Крики толпы: «Если Ты Сын Божий, сойди со
креста, и мы поверим Тебе», говорили о том, что юридическое сознание раввинизма
не могло вместить антиномических понятий Царства Божия и Креста, Мессии и
Осужденного на распятие, спасения и смерти. Для иудаизма сущность Креста -
проклятие и отвержение. Для языческого мира главные атрибуты божеств - это
могущество и воля к победе; там боги вступают в борьбу с чудовищным порождением
хаоса, друг с другом, а иногда с людьми; боги Гомера похожи на сражающихся
гладиаторов. Бог, добровольно умирающий на кресте смертью раба, для
язычника-эллина - безумие. Во времена гонений языческие судьи часто спрашивали
христиан: как Умерший на кресте может спасти тебя? То есть как может помочь
тебе Тот, Кто умер позорной смертью и не мог спасти Себя Самого. Если иудей
относился к Кресту с содроганием и ужасом, то язычник - с гордым презрением.
Языческий и иудейский мир, один в силу своей космофилии, другой - по гордыне
духа, не могли постигнуть тайну Креста.
Священное изображение - это отражение идеи в определенном
структурно-визуальном образе. Икона отличается от картины тем, что не фиксирует
конкретного события в его исторической привязанности к месту и времени, не
воплощает непосредственных эмоций участников событий, а передает сущность,
смысл, идею события, как бы изымая его из власти пространства и времени.
Поэтому почитание Креста для христианина - это мистическое восприятие идеи
Креста.
Крест для христианина имеет несколько значений. Крест -
это иконографическое изображение события, которое произошло на Голгофе: это
центр мировой истории; Крест в космическом аспекте - это план мироздания
(всякое строение имеет своей опорой крест) и путь к мировосстановлению. Крест в
Ветхом Завете - знак отвержения и гибели, состояние человечества, отверженного
Богом. В христианском плане Крест - вся земная жизнь Спасителя от Вифлеема до
Голгофы. В сотери-ологическом плане это универсальная жертва, принесенная за
все человечество; в ангелологическом - победа над сатаной, разрушение его
власти на земле и в преисподней, новое отношение человечества к миру светлых
духов. Крест - наиболее полное откровение любви Творца к Его созданию, которая
до распятия была неведома даже ангелам. В нравственном аспекте Крест - это путь
души за Христом; это новая заповедь о жертвенной любви. Без Креста были бы
непонятны слова Спасителя: «Любите друг друга так, как Я возлюбил вас». В
аскетическом плане Крест - образ самоотречения, в эсхатологическом плане -
любовь Логоса к Церкви и обручение Христа с человеческой душой через Крест. В
мистическом плане - это тайна любви, проявляемая через страдания; в
символическом - это образ спасения мира, совершенного Христом.
Четыре конца Креста - знак четырех стран света и четырех
времен года, жертва, охватывающая пределы пространства и времени. Верхняя линия
Креста - путь к Богу, единство земной и небесной Церкви, линия вниз - поражение
демонических сил, будущее разделение зла и добра, надежда на спасение тех, кто
находится в аде до Страшного суда. Горизонтальная линия Креста - Божественная
любовь, которая объемлет вселенную, проповедь о спасении, обращенная ко всем
народам. Для христианина Крест - символ не смерти, а жизни. Любовь - это
полнота жизни, а жертвенность - высшее проявление любви, поэтому распятие
Христос назвал Своей славой. Крест - это не поражение, а добровольный акт Божественной
любви (Господь сказал Петру, что легионы ангелов могли бы защитить Его). Крест
- это иконографическое изображение всего Священного Писания, так как Сам
Господь сказал, что в двух заповедях любви к Богу и ближнему содержится весь
закон и пророки, а Крест - это солнце любви, озаряющее мир. Крест - это символ
покорности воле Божией. Только Христос мог стать жертвой за грехи мира. Если в
лице Адама пало все человечество, потенциально существовавшее в нем как в своем
начале и истоке, то Сын Божий, в предвечной идее Которого существовал Адам и
все человечество, мог принести в Своем лице жертву за весь мир. Сущность жертвы
- добровольная замена виновного невиновным, поэтому Крест - это соединение
Божественной правды и Божественной любви.
Во святая святых ветхозаветной Церкви хранился прообраз
Креста - меч Голиафа, которым Давид-псалмопевец поразил филистимлянского
исполина и спас Израиль. Христианская Церковь хранит и почитает Крест, орудие
смерти, которым побеждены смерть и диавол и которое стало знаком и знамением
нашего спасения.
Сектантов смущает ритуальное поклонение и целование
Креста. Здесь мы опять встречаемся с вопросом о значении обряда как знакового
языка и средства общения. Поклонение включает в себя чувство благоговения и
признание величия того, чему поклоняется человек. Святитель Василий Великий
писал: «Почитающий добродетель становится причастником добродетели». Поклонение
содержит в себе также чувство своей греховности, недостоинства и внутреннего
покаяния (святой Иоанн Златоуст пишет, что человек становится достойным
богообщения через признание своего недостоинства). Поцелуй - это знак любви и
верности.
Сектанты спрашивают: нужны ли обряды? Не достаточно ли
одного визуального созерцания Креста, чтобы вспомнить, что произошло на
Голгофе? Обряд - это выраженное движение души, это язык, менее
дифференцированный и конкретный, чем слово, но более органический и глубокий. В
слове человека преимущественно содержится его мысль, а в движении - его
чувства, непосредственное выражение духовного состояния. По еле заметным
движениям глаз и губ мы уже можем догадываться о переживаниях человека.
Существует обратная связь от внешнего движения к
внутреннему душевному состоянию человека, давно замеченная психологами. Не
только чувство проявляется в движении и жесте, но само движение может
индуцировать соответствующее чувство. Язык динамики и жеста принял в миру
определенную поведенческую форму, им мы постоянно пользуемся в повседневной
жизни. Например, рукопожатие и поклон как приветствие, привычка вставать
навстречу гостю и так далее. Эти ритуалы настолько проникли в нашу жизнь, что
мы перестали воспринимать их как условные знаки. Система взаимоотношений через
бытовую обрядность является органической частью этикета; нарушения обычно
воспринимаются как разрушение форм общения и общежития и могут привести к
разрыву в отношениях между людьми. В зависимости от человека эти ритуалы могут
быть бездушны (впрочем, как и слова), но если в них заключено внутреннее
содержание и соответствующая эмоциональная информация, то они придают общению
людей задушевный характер и как бы образуют гармонию между ними. Поклон - знак
уважения и благоговения. Поклонение Кресту помогает человеку глубже переживать
это чувство. Обряд переводит мысль (понятие) в сферу эмоционального восприятия.
В обряде полнее, чем в слове, участвуют человеческая личность и лежащая глубже
слова область подсознания. В мистическом плане обряд - это такой же диалог, как
и молитва. Это возвращение души от мира к себе и обращенность ее к Богу - выход
(восхождение) души из себя, из своей тварной ограниченности к свободе
Божественного бытия и ответ Божества человеческой душе. Поклонение Кресту -
связь, то есть соучастие в тайне Креста, мистическое начертание в душе своей
образа Креста как имени христианина, как «вечной печати» Христа.
1 Так называемые духовные упражнения, разработанные
в различных католических орденах, как правило, не имеют целью очищение души от
эмоций, чувственных образов и т.п., поэтому молитвенная аскеза в католицизме
прямо противоположна православной и, строго говоря, с православной точки зрения
аскезой считаться не может. II
Ватиканский собор настолько «смягчил» правила поста, что пост для мирян
оказался практически отменен. Аскетический «подвиг» новопостриженных монахов в
иных случаях сводится к трехдневному воздержанию от прогулок, газет и
телевизора. Отменяется и правило затвора для женских орденов, так что инокинь
подчас принуждают выходить на улицу в светской одежде, что бывает попросту
мучительно для большинства из них.
2 Эсперанто - язык, сложенный из элементов
ряда естественных языков, и эти элементы сочетаются по правилам, также
предусмотренным реальными языковыми системами, поэтому искусственность его не
абсолютна. Очевидно, человек не в состоянии выдумать язык, в котором не было бы
ничего от естественных языков, то есть от способа общения, заложенного в
человеке при сотворении.
2.2.6.
Архимандрит Рафаил (Карелин).
Путь христианина - проповеди.
О беседе с
самарянкой
(М., 1999, с. 179-181.)
Самарянка говорила, как бы спрашивала у Господа: Отцы наши поклонялись на
этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится
в Иерусалиме
(Ин.4.20). В Иерусалиме был единственный ветхозаветный храм истинному
Богу. Другого храма не было. Иудеи и так называемые прозелиты, то есть
иноплеменники, принявшие ветхозаветную религию, старались посетить
Иерусалимский храм, чтобы принести там жертву и вознести молитвы. Самаряне,
утратившие чистоту веры и потому не допущенные иудеями к участию в возведении
нового Иерусалимского храма, построили себе храм на горе Гаризим. В Библии
упоминается об этой горе. С Гаризима пророк и Боговидец Моисей завещал
произносить благословение (Втор. 27. 11-13). С другой горы - Гевала - проклятие
на отступников от божественного закона. Иудейский полководец Иоанн Гиркан разрушил
самарянский храм, но самаряне все равно поднимались к вершине Гаризима и
молились у его развалин. А Господь говорит: сердце человека - это
нерукотворенный храм, высшая молитва - молитва в духе и истине.
Некоторые недоумевают: если сердце наше - храм Божий, то
нужно ли посещать храмы и для чего тогда церковь? В церкви таинственно
присутствует Сам Господь. В церкви мистически, в священных образах и символах,
проходят все события Священного Писания. На праздники в церкви мы переживаем те
великие события, которые возродили и спасли человечество. Мы, будучи в храме,
сами в это время духом участвуем в них.
В Книге Левит содержится подробное описание храма,
которое Господь дал Моисею, всех его принадлежностей. Поэтому храм является не
произведением человеческого ума или человеческого гения, а - Откровением
Божиим; ибо сам по себе храм - это великая и таинственная икона неба,
сокровенная книга о будущей вечной жизни. Храм - это голос Божий, воплощенный
не в словах, а в камнях.
2.2.7. Архимандрит Софроний (Сахаров). Письма в Россию
(Эссекс-Москва, 1997, с. 90-91.)
Архимандрит Софроний (Сахаров) (1896-1993) -
автор широко известной книги «Старец Силуан» и ряда других богословских трудов.
Последние годы жизни провел в Англии, где организовал небольшой монастырь с
домовым храмом.
В каждом храме художественно
возможно выразить только часть некую, некий единственный (вернее, одиночный)
частный случай. Невозможно по-человечески вместить в один и тот же объем все
комбинации форм и цветов. Попытки старых наших мастеров-богословов собрать
«богословскую сумму», выраженную в красках, фресках, привели к невероятному
совершенству, к ничем затем не превзойденной красоте. Дело в том еще, что
красота храмового искусства глубоко отлична по самой сущности своей от красоты
плотской. То, что влечет плотских людей в обычном мирском искусстве, будь то
оперная музыка или живопись, никак не соответствует духу храма, то есть
Божественого тайнодействия. ...Я хотел бы продолжать работу над храмом. Нас
всех преследует неудержимое желание совершенства, полноты, выхода за пределы
тления. Но как все мы также знаем, за всю историю искусства лишь очень немногие
достигли того, чтобы не потерять силы выражения, доведя произведение до некоего
технического «конца».
...Я возжелал найти в моем сознании и реализовать такой
храм, такую «обстановку» для литургии, которая хотя бы в малой мере выразила
духовную сущность сего Божественного акта... Видел немало количество
кафедральных соборов, маленьких церквей, но редко получал удовлетворение для
себя в плане служения Богу литургии. Западная готика никак не соответствует
моей идее о вечности божественной. Во многом она совершенно противоположна
моему восприятию. Некоторые малые храмики ближе моей душе. ...Западная
литургическая музыка также вовсе не совпадает с моей идеей о молитве Итак,
прихожу к мысли, что, может быть, самое неосуществление моих стремлений создать
достойный нашего Бога храм в каком-то смысле естественно и нормально, подобно
«Неведомому шедевру» Бальзака.
...Службы наши проходят в храме всегда при закрытом окне,
то есть почти в полной темноте, когда мы служим наши вечерни. Только две
лампадки, и перед ними стоят маленькие оградительные экраны, чтобы свет не
резал глаза... При служении литургии, конечно, света мы открываем больше:
электрическое освещение, но и оно рассчитано так, как необходимо для того,
чтобы возможно было читать и петь.
2.2.8.
Протопресвитер А. Шмеман. Евхаристия. Таинство Церкви
(Имка Пресс, 1984, с. 22-26; 46-48; 55-58.)
Протопресвитер
Александр Шмеман (1921 - 1983) - доктор богословия, с 1951 года - декан
Свято-Владимирской семинарии в США, специалист по литургическому богословию.
Идею собрания и сослужения выражает собою место и
помещение, в которых совершается Евхаристия - т.е. храм. Учебники литургики
много и подробно говорят о храме, об его устройстве, о «символическом» значении
тех или иных его подробностей, но в этих описаниях и определениях почти начисто
отсутствует упоминание самоочевидной связи христианского храма с идеей
собрания, с соборным характером Евхаристии. ...Первоначальный христианский храм
- это, прежде всего, место собрания Церкви и евхаристического преломления
Хлеба. В этой подчиненности идее собрания одновременно и новизна христианского
храма, и принцип его развития. Как вначале, в первохристианскую эпоху, так и
сейчас, в своих лучших византийских или русских воплощениях, храм переживается
и ощущается как собор, как собрание воедино во Христе неба и земли и всей
твари, в чем и состоит сущность и назначение Церкви... Форма храма, т.е. храм
как «организация» пространства, выражает по существу ту же соотносительность,
ту же «диалогическую структуру», которые определяют собою чин евхаристического
собрания. Тут эта соотносительность престола и алтаря, с одной стороны,
«корабля» церкви, т.е. места собрания, с другой. Корабль направлен к престолу,
в нем имеет свою цель и завершение. Но и «престол» сопряжен с кораблем,
существует по отношению к нему. Правда, в теперешнем литургическом благочестии
алтарь ощущается как некоторое самодовлеющее святилище, доступное одним лишь
«посвященным», как сугубо «священное» пространство. Но такое ощущение алтаря
новое и ложное. Оно, конечно, во многом зависит от соответствующего ему
понимания иконостаса, как, прежде всего, стены, отделяющей святилище (алтарь)
от мирян и полагающий непроходимую между ними преграду. Между тем, возник
иконостас из буквально противоположных причин: не как отделение, а как
соединение. Ибо икона есть свидетельство или, лучше сказать, следствие
совершившегося соединения Божьего и человеческого, небесного и земного, она
есть всегда, по существу, икона Боговоплощения. Поэтому и иконостас возник
сначала из переживания храма как «неба на земле», как свидетельство о том, что
«приблизилось к нам Царствие Божие». Как и вся иконопись в храме, он есть как
бы воплощенное видение Церкви как собора, как единства мира видимого и
невидимого, как явления и присутствия новой и преображенной твари.
Трагедия в том, что
произошел длительный обрыв в подлинной традиции православной иконописи, почти
совсем выветривший из церковного сознания все ту же «соотносительность» иконы и
храма. Наши храмы теперь не расписываются иконами, а либо завешиваются
множеством икон, часто не имеющих к целому, т.е. храму, никакого отношения,
либо же декорируются всевозможными «петушками», в которых опять-таки детали
всегда доминируют над целым и в которых икона становится деталью какого-то
декоративного ансамбля. Другой стороной той же трагедии было постепенное
перерождение сначала форм, а затем и смысла иконостаса. Из «чина» т.е. порядка
и строя икон, естественно нуждавшихся в подставках, он превратился в стену,
разукрашенную иконами, т.е. в обратное своей первоначальной функции. Если
сначала иконы требовали подобия стены, то теперь стена требует икон, и таким
образом изнутри как бы подчиняет их себе. В некоторых древних храмах иконы как
бы участвуют в собрании Церкви, выражают его смысл, дают ему его вечное
движению и ритм. Вместе со всеми этими чинами - пророков, апостолов, мучеников
и святителей - вся Церковь, все собрание как бы восходят на небо, туда, куда ее
возводит и возносит Христос - к Его трапезе, в Его Царство...
Это новое ощущение алтаря
и иконостаса как разделения ложно потому, что оно очевидно противоречит самому
литургическому преданию Церкви. Предание это знает только освящение храма и
престола, но не освящение алтаря отдельно от «корабля». Весь храм помазывается,
как и престол, св. миром, весь храм «запечатывается», таким образом, как
святилище и святое место. Также показателен в этом сложном, поистине
«византийском» чине освящения храма момент внесения мощей, имеющих быть
положенными в престол. Обряд этот сложился в ту эпоху, когда царскими вратами
называли двери не алтаря, а самого храма, и когда сам храм переживался и
воспринимался как небо на земле, как место, в котором через евхаристическое
собрание Церкви, «дверем затворенным» проходит Господь, и с Ним, и в Нем Его
Царство.
Символ может и не
«изображать», т.е. может быть лишен внешнего «сходства» с тем, что он
символизирует. Исконная функция символа не в том, чтобы изображать, а в том, чтобы
являть и приобщать явленному. Он не столько «похож» на символизируемую
реальность, сколько причастен ей и потому может ей реально приобщать. Он сам
есть явление и присутствие другого, т.е. как реальности, которая в данных
условиях не может быть явленной иначе как в символах.
Символ - от греческого
«соединяю», «держу вместе». В нем, в отличие от простого изображения, простого
знака... две реальности - эмпирическая, или «видимая», и духовная, или
«невидимая», соединены эпифанически (от греч. являю). Одна реальность являет
другую, но... только в ту меру, в которой сам символ причастен духовной
реальности и способен воплотить ее. Иными словами, в символе все являет
духовную реальность и в нем все необходимо для ее явления, но не вся духовная
реальность является и воплощается в символе. Ибо символ, по самой сущности
своей, являет реальности несоизмеримые... Функция его не в том, чтобы соделать
ту или иную часть «мира сего» - его пространства, времени или материи -
священной, а в том, чтобы в нем увидеть и опознать как чаяние и жажду
совершенного одухотворения, «да будет Бог вся во всем» (1 Кор. 15.29).
Сущность его (символа)
состоит в том, что в нем преодолевается дихотомия реальности и символизма как
нереальности, и сама реальность познается как, прежде всего, исполнение
символа, а символ как исполнение реальности.
«В храме стоящи, на
небеси стояти мним»... Храм (мыслится) тем «небом на земле», которое «собрание
в Церковь» осуществляет, тем символом, который две эти реальности, два эти
измерения Церкви - «небо» и «землю» - соединяет, одну являя в другой, - одну
претворяя в другую. И это ощущение храма проходит, почти не меняясь и не
ослабевая, через всю историю Церкви, несмотря на все упадки и перебои в
подлинной традиции церковной архитектуры. Именно это ощущение является тем
целым, которое объединяет и соподчиняет друг другу все элементы: пространство и
форму храма, расположение икон и их соотношение между собой, все то, что можно
назвать ритмом и строем храма.
Достаточно один раз в
жизни постоять в «храме всех храмов» в константинопольской Св. Софии, чтобы
всем существом узнать, что родились и храм и икона из живого опыта неба, из
причастия «радости, миру и праведности в Духе Святом» - как определил Царство
Божие апостол Павел. Опыт этот, конечно, часто затемнялся. Историки
христианского искусства не раз говорили и писали об упадке как церковной
архитектуры, так и иконописи... Упадок этот обычно состоял как раз в ослаблении
и ущербе целого под влиянием разрастающихся деталей. Так «тяжелеет» храм,
зарастающий постепенно самодовлеющими «украшениями». Это движение от целого к
частностям, от целостного опыта к объяснению, от символа к «символизму». И все
же, пока стоит Церковь, она «относит» себя к Царству Божиему как к своей цели и
исполнению. Можно сказать, что в течение данного времени «изобразительный
символизм» развивается внутри символизма онтологического, то есть, прежде всего
- символа Царства.
Как тысячу лет назад, так
и сейчас простой верующий идет в храм для того, прежде всего, чтобы
действительно «прикоснуться мирам иным»... Он получает то, что жаждет: света,
радости, утешения Царства Божия. Он твердо знает, что он на время ушел из «мира
сего» и пришел туда, где все иное, но такое нужное, желанное, насущное... Что
это иное и есть то, к чему все идет, все отнесено, все исполняется - т.е.
Царство Божие.
2.2.9.
Протоиерей Сергий Булгаков.
Православие
(очерки учения Православной Церкви)
(Имка Пресс, Париж, 1985, с.
278-280; 292-295.)
Прот. Сергий Булгаков (1871 - 1944) - русский философ и богослов, декан
православного богословского института в Париже, автор многочисленных
богословских работ.
Православным народам, и прежде всего Византии и России, -
дано видение умной красоты духовного мира. И это видение, это
духовно-художественное созерцание, изнутри определяет характер и православного
благочестия, и православного богослужения. Последнее есть «небо на земле»,
явленная красота духовного мира. В православном богослужении элемент красоты,
как славы Божией, наполняющей храм, занимает свое самостоятельное место, наряду
с молитвой и назиданием, оно есть, по крайней мере в своем устремлении, умное
художество, которое, само по себе, дает «сладость церковную»... Вторая черта
православного богослужения есть его религиозный реализм. Не только по заданию,
но и по соответствующему ему восприятию оно содержит не только воспоминание об
ангельских и, вообще, церковных событиях, облеченное в художественные образы,
но и в самое их совершение, как бы новое их становление на земле... Жизнь
Церкви и богослужения являет собой таинственно совершающееся боговоплощение:
Господь продолжает жить в Церкви в том образе Своего земного явления, которое,
совершившись однажды, продолжает существовать во все времена, и Церкви дано
оживлять священные воспоминания, вводить их в силу, так что мы становимся их
новыми свидетелями и участниками... Все вообще богослужение приобретает
поэтому, значение богожития, а храм - места для него. В самой архитектуре
православного храма - в куполе Византийской Софии, который так дивно изображает
небо Премудрости Божией, смотрящееся в землю, как и в деревянном или каменном
куполе русских храмов с их ласковой теплотою, выражается эта черта: не
напряженное стремление готики к трансцендентному с противоестественным
вытягиванием себя ввысь и все-таки остающимся чувством неопределяемости этого
расстояния, но пребывание в доме Отца по совершившемся богочеловеческом
соединении Божества и человечества.
Заслуживает внимания еще одна черта православного
богослужения, его космизм. Оно обращено не только к человеческой душе, но ко
всему творению, и оно освящает и это последнее... И особенно следует отметить
торжественное освящение храма, через которое он делается достойным местом для
богослужения и совершения Божественной Евхаристии. Употребление ладана, возжжение свечей, золото и серебро в украшениях
храма, облачениях, иконах и т.д. - все это связано с мистикой богослужения,
чувством реального присутствия Божества в храме. Природные мистические качества
и символическое значение этих веществ издревле дают им место в богослужении.
Мистерия православного богослужения в своей
величественности и красоте говорит непосредственно уму, чувству и воображению
присутствующих, и, по древнему сказанию, наши русские предки, искавшие веру и
попавшие на богослужение в царьградский храм Св. Софии, свидетельствовали о
себе, что они не знали, где они находятся, на земле или на небе.
2.2.10. Протоиерей Сергий Булгаков. Слова, поучения, беседы
(Имка Пресс, 1987.)
Храм и град
Вхождение в храм Пресвятой Богородицы, по учению Церкви,
имеет и сокровенно-таинственное значение. Оно означает охрамление храма,
которое есть, вместе с тем, и его упразднение. Сама Богородица явилась здесь
истинным нерукотворным храмом, ибо в Нее вселился Святой Дух, и Она во чреве
Своем вместила невместимого Бога-Слово. Ее явление в ветхозаветном храме,
который имел лишь «тень будущих благ, а не сам образ вещей» (Евр. 10.1), было
уже исполнением этого образа, но тем самым и упразднением этого ветхозаветного
храма... Явился в мире живой нерукотворный храм - человек, о котором и говорится
Духом Святым: «разве вы не знаете, что вы храм Божий», и этот «храм Божий свят,
а этот храм - вы» ? (IKop. 10.11),
«не знаете ли, что тела ваши - храм Святого Духа» ? (IKop. 6.19). Небо преклонилось к земле и она явилась храмом в
человеке. Ветхозаветный храм был единственным местом на земле, где человек
встречался с Богом во святая святых: «над крышкой Я буду являться в облаке»
(Лев. 16.2) - местом, где человек мог принести жертву Богу, доколе она не была
отменена жертвой Христовой (Евр. 10.9-10.12).
Новозаветная церковь, которая призвана к поклонению не на
горе сей и не в Иерусалиме не в каком-либо определенном месте, но «в духе и
истине» (Ин. 4.21-23), уже не знает храма в ветхозаветном значении. Она также
имеет храмы, но они уже не приурочены к определенному месту, и их
неопределенная множественность также ограничивает их значение в сравнении с
храмом ветхозаветным в его единственности. Храмы для нас не есть «скиния
свидения», но место общей молитвы («синагога» - общее собрание, «схождение
вместе», греч.) и совершения таинств. И - сказать ли? - храмом этого храма, в
престоле и антиминсе, являются св. мощи, т.е. человек. На мощах святых
совершается святейшее таинство с времен древнейших. И как ни важен храм и для
новозаветного, христианского благочестия, но он не занимает в нем того места,
которое свойственно было храму ветхозаветному: разрушение последнего явилось и
концом ветхозаветной церкви. Первенствующая церковь не могла иметь еще своих
храмов, но оттого она не менее сияет пасхальной радостью для всей христианской
истории.
Но не только в первенствующей Церкви, которая есть
исторический образ рая на этой омраченной земле, но и в подлинном саду Божьем,
в раю не было храма, ибо весь рай был храмом, куда Бог приходил для общения с
человеком (Быт. 2. 15-22), где прародители могли слышать «голос Господа,
ходящего в раю во время прохлады дня» (Быт. 3. 8). И что еще более значительно,
нет храма и в святом граде Иерусалиме, сходящем с неба на землю, в полноту
времен, согласно видению Тайнозрителя: «И услышал я громкий голос с неба,
говорящий: се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с нами» (Апок.21.3).
«Храма же я не видел в городе, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его и Агнец»
(Апок.21.22). Вся жизнь будет исполнена боговидения, когда «будет Бог все во
всем» (IKop. 15.28).
Посему храм и храмовое благочестие имеют лишь преходящее условное значение,
которое минует тогда, когда вся жизнь человеческая станет исполнена духа и
силы.
Храм храма
Ветхозаветный храм был единственным богоносным местом на
земле, как «скиния свидения», дом Божий. Здесь человеку дано было иметь встречу
с Божеством. Слава Божия исполнила скинию и храм Соломонов при освящении, и
святая святых вмещал ковчег Завета, осеняемый крыльями херувимов, где слышался
глас Божий (Чис.7.89). Однако и храм, во всех подробностях своего устройства
предуказанный Богом, представлял собою лишь преобразовательное предварение
грядущего богоявления в мире, как «образ настоящего времени» (Евр.9.9).
Истинным местом боговселения, храмом Божиим, имел стать сам человек, и этим
священным храмом, вмещающим невместимого, явилась Дева Мария в богоматернем
рождении Сына Своего. Древний ветхозаветный храм упраздняется с явлением храма
одушевленного, однако это упразднение означает не отмену, но исполнение
прообраза в явльшемся Образе: «в храме Божиим ясно Дева является и Христа всем
провозвещает».
Сама Дева есть храм во храме, есть истинное святая
святых, одушевленный Божий кивот. Входящая в храм Дева сама уготовляется в
небесное жилище, в Ней обретается такое место на земле, куда может приклониться
небо.
2.2.11.
Священник В. Иванов.
Духовные основы церковного искусства
(ЖМП, 1983, № 4.)
Священник Владимир Иванов - в 1980-х годах - преподаватель, заведующий
церковно-археологическим кабинетом Московской Духовной Семинарии и Академии.
При рассмотрении вопросов, относящихся к церковному
христианскому искусству, неизбежно встают вопросы: какая эстетика лежит в его
основе? Представляет ли сама эстетика начало самоценное и самодовлеющее, или
она опирается на другое начало - более высокого порядка? И может ли термин
«эстетика» вообще прилагаться к христианскому искусству? Какие принципы лежат в
основе его сверхличного, органического единства?
Принципы эти надо мыслить не как абстрактно-теоретические
положения, сформулированные тем или иным мыслителем, но как духовные силы,
действовавшие в развитии всего христианского искусства. В отличие от Нового
времени, когда эстетика отделена - в большинстве случаев - от художественной
практики пропастью, в Средние века, наоборот, эстетика и практика - имманентны
друг другу, взаимопронизаны, взаимопроникнуты друг другом. Единство искусства
было обусловлено единым строем духовной жизни Церкви, базировавшимся не на
сумме абстрактных понятий, но на цельности богословского опыта.
Богословие пронизывает все сферы церковного организма.
«Мы приходим к заключению, - писал В. Лосский, - которое может показаться в
достаточной степени парадоксальным: христианская теория имеет значение в высшей
степени практическое, и чем мистичнее эта теория, чем непосредственней
устремляется она к высшей своей цели - к единению с Богом, тем она и
практичнее».
Следовательно, богословие и в отношении к искусству
является основой для эстетической системы ценностей, цель которой -
способствовать единению человека с Богом. Таким образом, задачи, стоящие перед
искусством, органически входят в сферу литургического делания: искусство в
византийском понимании - неотъемлемая часть православного богослужения.
Искусство по существу литургично, так же как и литургическая мысль в высшей
степени окрашена эстетически. Искусство - путь к обожению, путь от образа к
первообразу. Истоки искусства не в подражательной способности человека, но в
Боге.
Издревле христианское богословие (например, у св.
Дионисия Ареопагита) различало непознаваемую сущность Бога и Его творческие
проявления, энергии, называя их Божественными Именами. Одно из таких Имен -
Красота. Она сверхсущностна и премирна, т.е. трансцендентна всему чувственному.
Отсюда принципиальный антинатурализм церковного искусства. Красота - центральная
идея христианской эстетики.
2.2.12.
Священник Лев Лебедев.
Предметная символика церкви
(Вопросы реставрации)
Священник Лев Лебедев - бывший клирик Курской епархии, специалист в
области истории Церкви и церковного искусства, автор соответствующих разделов в
«Настольной книге священнослужителей».
«Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1.1-2). Под
небом в Православии обычно понимается область бытия ангелов - невидимая, чисто
духовная часть творения. Землею можно условно обозначить мир вещественный,
видимый; единство Творца предполагает и единство обеих областей бытия:
небесного и земного. Земное при всей своей относительной самостоятельности и
отличности от небесного должно являться отображением, образом небесного.
Грехопадение человека нарушило благодатное единение двух миров (Лк.10.18;
Откр.12.12), во многом повредило «земное» бытие.
По этой причине теперь не все и не всякое земное может
быть употребляемо в Церкви в качестве символа (образа) небесного. Церковь
Христова тщательно отбирала те предметы, формы, образы, линии, краски, мелодии,
движения, которые могли бы непогрешимо отображать небесное в земном, невидимое
в видимом. Так создалась совокупность образов (символов) Церкви, образный слой
церковной жизни, которым проникнуто все, что мы видим, слышим, с чем
соприкасаемся в Церкви.
Образами в Церкви являются: здания храмов, их внешнее и
внутреннее убранство, священные сосуды и предметы, иконы и настенные росписи,
орнаменты и украшения, одеяния и богослужебные облачения духовенства, другие
предметы чинопоследования таинств и иных богослужений, движения
священнослужителей - их входы и выходы, пение и чтение, мелодика и ритмика,
последовательность читаемых текстов Священного Писания и церковных песнопений и
многое другое.
Церковную символику можно подразделить на три составные:
предметные (статические) символы, двигательные (динамические) и словесные. Наша
речь о предметной символике. Она подразделяется на символы-образы и
символы-знаки (знамения). Например, крест с изображением распятого Иисуса Христа
есть символ-образ Распятия Христова. Крест без изображения Спасителя, в виде
восьмиконечных или четырехконечных перекладин, а также все орнаментальные
кресты - это символы-знаки (знамение) Распятия. В последнем случае
человеческому сознанию только напоминается о Распятии, предлагается
догадываться о том, что на Кресте был распят Господь.
Один и тот же предмет может означать разные явления. Так,
четырехконечный крест - не только знак Распятия, но и знак Святой Троицы....
Кроме того, четырехконечный, равносторонний крест знаменует собою четыре
стороны света, четыре времени года, четыре стихии, мира (земля, воздух, вода,
огонь), четыре формы мира (неживая материя, растительный мир, животный мир,
человеческий мир), наконец - четыре Евангелия и т.д.
Некоторые предметные образы и символы могут изменять свое
основное значение в зависимости от моментов литургии и иных богослужений. К
примеру, «предложение» (в современном обиходе - жертвенник) во время
проскомидии - это в основном знак Рождества Христова в Вифлееме, а в конце
Евхаристии, при перенесении Святых Даров с престола, он - знак Елеона, с
которого совершилось вознесение Христа на небо.
Такая многозначность и изменяемость церковной символики
есть не что иное, как отражение реального единства в многообразии и
многообразия в единстве сотворенного Богом мира.
Прежде всего, нужно решить вопрос: является ли символизм
церковных предметов лишь плодом чисто человеческого воображения, произвольно
присваивающего им различные значения, или же этот символизм объективен и
реален, то есть укоренен в духовно-мистической основе бытия, в онтологии
церковных предметов.
В 787 г. на Седьмом Вселенском Соборе было утверждено
правое учение об иконопочитании, закрепленное в соответствующем догмате и
деяниях. Формулировки догмата и суждений отцов собора подводили итог развитию
теории образа, как она отражалась в Ареопагитиках, сочинениях Василия Великого,
Григория Богослова, Иоанна Златоуста, патриарха Германа, Максима Исповедника,
Иоанна Дамаскина, Феодора Студита и других отцов и учителей Церкви, а также в
82-м правиле Пято-шестого (Трульского) собора 692 г. Догмат VII Вселенского Собора, в частности, утверждал,
что... «честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу ...Ибо так
утверждается учение святых отцов наших, то есть предание Кафолической
Церкви...».
Догмат, следовательно, утверждает наличие определенной
благодатной связи образа и первообраза..., что все церковные литургические
символы обладают тем же свойством связи с первообразами.
Византийская теория образа своей исходной точкой всегда
имела истину «действительного, а не воображаемого» Боговоплощения. В единой
Личности Господа Иисуса Христа неслитно, но и нераздельно соединились две
природы - божественная (чисто духовная) и человеческая (отчасти вещественная,
плотская). Таким образом, во Христе произошло и восстановление нарушенного
грехопадением единство двух миров (небесного и земного)... В результате
Боговоплощения все небесное и духовное во Христе и Теле Его - Церкви -
неизбежно стремится к своему выражению в земном и вещественном.
Что же такое символизм церковной символики и
символические каноны по своему происхождению и значению?
Церковь постепенно создает новое как по содержанию, так и
по форме искусство, которое в образах и формах материального мира передает
откровение мира божественного, делает этот мир доступным созерцанию и
разумению.
Обратим главное внимание на принцип подобия образа
первообразу. С незапамятных времен различные символы-образы и символы-знаки
употребляются в религиях и магиях всех народов и всегда служат одной цели:
установить живую связь между изображением и изображаемым. Совокупный опыт
человечества с самих древнейших времен хранил идентичные знания о таинственной,
реальной связи образа с первообразом и о том, что такая связь достигается с помощью
подобия.
...Образы и знаки Церкви Христовой призваны обеспечить
живую благодатную связь с истинным Богом, небесным миром ангелов Божиих и
горним миром торжествующей Церкви святых. Такая связь осуществляется во Христе,
через Христа и Духом Святым.... Подобие вещественного, земного образа
осуществляется по отношению к высшей и абсолютно чистой от всякого повреждения
реальности горнего мира.
Освящение церковных символов и образов «водою и Духом»
подобно обновлению человека «от воды и Духа» в купели Крещения - есть не что
иное, как претворение, таинственное изменение церковных предметов в объекты
материи новой, духовной, восходящей к бытию нового неба и новой земли,
Иерусалима нового. Этот переход совершается в рамках, в условиях образа в самом
широком смысле слова. «Святая Церковь носит тип и образ Бога, поскольку она
типически и подражательно обладает той же энергией (действованием), то есть
обладает по отношению к ним теми же действиями, что и Бог, подобно тому, как
ими обладают образ и архетип», - пишет Максим Исповедник.
Образ - особая реальность, она не уравнивается ни с
земным, ни с небесным бытием, но является, подобно всей Церкви, ипостасным
ядром присутствия Бога в мире и мира в Боге. Образ, по частому выражению
Максима Исповедника, «возвращается к первообразу» и обладает той же энергией.
То же самое согласно утверждают Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, Григорий Палама
и другие отцы.
Освящение Церковью образов, в частности предметных
символов, водою и Духом делает возможным прямое благодатное проникновение
энергий чистой горней реальности Царства небесного в вещественные формы данного
временного бытия.
Человек создает материальные образы и символы Церкви для
того, чтобы они служили делу спасения человека, однако он осуществляет и дело
спасения самой оцерковляемой материи... Освящение в Церкви получают все стихии
окружающего нас мира: земля, вода, огонь, воздух, а также различные металлы,
вещества, минералы, краски, формы, образы, звуки, мелодии, ритмы, словесные
выражения и т.п., тщательно отбираемые Церковью. Все это, не теряя своих
«земных» свойств, в то же время становится причастным горнему миру, вместе с
человеком совершает свой переход («пасху») из данной земной реальности в
реальность иного бытия Царства небесного. Это представляется в буквальном смысле
строительством града Иерусалима нового, о котором возвещает нам Откровение
Иоанна Богослова.
Взаимосвязь человека с создаваемой им предметной
символикой Церкви предполагает, таким образом, что человек должен создавать
образы и иные символы так, чтобы получить от них возможно больше благодатных
энергий первообразного. Тем самым человек, действуя в собственных интересах,
обеспечивает и вхождение создаваемых им символов в бытие Царства небесного.
Символизм самой церковной символики должен иметь
боговдохновенный характер, ибо только Дух Святый, «Дух истины», действующий в
Церкви Христовой, может просветить сознание человека, озарить его откровением о
том, какими символическими средствами не-погрешительно и точно достичь подобия
земного образа небесному первообразу.
Канон допускает великое, практически бесконечное
множество вариаций. При строгом соблюдении канонов в древности невозможно найти
двух совершенно одинаковых икон на одну и ту же тему. По верному суждению Л.
Успенского, канон не сковывает творческую энергию художника, а напротив,
освобождает его от самости, от рабства греховным началам души и направляет его
творчество в такое русло, где как раз и раскрываются простор, свобода его духа
в Боге.... (есть) две основные категории, между которыми возможны промежуточные
ступени: создатели (начинатели) канона и хранители (продолжатели) его. Для
продолжателей достаточно обладать определенными навыками мастерства и
добросовестно копировать общепринятые образцы. Но для создателей (начинателей)
обязательно особое Божие откровение.
Случайным, на первый взгляд, представляется устройство
православного храма и его алтаря. Историческим прототипом здесь послужили
катакомбы. Там отправной точкой являлась гробница чтимого мученика, окрест
которой все прочее устраивалось сообразно с конкретными условиями подземного
помещения, где своды опираются на необходимые в таком случае столпы. Правда, в
Римских катакомбах можно заметить нарочитое, символическое отделение алтаря от
остального пространства храма посредством некоторого возвышения и алтарной
преграды (решетки). Образно говоря, такая форма храма в самых общих
принципиальных чертах была как бы отлита в земле катакомб, чтобы затем, после
прекращения гонений на Церковь, будучи вынесенной на поверхность земли,
послужить образцом (типом) для величественных крестово-купольных храмов
византийского стиля.
Трехчастное деление храма осознается как соответствие
Святой Троице, а также трехчастному делению мира: божественное бытие,
ангельский мир, земное человеческое бытие. Или - трехчастному составу человека
- дух, душа и тело. При двухчастном делении храма алтарь знаменует «небесную»
область бытия, прочее пространство - «земную» или - душу и тело человека. Могут
быть и другие соответствия.
Многочисленные образы небожителей на иконах и настенных
росписях, благолепное, а в иных случаях просто роскошное оформление храмов и
извне, и особенно изнутри, делают весь храм в целом образом вселенной. Но
вселенной преображенной, то есть образом нового неба и новой земли, а также
образом Церкви, и притом Церкви торжествующей - оба понятия - «новой земли» и
небесной Церкви святых - смыкаются и часто оказываются синонимами.
При любых толкованиях за алтарем прочно закрепляется
значение образа... некоего «небесного» святилища. Насколько это верно?
Насколько православный храм, в особенности его алтарь, подобен «небесному»
первообразу? Есть ли вообще такой первообраз? Дерзнем проверить это
обстоятельство. Для этого достаточно взять Откровение Иоанна Богослова и
внимательно прочитать его, как бы заглянув в иную действительность горнего
мира.
Сквозь «дверь отверстую на небе» открывается дивное
зрелище: «Престол стоял на небе и на престоле был Сидящий» (Откр. 4.2). К этому
престолу примыкают малые престолы - седалища для 24 «старцев-священников»
(Откр. 4.4). Перед троном (престолом) Вседержителя горят «семь светильников»
(Откр. 4.5); перед престолом же расположен «золотой жертвенник» (Откр. 8.3),
под которым находятся «души убиенных за слово Божие» (Откр. 6.9). Храм сей по
временам «отверзается на небе» (Пс. 1.19).
Нетрудно видеть, как поразительно совпадает все это с
тем, что совершается и находится в алтаре православного храма. Здесь тоже по
временам отверзаются царские двери в иконостасе, сквозь которые в определенных
случаях можно увидеть епископа, восседящего на горнем месте. К архиерейскому
седалищу примыкают малые седалища для сослужащего духовенства. Перед горним
местом горит семисвечник, перед ним же, в центре алтаря - жертвенник или
трапеза (престол), под ним или по современной практике чаще всего - на нем, в
антиминсе - мощи мучеников (или иных святых).
Во всех сочинениях и толкованиях на устройство храма
алтарь уподобляется горнему миру, «небу» и т.д., но ни в одном из сочинений не
сказано, что алтарь в истории Церкви устраивался или должен устраиваться в соответствии
с данными Откровения Иоанна Богослова! Алтарь православного храма устраивался и
оформлялся исторически случайно и не сразу. Перед нами, таким образом,
удивительный пример промыслительности и неслучайности случайного в церковной
символике, когда промысел Божий, тайноводство Святаго Духа, не нарушая свободы
человеческой воли и не подавляя человеческого творчества, направляют его так,
что церковные символы, создаваемые людьми, приходят в точное соответствие с
небесными архетипами.
Таким образом, есть полное основание заключить, что не
только алтарь и его основные святыни, но и вообще все литургические символы
Православной Церкви, осознанно или случайно введенные в обиход, но принятые
соборным разумом Церкви, соответствуют определенным небесным первообразам,
подобны им, обладают их энергиями, таинственно содержат в себе их присутствие.
А это означает в свою очередь, что каноны в области церковной символики в
основе своей - не человеческое только изобретение: они боговдохновенны.
Все эти истины были глубоко восчувствованы и восприняты
душой русского народа изначала, со времен Крещения Руси. С тех пор красота для
русских - это Царство небесное,
«Новый Иерусалим», где Бог пребывает с людьми в духовном
веселии и радости... Почти двухсотлетнее (с XVIII по XX век)
беспрепятственное проникновение западных влияний в русскую культурную и
церковную жизнь привело к тому, что и в русских храмах, особенно в настенных
росписях, появились изображения в западном духе и стиле. Эти влияния коснулись
преимущественно церковной живописи и декора храмов. Однако в основном своем
составе православная символика осталась неизменной.
К настоящему времени в Русской Православной Церкви, где
устойчивей, чем где бы то ни было, сохраняются древние каноны, многое тем не
менее оказалось неканоничным и попросту испорченным (особенно в области
церковной живописи). В наши дни в кругах образованных православных людей
началось заметное, пока стихийное движение за возврат к исконным каноническим
устоям церковной жизни, в том числе и к каноничности предметной символики. В
определенном смысле - это проблема церковной экологии. Окружающая верующих
среда церковных символов (образов) должна быть максимально благодатной, то есть
давать людям как можно больше энергий, исходящих от первообразов!
2.2.13.
Иеромонах Гурий (Федоров).
Церковный подход
к храмовому строительству
(Доклад прочитан на международной конференции МСА в 2000 г.)
Иеромонах Гурий (Федоров) род. в I960 г., окончил Московский Архитектурный
Институт и Московскую Духовную Семинарию. Служил в храме Христа Спасителя и в
храме в честь иконы Божией Матери «Державная» во время его строительства.
Создание каждого православного храма - процесс
сотворчества человека Богу. В церковном строительстве соединяются молитва,
деятельные усилия людей и промыслительное действие воли Божией и благодати
Божией. Самым высоким призванием человека в земной жизни является умное делание
- молитва. Из видимых же дел человека ведущим является создание дома молитвы -
храма Божьего. Когда человек устрояет храмы Божий, он возвращает себе
утраченное Адамом при грехопадении состояние сотрудничества, соработничества,
сотворчества Богу.
В истории храмовой архитектуры важнейшей областью
изучения является духовная сторона храмового зодчества. Строительство храма во
все времена понималось в первую очередь как возведение дома особого присутствия
Божия и Божественной благодати. При строительстве храмов руководствовались
Апостольскими Правилами, постановлениями семи Вселенских и Поместных Соборов,
входивших в Кормчую книгу.
Церковный подход к созданию храмов освящен канонами и
традицией, связан с духовной жизнью. Возведение храмов часто сопровождается
разнообразными трудностями, так как из мира выделяется пространство, не входное
для бесов. Именно для преодоления бесовских искушений с древности сложилась
традиция духовного подхода к строительству.
По Кормчей книге решающее значение в процессе
храмоздательства принадлежало правящему архиерею. Епископ давал благословение –
разрешение на строительство, которое не подлежало изменениям, отведенные
монастырю или церкви земли считались неприкосновенными. В основу постройки
полагалась молитва епископа. Эта традиция сохранялась и в XIX веке, что хорошо известно по истории
закладки владыкой Иаковом Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря,
изложенной в летописи обители: «...5 июня 1848 года совершилась чудом закладка
собора, предреченного великим старцем и основателем Дивеева. Такое событие не
могло не ознаменоваться каким-нибудь явным проявлением благословения Божия и
Царицы Небесной, и действительно, когда преосвященный Владыка возлагал первый
камень, то, как святой жизни старец, он вдруг изменился в лице и во
всеуслышание, громко воскликнул: «От утра за утро сей храм воздвигается велиим
чудом!». Пророческие слова эти сбылись, ибо, несмотря на все препятствия врага
человечества, утвердилось святое место, Самою Царицею Небесною избранное и
купленное под храм о. Серафимом».
Епископ в древности контролировал правильность и
каноничность строительства. Необходимым условием при возведении храма или
монастыря было составление описания церковного здания: «...и вся сущая в нем
внутренняя и внешняя на хартию да напишутся...». Церковная традиция не
препятствовала любому человеку основать и построить монастырь, возвести храм,
«что способствовало привлечению средств самых различных слоев населения к
церковному строительству».
Итак, создание каждого храма начиналось с благословения
Божия и с молитвы. Молитва создает и удобряет почву для будущего дома молитвы –
храма. В древности все этапы строительства и материалы освящались святой водой
с молебнов. При создании собора Св. Софии в Царьграде в основании 4 главных
столбов и всех колонн были положены частицы св. мощей, они так же полагались
особым чином в сосуды, из которых был сложен купол.
Подобная традиция была возрождена при восстановлении
храма Христа Спасителя в Москве. С первых дней восстановления храма
мне пришлось нести на нем послушание, а за год до этого
участвовать в его проектировании. Могу засвидетельствовать, какое громадное
значение для его воссоздания имела и имеет ежедневная молитва верующих людей.
Все этапы строительства храма сопровождались молитвой. Близ собора для этого
была возведена сначала малая часовня в виде сени над крестом, а затем и церковь
в честь Державной иконы Божией Матери, которую старались быстрее построить,
чтобы в ней начались Божественная литургия и другие службы. Там крестились и
венчались строители храма, проводились молебны с водосвятием, после чего святой
водой окроплялись уже возведенные части храма Христа.
Значение молитвы при возведении храмов всегда было
определяющим. Можно привести пример из жития схиархимандрита Гавриила
(Зырянова). В нем рассказывается о чудной помощи Божией при постройке церкви:
по молитвам старца было дано разрешение на постройку и получено ровно 12 не
хватающих для строительства бревен.
Возвращаясь к истории строительства храма Христа, можно
сказать, что его основание, стены и своды освящались святой водой еще в самом
начале строительства. Приходилось прямо с ведрами святой воды подниматься на стены
и купола строящегося храма. В основании его престолов были заложены
разнообразные святыни: песочек, камни, масла, вода, растения из различных
святых мест. Камни для забивания гвоздей при освящении святых престолов мы так
же старались выбрать из святых мест. Так, камни для главного престола верхнего
храма были взяты с четырех сторон света: из Палестины (с места перехода пророка
Моисея через Красное море), из Архангельска (из села Суры – родины прав. Иоанна
Кронштадтского), из основания Великой Успенской церкви Киево-Печерской Лавры и
с берега Баренцева моря близ г. Анадыря на Чукотке – с восточного края нашего
Отечества, обагренного кровью новомучеников.
Колокола и купола, фрески и кресты храма Христа
освящались местным духовенством, но в особых случаях освящение совершал
правящий архиерей и настоятель храма Христа – Святейший Патриарх Алексий II. Он совершил закладку камня в основании
будущего кафедрального собора, освятил главный крест (9 м 60 см), большой
колокол (около 32 т), нижний – Преображенский и верхний Христорождественский
храмы, зал Соборов, трапезную и зал Синода.
С древности необходимым условием церковного строительства
было то, чтобы все его участники были православными. Известно, что строитель
Успенского собора Московского Кремля Аристотель Фиораванти перед его
возведением принял Православие. Эта традиция сохранилась и в XIX веке. Карл Магнус Витберг – автор первого
проекта храма Христа Спасителя на Воробьевых горах – также перед самой
закладкой храма перешел в Православие. Особое внимание в древности уделялось
строителям при возведении храмов. В начале XVIII века первый архиепископ Архангельский и Холмогорский
Афанасий (Любимов) не допускал до строительства храмов второбрачных плотников,
стараясь сохранить и в петровское время древние традиции. Сейчас мы часто не
имеем возможности выбирать в строители и проектировщики глубоко церковных
людей. Однако необходимо стараться ставить условия, соответствующие достоинству
храма: требовать от рабочих благоговейного поведения на территории храма. Из истории
возведения храма в честь Державной иконы Божией Матери можно привести простой
эпизод: один плотник курил и сквернословил, но вдруг упал с лесов, сломал ногу
и больше там не работал.
На Руси существовала традиция особого благоговейного
отношения к храмам, пришедшим в ветхость, при их ремонте. По документам,
относящимся к обновлению в XVII веке
Успенского собора в Московском Кремле, известно, что новая роспись создавалась
не сразу, а отдельными частями. Сначала снималась прорись с древних росписей,
затем сбивалась штукатурка и отвозилась на берег Москвы-реки, где ее толкли,
добавляя в новую штукатурку вместе с песком, водой, пенькой, очесами льна.
Лишняя штукатурка отвозилась обратно и захоранивалась на сводах или под полом
храма, а старая прорись являлась основой для создания новых фресок.
В стенах или в основании нового храма часто сохраняли
фундаменты более древнего, остатки его стен и столбов. Место, где существовал
когда-то храм, никогда не занималось гражданскими сооружениями. После пожара
старые стены Успенского собора во Владимире не стали разбирать и пристроили
новые так, что древний собор находится как бы в футляре новых стен. В XVII веке св. митрополит Петр (Могила),
перестраивая Десятинную церковь, включил руины древнего собора в новый. Так же
внимательно относились к деревянным храмам. Пришедшие в негодность бревна
ветхих церквей не выбрасывали, а сжигали. Из крепкого леса разобранных храмов
строили новые церкви.
При восстановлении храма Христа Спасителя срытый земляной
холм пришлось заменить платформой, включающей различные помещения, необходимые
для церковных нужд. Однако никакие хозяйственные помещения не располагаются
непосредственно под храмом.
Обходная галерея отделяет храм от подсобных помещений,
гараж отнесен далеко на запад, под верхним храмом расположена нижняя
Преображенская церковь.
Древняя традиция не предусматривает выходов из храма с
восточной, алтарной стороны. В XVIII–XIX веках для удобства устраивались двери в
алтаре, однако это противоречит богословскому пониманию алтаря как области
Царствия небесного, вход в которое возможен только через Христа Спасителя,
предстательством всех святых, образом чего является иконостас с царскими
вратами. Если в алтаре уже есть такие выходы, то необходимо поместить на дверь
икону подобно тому, как оформлены двери в жертвенник или диаконник.
Дополнительные выходы для священнослужителей можно сделать, например, с солеи.
Довольно часто в современной церковной жизни встречается
изменение посвящения святых престолов в храмах. Например, в Оптиной пустыни в
1988 г. во Введенском соборе Пафнутиевский придел был переосвящен в честь
преподобного Амвросия, чем, возможно, монастырь лишил себя заступничества
Калужского чудотворца. На Афонском подворье в храме мч. Никиты вообще
упразднили придел в честь преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. В
древности это не было принято. Переосвящать престолы стали недавно, начиная с XVIII века. Сейчас есть возможность внимательно
изучить это нововведение, которое идет вразрез с православной традицией
бережного отношения к святыне. В древности в случае необходимости прославить
какого-либо святого или отметить важное событие в жизни Церкви пристраивали
придел к основному объему храма или строили новый храм. Если положение церкви
стеснено, можно прибегнуть к устройству в алтаре приставного престола.
Традиции храмоздательства учат нас тому, что весь процесс
строительства храма должен быть воцерковлен, и нет мелочей, которые можно
забыть. Конечно, и бумажная иконка может чудотворить, но все-таки не случайно,
что есть великие чудотворные иконы, созданные глубоко духовным образом, с
молитвой. Так, например, во время написания списка с чудотворной Иверской иконы
Божией Матери на Афоне за иконописца монаха Иамвлиха молилась вся братия,
постился и молился он сам, краски растирались со святой водой.
В нынешней России храмовое зодчество может подняться на
высокий духовный уровень, если мы будем подходить к каждому этапу возведения
дома Божия – дома молитвы, сочетая высокий профессионализм с духовными
традициями древнерусского храмоздательства.
2.2.14.
Диакон Николай Чернышев.
К вопросу о восстановлении памятников
церковной
культуры в наши дни
(Святыни и культура, М., 1992, с. 19–23.)
Диакон (ныне священник) Николай Чернышев -преподаватель МДА и руководитель
иконописной школы при храме св. Николая в Кленниках в Москве.
Нынешний период жизни Русской Православной Церкви
характерен, среди прочего, возвращением множества храмов, монастырей икон,
предметов церковного обихода. И наиболее чтимые святыни, и чисто хозяйственные
церковные постройки, и утварь передаются, как правило, разрушенными,
поврежденными или искаженными, оскверненными. Наши храмы и монастыри содержали
сокровища, являвшие всему миру высоту русской церковной культуры. Сейчас вновь
открытые храмы пусты, часто стоят без крыш, куполов, и требуется немало усилий
для ремонта и наполнения их минимальным убранством, позволяющим хотя бы начать
и канонически верно вести литургическую жизнь. Эта область восстановления
церковной жизни не может быть названа только материальной. В деле спасения,
ради которого живет и действует Церковь, образ храма имеет существенное
значение. Внешний облик храма и его внутреннее убранство влияют непосредственно
и очень сильно на чувства человека, на его умозрение, образ молитвы, в конечном
счете – на образ жизни. Ведь в храме человек проводит главные моменты своей
жизни. Православие – Духом Святым выработало формы, выразившие свои идеи, они
помогают человеку эти идеи воспринять, помогают спасаться.
Именно поэтому первая задача, стоящая перед нами сегодня
в этой области, – верно выбрать направление – что именно и ради чего мы хотим
восстановить, в каком воссоздать виде и все ли из того, что нам передают? Что,
как, какой ценой и зачем? Осознавать эти фундаментальные вопросы надлежит нам
всем, с единых православных позиций. Вопросы восстановления так или иначе стоят
перед всей нашей Церковью, и особенно остры они сегодня. Не осознав и не
сформулировав для себя и для мира наши задачи в этой области, мы потратим
остаток сил впустую и поможем врагу, думая, что служим Богу.
Известно пророчество, согласно которому в последние
времена храмы будут полны роскошным убранством и сладкогласным пением, но Духа
Святаго в них не будет. И от решения названной задачи – как именно
восстанавливать и строить храмы Божий, какие в них помещать иконы, какое
культивировать пение – во многом будет зависеть, что приблизит наше поколение -
восстановление или конец мира.
Указанное пророчество может уже сейчас стать ощутимой
реальностью, ибо при утере нами самими понятия о связи Истины и Красоты мы
создаем лишь внешнюю мирскую красивость, которая воспринимается как мертвая
музейная декорация, никак с нашей жизнью и с небесами не связанная, жить нам во
славу Божию не помогающая. Отсюда, от не видения Красоты Божией как следствия и
признака Правды Божией, от забвения ее значения как силы, спасающей мир, –
утрата нами критериев, что же есть истинная красота, – какова она и для чего в
Церкви.
И вопрос о воссоздании (или создании) конкретного храма
ставят поэтому сегодня так: стилю какого века подражать архитекторам и
художникам: XII, XV или XVII, и даже – в иконописном или живописном стиле писать
иконостас, стенные росписи, иконы... Определяющим здесь становится
индивидуальный вкус настоятеля, наместника или наличие подходящих для бедного
храма мастеров, работающих только так, как они умеют..
Не есть ли такое положение (повсеместное в наши дни)
признак забвения нами одного из церковных канонов – иконописного канона, и, еще
страшнее: не забываем ли мы значение для нас догмата иконопочитания, утверждение
которого празднуется нами вместе с Торжеством всего Православия?
За что шли на смерть
мученики и исповедники VIII–XI веков, в течение столетий боровшиеся с ересью
иконоборчества? Умерла ли эта ересь и в чем ее суть? Как применимы для нас
сегодня решения VII Вселенского Собора,
Большого Московского Собора? Что такое икона? Что такое храм Божий? Вот какие
вопросы встают при попытке осмыслить поставленную задачу. Ответы на них – в
сжатых однозначных формулировках даны в учебниках для первых классов духовных
семинарий, в общедоступных брошюрах, в энциклопедиях и вроде бы всем известны.
Эта элементарность – кажущаяся. Не случайно решениям этих вопросов христиане, в
том числе святые отцы, посвящали жизнь. Каждое время ставило их по-своему;
вечным догматическим истинам всегда требовалось современное толкование.
Актуальны эти вопросы и для нас сегодня. В каждом конкретном случае решать,
что, как и зачем восстанавливать и строить, следует раньше, чем думать о смете
работ, сроках и трудозатратах. На сегодня богословие образа нуждается в
восстановлении. Нуждается не менее, чем сами образы и храмы. И ответы здесь
требуются не только от нашего разума и памяти – как мы знаем православную
догматику и археологию, но и от нашей совести, от нашего личного отношения к
оставшемуся наследию, такому разнообразному.
Есть у нас наследие Киевской Руси – пусть во многом
утраченное, но тем более драгоценное, великое, возросшее непосредственно под
влиянием святых отцов Византии, есть наследие эпохи преподобного Сергия и
преподобного Андрея Рублева – времени наивысшего развития исихастских традиций
на Руси. Сохранять памятники этих великих эпох – жизненно важное дело для
Церкви. Причем сохранение и изучение такого наследия, конечно, только первая
задача. Для нас это лишь необходимое условие живого восприятия духовных
традиций, от которых пошла столь высокая культура. Нельзя забывать, что
церковная культура – это всегда результат определенной аскетики. Вернее,
культура Церкви – это и есть аскетика, нормы духовной жизни, приводящие к появлению
тех или иных творений. Видимые творения – всегда творения того или иного духа.
А культура названных периодов, наиболее точно отразившая идеи Православия на
Руси, – наиболее вероучительна и поистине вдохновляюща для всего православного
мира, на все века. Знаменной распев, Киевская София и Покров на Нерли, «Троица»
преподобного Андрея Рублева и его «Звенигородский Спас» – это не просто
национальные достижения, рядом с которыми нечего поставить,– это достижения и
наследие всего Православия.
Критерий высоты культуры для Церкви всегда один –
строгость следования Евангелию, и высота культуры – это приближенность к Богу.
А потому вопросы о том, как восстанавливать и развивать доставшееся наследие,
как строить и расписывать новые храмы, писать новые иконы и службы
новопрославляемым святым – эти вопросы будут разрешаться лишь по мере
восстановления традиций духовной жизни, лишь при воссоздании духовной культуры
в целом, то есть культуры, приводящей к Боговедению, Богоподобию. Только тогда
результатом станут произведения, духовно (а не формально) близкие достижениям
прошлого. Мастера Византии для нас ориентиры, показывающие плоды работы прежде
всего над собой. Всевозможные стили, школы, авторские манеры и почерки внутри
единого канонического иконописного языка, составляющие богатство и разнообразие
единой культуры, никогда не противостояли друг другу, не повторялись ранее и
нынче никто не обязан им подражать. Освоение устава, канона позволяет
иконописцу, а равно – зодчему и другим участникам литургического творчества
грамотно, выразительно и свободно проявить личный духовный опыт. Частные же
находки предшественников могут быть использованы или надо искать свои во
избежание мертвой стилизации. Вновь обратившись к опыту преподобного Андрея,
можно вспомнить, что он, по слову летописца, часто предавался «взира-нию на
честные иконы», среди которых несомненно были и византийские образцы, однако
писал образы и глубоко традиционные и, одновременно, невиданные даже для своего
времени, никого из учителей не повторявшие. Это удивительное постоянное
сочетание традиционности и неповторимости характерно для всей православной
культуры. Не поняв этот святоотеческий принцип свободы внутри канона, мы и
впадаем то в стилизацию, то в самодеятельность – в большом и малом. Выход вновь
возможен только при истинном усвоении святоотеческих традиций жизни и работы.
Но нам предоставляют теперь и иное наследие –
колоссальное по объему, но вовсе не святоотеческое. Это наследие времен,
испытавших то едва заметные отступления от Православия, то явно в духе
ренессанса, барокко или иных традиций, характерных для католичества и других
инославных и даже иноверных культур. Памятники такого рода накапливались в
нашей стране с XVI века вплоть
до начала XX. По словам протоиерея Георгия
Флоровского, это было время «вавилонского плена русского богословия». Плен
богословия проявился и в появлении чуждых православным канонам форм живописи,
архитектуры, музыки, зачастую вовсе не являвшихся церковными, однако
заполнивших Русскую Церковь почти безраздельно. Церковь воспринимает ни с чем
не сравнимые гонения XX века
необходимыми для своего очищения и укрепления. Уместно повторить: сегодня
ситуация такова, что именно от нашего поколения, от нас лично зависит – что
именно будет восстановлено, на что мы будем тратить силы. Современное
богословие образа, как и вся жизнь Церкви, несмотря на сопротивление с
различных сторон, призваны освободиться от чуждых, губительных влияний,
вспомнить истинные ценности православного Предания, по слову апостола Павла:
«Стойте и держите Предание» (2 Сол. 2.15). Иконописный канон в широком смысле,
включая все формы и виды образа (икона, иконостас, храм, монастырь...),
является неотъемлемой частью Предания Церкви.
Все ли ваши действия и намерения в области восстановления
памятников находятся в соответствии с требованиями Предания? Не случится ли
так, что слепок в натуральную величину храма Христа Спасителя явится «гробом
повапленным» (Мф. 23.2), а его восстановление – попыткой обмануть самих себе и
мир, попыткой представить, что ничего в нашей истории не произошло и мы
вернулись как к идеалу к концу XIX века?
Нельзя ли в память победы в Отечественной войне поставить иной храм, скромнее,
получше прежнего? Нужно ли Церкви восстановление барочных форм петербургских
храмов? Нельзя ли восстанавливать предоставляемые нам постройки (зачастую
развалины) в соответствии с канонами и с требованиями и нуждами Церкви наших
дней? Все ли надо восстанавливать «на пользу автора», все ли позднейшие храмы,
иконы, росписи, сиявшие ослепительным золотом, картины религиозного содержания,
писавшиеся с образцов Леонардо, Рафаэля, Рембрандта, реставрировать? Ведь это
изображения, подобные которым в первые века христианства уничтожались как
языческие, прославлявшие человеческую плоть? Так ли важны для Церкви все
принципы реставрации, важные для внецерковных реставраторов? Вспомним: ведь уже
не раз в истории Церковь русская восстанавливала свои руины. Это был
непрерывный процесс –- восстановление обветшалого и строительство нового.
Нередко по разным причинам разрушались и каменные храмы с их росписями, а
деревянные, наполненные иконами, горели и вовсе часто.
Каких бы они ни были прекрасных форм, какими бы ни
являлись великими бесценными святынями – никогда христиане, понимавшие значение
утраченного не хуже нас,– не восстанавливали ничего точь-в-точь по-прежнему.
Традиционность вместе с неповторимостью были, видимо, существенной частью
канона. Задача создать слепок, «научную копию» с великих святынь и совершенных
творений духа была немыслимой вплоть до последнего времени.
«Умиление» преподобного Серафима, Оптинская Богоматерь
«Спорительница хлебов», чудотворная «Державная» – ведь они ценны нам вовсе не
своими формами. Церкви нужны эти иконы, народ чтит их. И для списков с них, так
же как для написания икон новопрославляемых святых (в том числе святых
недавнего времени), для икон новых церковных праздников (например, Крещение
Руси) должна быть найдена каноническая иконография – на святоотеческом
иконописном языке.
Дивеево, Оптина Пустынь, храмы и монастыри святых
недавнего времени – например, праведного Иоанна Кронштадского, старца Алексея
Мечева – они дороги нам ведь вовсе не архитектурным своим строением. Дух святых
старцев, служивших в них Богу, дух Православия теплился в них, дышал, горел
«идеже хощет». Он был выше любых внешних форм. Он-то и дорог нам. Построив
храмы, украсив их убранством «точь-в-точь как было при батюшках», мы создадим
музеи, может быть, милые сердцам тех, кто помнит эти места до разрушения, для
воспоминаний о прошедшем. А задачи-то у Церкви и музея разные. Живут они по
разным законам, по своим канонам. Восстановительная работа такого рода нужна
для создания музеев церковной истории и археологии, нужна, например, в местах,
связанных с памятью святых, для устройства их мемориальных музеев, но она не
заменит работы по восстановлению духовных традиций этих святых, не подменит
духовно-восстановительную работу и не должна смешиваться с восстановлением
храмов этих святых, с восстановлением их по православным канонам, в
соответствии с требованиями и нуждами сегодняшней Церкви.
Сегодня, получив новый Устав об управлении Русской
Православной Церкви и Устав каждого прихода, мы избавлены от опеки нецерковных
контрольных учреждений. Мы имеем право и в деле восстановления церковного
наследия, как части воссоздания духовной культуры, руководствоваться не
указаниями внешних организации с их музейными, археологическими,
историографическими и иными принципами, а требованиями догмата иконопочитания,
православных церковных канонов, и дело нашей совести – не отступать от них.
2.2.15.
Настольная книга священнослужителя.
Православный храм
(Т. 4, М., 2001, с. 9-23, 365-370.)
Небесное и земное в символике
православного храма
С событиями Домостроительства Божия о спасении рода
человеческого в значительной степени связано значение и назначение символики
Православной Церкви: символики храма, его архитектуры, убранства, живописи,
богослужебных предметов, облачений, являющихся не чем иным, как проповедью в
образах и красках, отражением прежде всего того, что совершается в таинстве
Божественной литургии – ее молитвах, песнопениях, возгласах, действиях.
Православная символика... призвана раскрывать духовные
истины, содержащиеся в Евангелии и учении Церкви, сообщать догматическое
ведение Церкви о мире небесном и земном, о Боге – Его отношении к миру и
человеку. Иными словами, в земных, существенных знаках и образах церковная
символика являет догматическую картину мира, содержащуюся в православном
вероучении.
Православная Церковь с древнейших времен хранит
богооткровенное знание как, в каком виде и в каких формах следует изображать
небесное и божественное, чтобы богооткровенное знание, соответствуя всей
глубине догматов Православной Церкви, давало верное представление об истине.
Откровение Божие явило эту истину Церкви Христовой в
учении святых апостолов, семи Вселенских Соборов и святоотеческих наставлениях.
Поэтому человеческое воображение не должно прибегать в Церкви к произвольному
символотворчеству. Следить за тем, чтобы новое в церковной жизни, в том числе в
символике, было бы развитием православных традиций, – обязанность епископов и
духовенства, имеющих должное знание смысла и содержания церковных литургических
канонов, различающих то, что соответствует Православию, и то, что чуждо ему.
Византийские, а затем и русские зодчие, творя по религиозной интуиции,
жили в живом созидании символических форм, которые могли гармонично выразить
соотношение между Богом и человеком.
Предметные, или вещественные, церковные символы принято делить на знамения
(знаки) и образы.
Знамения – это такие предметы или изображения, которые передают духовное
значение божественных и небесных истин и явлений, не изображая их
непосредственно.
Первое знамение – это четырехконечный или восьмиконечный крест, призванный
напоминать о Распятии, но не имеющий изображения Распятия. Такой крест
сооружается на куполах храмов, в орнаментах стенной и иконной росписи и других
церковных предметах. К знамениям относятся также внешние и внутренние
архитектурные формы храма, его некоторые части, жертвенник, паникадила и др.
Образы – это священные изображения и предметы, овеществляющие не только
духовное значение, но и самое внешнее сходство божественных и небесных лиц и
предметов. К образам относятся прежде всего иконы, изображения священных
событий. К образам относятся алтарь с царскими вратами, горнее место с
седалищем для архиерея, семисвечник, престол, Чаша и пр. Эти предметы были
явлены в Апокалипсисе как составляющие устройство и принадлежности храма
небесного.
Вследствие греховной поврежденности, верующему человеку часто бывает
затруднительно понять значение церковных символов. Одна из основных причин
затруднений заключается в том, что земное, вещественное нередко так отягощает
человеческое сознание, что человек не может воспринять внешнее в его
неразрывном единстве с внутренним, духовным.
Церковный символ соответствует своему небесному или божественному
первообразу, имеет в себе его благодатное присутствие и тем самым исполняет
свое предназначение.
Символизм, по свидетельству святого Дионисия Ареопагита, призван «озарить
всю природу человеческую светом божественных истин, сообразно с ее делимостью и
вместе неделимостью» ибо «надлежало бесстрастную душу вознести к простому и
внутреннему созерцанию боговидных образов и страстное тело врачевать и
возводить к Богу по законам телесности, то есть посредством предустановленных,
преобразовательных символов, которые были бы сообразны с понятиями души и в то
же время соответствовали истинам неприкровенного богословия».
Через символы приоткрывается верующим определенная, всегда живущая в
Церкви реальность. «Мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных
предметов, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – без какого-либо посредства, а для
того, чтобы подняться вверх, имеем нужду в том, что родственно нам и сродно».
В «Церковной мистагории» преподобный Максим Исповедник (VII
в.), проводя сознание через грандиозную иерархию смыслов, дает богословское
обоснование храмового символизма, который получил завершенное архитектурное
выражение только в эпоху Македонской династии (867–1057) в Византии.
Всесторонняя и органическая связь символики храма с глубиной
догматического вероучения Православной Церкви свидетельствует, что не только
человеческое мышление принимало участие в создании и устройстве православных
храмов и не богословы придумывали символические значения для храмовой
архитектуры, как это иногда представляется поверхностному сознанию. Премудрость
церковного устройства есть свидетельство того, что это – богочеловеческое
творчество, как и все духоносное творчество в Церкви.
Храм в целом
В образе древнерусского храма находит свое выражение сущность жизненной
правды Православия. Храм понимается как то начало, которое должно
господствовать в мире. Сама вселенная должна стать храмом Божиим. В храм должны
войти все человечество, ангелы и низшая тварь. Именно в этой идее
мирообъемлю-щего храма заключается та религиозная надежда на грядущее
умиротворение всей твари, которая противополагается всеобщему противоборству и
непрерывной борьбе за существование.
Мирообъемлющий храм выражает собою не действительность, а чаяние, не
осуществленную еще надежду всей твари. Он олицетворяет собой другую
действительность, то небесное будущее, которое манит к себе, но которого
человечество еще не достигло. Эта мысль с неподражаемым совершенством выражена
в архитектуре древнерусских храмов. Собор всей твари как грядущий мир вселенной
– такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства.
Преподобный Сергий (1321–1391) по выражению его жизнеописателя «поставил храм
Святой Троицы как зерцало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на
образ Святой Троицы побеждался страх перед ненавистною разделенностью мира».
Его идеалом было преображение вселенной по образу и подобию Святой Троицы,
внутреннее объединение всех существ в Боге.
Преодоление ненавистного разделения мира, преображение вселенной во храм,
где вся тварь объединится так, как объединены в Едином Божеском Существе три
лица Святой Троицы – вот основная тема, которой все подчиняется в древнерусском
искусстве.
Православный храм воплощает в архитектурных формах образ мира, состоящего,
по выражению преподобного Максима Исповедника, «из видимых и невидимых
существ». Будучи единым строением, храм по своему расположению разделяется на
алтарь и собственно храм. Это членение – символ деления единого в основе мира
на видимое (земное) и невидимое (мир духовный). Оба эти мира, составляя
мистическое целое, открываются друг в друге, «потому что умственный мир для
могущих видеть весь открывается в мире чувственном, таинственно изображаясь в
символических видах, а мир чувственный весь существует в мире умственном».
Проходя свое служение в миру, Церковь в то же время по природе своей, по
существу отлична от мира, находясь на духовном возвышении среди окружающего
мира.
Если считать от входа, то паперть – это первое возвышение храма. Солея,
где стоят избранные из мирян чтецы и певцы, изображающие Церковь воинствующую и
ангельские лики, – это второе возвышение. Престол, на котором совершается
таинство Бескровной Жертвы и богообщение – это третье возвышение. Все три
возвышения соответствуют трем основным ступеням духовного пути человека к Богу:
первое – это начало духовной жизни, самый вход в нее; второе – это подвиг
воинствования против греха за спасение души в Боге, длящийся всю жизнь
христианина; третье - это жизнь вечная в Царстве небесном в постоянном
богообщении.
Храм – также и символ человека. Преподобный Максим Исповедник, следуя
святому Дионисию Ареопагиту, уподоблял алтарь человеческой душе, жертвенник
уму, сам храм – телу.
Храм изображает собою то святое и чистое состояние всего сущего, в котором
земное и небесное пребывали до грехопадения человека, в котором теперь они
пребывают во Иисусе Христе и в котором будут пребывать в вечности после второго
славного пришествия Христова. Православный храм своим архитектурным обликом,
настенными росписями и иконами изображает и самый процесс очищения и
возрождения во Христе человека и всего творения в целом. Поэтому православному
храму с древнейших времен усваивается символическое значение Христа, спасающего
человеческий род и в нем творение Божие. И значение человека, спасающегося
вместе со всем творением во Христе.
Храм именуется также церковью, как вся полнота верующих во Христа
православных христиан – Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь, что
присуще не только русскому языку: в греческом языке с апостольских времен
словом «экклисиа» называлась вся христианская Церковь (Мф.16.18; 1Кор.12.28;
Флп.3.6; Гал.1.13; 1Кор.10.32; Еф.1.22,23), отдельные местные общины христиан
(1 Кор. 1.2; Рим. 16.1; Еф.1.1) и даже просто верующая семья (Рим.16.4;
1Кор.16.29; Флп.1.2; Кол.4.15).
Таким образом, язык Священного Писания Нового Завета одним и тем же словом
обозначает любое собрание, любую совокупность верующих во Христа людей – от
нескольких человек до всей полноты Вселенской Церкви, что соответствует словам
Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них» (Мф.
18.20).
Слово «экклисиа» происходит от глагола «эккалео» – вызываю, созываю
собрание и точно отражает понятие о церковной общине и всей Церкви, как об
обществе созванных Христом и собранных во имя Христово людей. Когда же
появились храмы в современном значении, они стали называться тождественным
слову «экклисиа» словом «кириаки, кириакон», что значит дом Господень или
жилище Господне.
Русь приняла христианство от Византии в X в., и распространение
христианства на Руси сопровождалось строительством храмов. Поэтому в сознании
русских людей понятие «собрание верующих» было тесно связано с понятием «дом
Божий». Греческое слово «кириаки», претерпев изменения, фонетически трансформировалось
в слово «церковь» и стало означать и храм как здание, и собрание верующих, и
всю Вселенскую Церковь Христову, так что храм как дом (здание) есть прекрасное
символическое знамение дома Божия или всей Христовой Церкви.
Итак, к значениям православного храма как знамения Бога и Его творения –
Господа Иисуса Христа и человека – прибавляется еще одно существенно важное
значение – Вселенской Церкви Христовой как дома Божия, как полноты всех
собранных во имя Господне. Это значение не только дополняет собой перечень
вышеприведенных значений. Оно входит в них, ибо, согласно православному
вероучению, Вселенская Церковь есть таинственное Тело Христово, Глава которому
Христос, а верующие люди в своей полноте суть члены составляющие собою это Тело
(Еф.5.30; Рим. 12.5). Естественно, что Тело Господа Иисуса Христа является по
преимуществу именно Его жилищем, домом Господнем. Апостол Павел называет
Церковь как полноту верующих домом Бога, в котором Иисус Христос властвует как
Сын (Евр.3.3–6). Таким образом, понятие «кириаки, кириакон» (жилище, дом
Господень) объединяет и понятие о богочеловеческом естестве Самого Господа
Иисуса Христа, и понятие о Вселенской Церкви как Теле Христовом, и понятие о
всем творении в целом (Откр.21.22-27; 22.3; Рим.8.19-21), и, наконец, понятие
об отдельном человеке, как храме Божием (Ин. 14.23; 1Кор.3.1б; 6.19).
Действительно
в грядущем Царстве Божием и природа, и люди, и каждый из них - все творение
должно быть домом и жилищем Божиим. Но пока это состояние еще не достигнуто, в
условиях земной жизни человека домом Божиим является церковь как Тело Христово,
в котором спасается общество избранных во Христе, освященных, очищаемых детей
Божиих (Ин.1.12). Зримым и выразительным знамением этого вселенского дома Божия
и совершающегося в нем домостроительства спасения является православный храм:
церковь, дом Господень. Понятие «Домостроительство спасения» в апостольской и
древней отеческой письменности употребляется по аналогии с постройкой дома, где
христиане называются живыми камнями, каждый из которых является носителем Духа
Божия (Еф.19.22).
Понятия творения, Христос, человек, церковь, рассматриваемые как дом
Божий, храм, не однозначны, не равны между собой. Их единство не упраздняет
различия в лицах. Например, отдельный христианин, хотя и должен быть храмом
Божиим, как и вся Церковь, не составляет Церкви как собрания. Это имеет
глубокий духовный смысл, восходящий к тайне Пресвятой Троицы.
Чин на основание церкви
Под видом храма видимого, материального Василий Великий, составивший чин
основания храма, разумел Церковь невидимую во главе с Самим Спасителем,
собрание верных членов Тела Христова, Бога Живаго. Новый храм в этих
молитвословиях как бы очеловечивается и над ним совершаются тайнодействия,
подобно тому, как над человеком совершаются таинства Крещения и Миропомазания;
к ним присоединяется еще нечто и от таинства Священства, ибо храм посвящается
на вечное служение Господу.
По заложении основания (фундамента) для храма совершается «Чин на
основание храма», что именуется обычно «закладкой церкви». При этом бывает и
водружение креста. (Требник. М., 1956, ч.2, гл.26 и 28).
Основание церкви приготовляется следующим образом: если церковь каменная,
то выкапываются рвы, приготовляются камни и известь и на одном четырехугольном
камне изображается или высекается крест. Под крестом (по желанию епископа)
приготовляется место для вложения святых мощей и полагается написание закладной
надписи. Кроме того, приготовляется большой деревянный крест и выкапывается яма
на месте будущего престола, куда он будет водружен.
В молитвах на освящение храма храм именуется «домом небоподобным»,
«образом жилища Божия», и освящается он «во образ святейшей Церкви Божией», то
есть во образ Церкви как Тела Христова, как ее называет апостол Павел (Еф.1.23;
Кол.1.18). Другими словами, храм есть образ, который иносказательно,
символически выражает то, что непосредственно изобразить невозможно.
3.
РАБОТЫ СВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
3.1.
Отечественные
3.1.1.
Конец XIX – первая половина XX в.
3.1.1.1.
Благовещенский И.А. Предписания и распоряжения по духовному ведомству
Московской епархии с 1829 по 1869 г.
(М., 1871.)
Остатки древних зданий не только не разрушать, но сохранять и
поддерживать, и вообще никаких древних предметов не уничтожать и не изменять
без Высочайшего разрешения, по резолюции Его Величества, последовавшей по
случаю обновления в одном соборе древней живописи: «Строго подтвердить впредь
во всех подобных случаях ни к каким обновлениям древних памятников не
приступать без Высочайшего разрешения» (1827, 1843).
При построении церквей вновь или при перестройке представлять планы,
фасады и сметы в Министерство Внутренних Дел для предоставления Его Величеству
и вместе с тем представить план местности, квартала, улицы, площади и пр.
(1827–1844).
Планы на церковные земли и фасады церквей и церковных строений иметь
непременно, а где таковых нет, там священники должны приобрести их и хранить в
ризнице (1828, 1835).
На церковных погостах никаких строений от церкви ближе 5 саженей (10,5 м)
не возводить, но где уже есть построенное и ближе, починивать не воспрещать
(1849).
Сельскому духовенству бани, гумны, овины строить вне селений не ближе 25
сажень (53 м) от жилых домов.
Близ храма православного не иметь ни питейных, ни жилых домов, ни
иноверных храмов.
На основании ст.60 положения о питейном сборе, не учреждать питейных
домов, шинков и выставок ближе 40 сажень (85 м) от монастырей и церквей
православных, считая сие расстояние от ограды церковной во все стороны; но это
не относится к церквям домовым, у коих оград нет (1863).
На землях православных церквей питейных и трактирных заведений не
допускать, но на землях церквей других исповеданий дозволяется, только не
иначе, как с согласия их при-чтов и обществ и не ближе 40 сажень (85 м) от
церкви (1864).
Перед началом действий по строительству храма необходимо получить
благословение архиерея. Это древнее церковное установление, о котором пишет в
гл. VII «Новой скрижали» архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Вениамин (1739–1811): «Как церковные правила, так и гражданские древние законы
предписывают строителям полагать начало созидания храма с благословения и
повеления архиерея». Матвей Властарь (под буквою Е, гл.12) приводит следующий
гражданский закон о построении храмов: «Кто хочет построить молитвенный дом или
церковь, тот должен подробно объяснить свое намерение местному епископу и
наперед даровать все потребное к освящению храма и к совершению священной
литургии, к содержанию его и к обеспечению служителей, принадлежащих к храму».
Симеон Солунский (в гл.101) говорит: «Намеревающийся создать Божественный храм
приходит к архиерею и испрашивает у него дозволение исполнить свое намерение. И
не должно никому начинать строение без архиерейского повеления. Ибо богоугодные
дела требуют Божественного повеления и содействия и в делах Божественных
должен быть един Бог Началовождем и Совершителем, Который есть Иисус Христос, а
на престоле Христовом, по милости Его, сидит архиерей».
3.1.1.2.
Васнецов В.М. Электричество в храмах
(Деяния Священного
Собора Православной Российской Церкви.
Пг., 1918, кн. 5, с.
39-56.)
В.М. Васнецов (1848–1926) – русский художник, соавтор абрамцевской церкви, росписи Владимирского
собора в Киеве и др., работавший в «русском стиле».
В связи с иконописью невольно приходится коснуться вопроса и об освещении
церковном. За последнее время очень усердно вводится в церквах электрическое
освещение вместо освещения восковыми свечами, во избежании, якобы, копоти от
восковых свечей, вредящей иконописи, а также в видах удобства электрического
освещения. По существу, конечно, против электричества не имеется возражений –
никакого греха в нем нет. Возражения могут возникнуть только на почве
церковного обычая и предания, в связи с символическим значением свечи и лампады
(масла), а также с молитвенным настроением молящихся. Конечно, человек может ко
всему привыкнуть – может привыкнуть и к электричеству в церкви, взамен восковых
свеч и масла; но человеку искренне религиозному и молитвенно настроенному едва
будет по душе молиться в храме, освещенном электричеством, – светом,
перенесенным в храм Божий с улицы, из театра, вокзала, кинематографа, ресторана
и тому подобного развлекательного учреждения! Нет, восковая свеча и деревянное
масло, освещающие лики святых, роднее душе его. Но, говорят: копоти-то от свеч
и масла очень много, портит иконопись. Да, пожалуй. Но приняты ли были все меры
для уменьшения и устранения этой копоти? По опыту можно знать, что свеча
чистого воска дает очень немного копоти; а вот церезин, от которого Церковь не
сумела уберечь свои восковые свечи, действительно, страшно коптит! А также и
гарное масло (смесь с нефтью) вместо чистого деревянного (оливкового) также
невозможно коптит. Вот если бы Духовное Ведомство озаботилось в свое время
устранить эти вредные осветительные суррогаты, то, вероятно, и введение в
церквах электричества не оправдывалось бы этой копотью.
Кроме того, относительно вообще пыли и копоти следовало бы озаботиться о
правильной и более усовершенствованной вентиляции в храмах. А к электричеству,
конечно, можно прибегать по нужде, где нет другого света, как, например, на
корабле: служил же, ведь, по нужде преподобный Сергий и при лучине.
В заключение невольно приходится указать на еще больший источник копоти и
даже дыма, а именно: на каждение ладаном... Как же в этом случае поступить?
Ведь не устранить же совсем каждение? Не заменять же его какими-либо
соответствующими ароматами и духами?.. Надеюсь, впрочем, и не сомневаюсь, что
церковные ревнители современной культуры и прогресса все-таки пожелают, чтобы
храм Божий остался и домом молитвы, и оставят в нем и дым кадильный, и свет
лампады, и восковые свечи, светившие около двух тысяч лет христианству во всю
его многострадальную историю, зажженные еще в катакомбах на гробницах
мучеников. И будут они светить нам тихим, но живым светом, символом света «не
от мира сего», вместо блестящего, удобнейшего, но мертвого света сего мира –
электричества!
3.1.1.3.
Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике
(САТИС, С.-Пб., 1995, с. 36, 37; 54-70; 81-86.)
А.П. Голубцов –
профессор Московской Духовной Академии (1887–1911), специалист по церковной
археологии и литургике.
Краткий обзор дохристианских культовых
сооружений
Изучение различных отраслей христианского искусства мы начнем с
архитектуры не потому, впрочем, чтобы этот род искусства в самом начале имел
видных представителей в христианском мире и на первых же порах нашел прочную
почву для своего развития. Этого не было, и надобно сознаться, напротив, что в
первые века христианства эта отрасль искусства была поставлена в очень
невыгодные условия для своего развития вследствие стесненного положения
христиан в греко-римском мире и преобладания между ними, так сказать, домашнего
и как бы семейного богослужения. Я беру церковное зодчество за исходную точку
своих чтений по истории христианского искусства, имея в виду особенное значение
храма для богослужения, а следовательно и для всех тех форм искусства, которые
с богослужением неразрывно связаны. Храм, в каком бы несовершенном виде мы ни
стали представлять его себе, есть постоянное средоточие литургической практики,
как бы она ни была проста и малосодержательна: эта последняя, т.е.
богослужебная практика, развивается во всей широте только там, где существуют
постоянные места молитвенных собраний, и где единичное религиозное чувство
получает характер общественный. Можно, конечно, представлять себе религию и без
храмов, но эта религия всегда будет бедна внешней обстановкой, и в области
такого отвлеченного, внутреннего богопоклонения нет места для искусства и
обрядовых символических форм. Как, например, может развиться вне храма
церковная живопись? К чему, при его отсутствии, могут примкнуть или где найдут
себе точку опоры многие другие отрасли искусства? Где найдет себе место и
усовершенствуется самый богослужебный обряд? История человечества рядом
серьезных фактов в виде монументальных остатков его давно минувшего быта
убеждает нас в той исторической аксиоме, что первые проблески искусства
приурочивались к первым памятникам религиозности, были ли то могилы,
жертвенники или идолы в виде грубо отесанных камней. Но, прежде чем религиозное
сознание дошло до идеи храма в его законченном виде, прежде чем богослужение
развилось настолько, чтобы вызвать необходимость систематически устроенных
зданий этого рода, искусство должно было пройти через целый ряд форм, в которых
последовательно и мало-помалу выражалась религиозная идея, и постепенно
слагался и вырастал образец храма со всеми его литургическими приспособлениями.
Работа человечества над созданием этого святилища длилась целые тысячелетия;
едва ли не каждое поколение клало свой новый камень в это величественное
здание, пока не выработало его идеального типа, который, как мне
представляется, осуществился всего полнее и целостнее
в христианских храмах цветущей эпохи церкви. Но это уже конец пути, пройденного
самим христианским храмом: всмотримся, насколько позволяет даль почти 19 веков,
в его начало и постараемся уяснить себе прежде всего то, как отнеслось
христианство к храмовым и вообще архитектурным типам, выработанным
дохристианским миром, чем и как воспользовалось оно, и с чего, собственно,
началась история христианского храма; наметим хотя бы главные пункты этой
сложной многовековой религиозно-строительной работы. Первобытная эпоха
человечества более известна нам по догадкам и более или менее вероятным
соображениям, чем по достоверным данным. О жизни и начальных внешних формах
богослужения первобытного человека мы знаем или по аналогии с бытом теперешних
некультурных племен, или по позднейшим сравнительно историческим отзывам;
вещественные же остатки его быта проясняют судьбу архаического храма лишь в
самой слабой степени. В начальной стадии религиозного сознания, по-видимому,
вся природа была тем обширным храмом, в котором божество являлось первобытному
человеку, проявляло свою силу, и где оно обитало по его представлению. Сам,
живя под открытым небом или где-нибудь в пещере или землянке, он не привязывал,
как кажется, прочно своих религиозных представлений к определенному месту и
потому был далек еще от мысли о храме. Но со временем он пытается, как бы
сказать, локализовать свои религиозные представления, приурочивает присутствие
божества непременно к известным местам, которые и становятся первыми центрами
богослужения, прототипами в некотором смысле позднейших храмов или, лучше
сказать, их фундаментом и краеугольным камнем. Эти места человек старался
отличить, отметить каким-либо видимым знаком, посвящал их божеству и
приспособлял их к отправлению своих религиозных обрядов. Таким образом
закладывалось, кажется нам, первое основание храма. Легко понять отсюда ту
тесную связь, в которой стояла первая идея храма или святилища с возникновением
религиозной обрядности и появлением первых устойчивых знаков набожности. Но, с
другой стороны, и первый камень храмового здания есть результат присущей
человеку потребности выразить свое религиозное чувство во внешних формах:
отнимите у него эту потребность, ограничьте область его религиозной жизни одним
сознанием божества, – и ему не будет надобности приходить для своих сношений с
божеством на условное место, тем меньше – ставить на нем какое-либо изображение
или жертвенник.
Места молитвенных собраний христиан I–III
веков
I
Где и как происходили собрания первых христиан для
молитвы – общий ответ на это дают Деяния и Послания апостольские, особенно
вторая глава книги Деяний, в 46 стихе которой говорится следующее: «И каждый
день (апостолы с другими верующими) единодушно пребывали в храме и,
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца».
Отсюда ясно открывается существование у первых христиан общих с иудеями
публичных собраний в храме и более тесных и замкнутых по домам. Первые были
необходимым следствием возникновения христианства среди иудейства и близких
отношений Иисуса Христа и Его учеников к Иерусалимскому храму. Хотя исповедание
Христа и крещение в Него проводили резкую грань между обществом иудейским и
первохристианским, но ветхозаветное Писание и молитва, насколько они входили в
состав храмового еврейского богослужения, могли служить как бы пропедевтикою
христианства для иудеев и приготовляли их к последнему особенно своей
преобразовательной стороной. Вторые, то есть собрания по домам, отвечали
потребностям первых христиан, как особого религиозного общества, выводили из их
естественного стремления уединиться, отправлять собственные обряды, молиться
Богу в среде своих собратий и единоверцев. Если первые имели главным образом
миссионерскую задачу и посещались христианами из иудеев, то последние
удовлетворяли религиозным интересам христианского общества и служили средством
для взаимного единения и сношения между собою его членов. В смешанных храмовых
собраниях, конечно, не было места для свершения таинства Евхаристии и вообще
христианского богослужения. Это последнее происходит в домашних закрытых
собраниях христиан. Со временем последние взяли перевес над первыми и послужили
почвой, где зародился и мало-помалу созревал христианский обряд, и постепенно
слагались те литургические и дисциплинарные требования, с которыми должны были
сообразоваться в последствии открытые храмы христиан.
Как только образовалось зерно христианской общины, члены
ее в числе ста двадцати человек собираются в Иерусалиме в особой горнице, где и
пребывают все единодушно в молитве и молении (Деян. I. 13–14, 16). Неизвестно, была ли это та самая горница, в которой Христос
совершил с учениками пасхальную вечерю и установил таинство Евхаристии, как
предполагают некоторые; но нет сомнения, что она была собственностью кого-либо
из лиц, принадлежавших этой небольшой общине. Когда число членов иерусалимской
общины, вследствие вдохновенной проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы,
значительно увеличилось, и одного дома, как бы он ни был поместителен,
оказалось недостаточно, верующие стали собираться для молитв и преломления
хлеба по домам группами или кружками. Эти первые места собраний христиан
были молитвенными храминами, молельнями в частных домах, а не храмами в
строгом смысле слова. Христианство начало с них, как начинает всякая вновь
возникающая религиозная община, у которой и богослужение находится еще в
зародыше и потому не требует сложных приспособлений для своего совершения, и
внешнее положение не обеспечено, да и средства материальные не велики, так что
и при желании улучшить и развить обрядовую обстановку оказываются непреодолимые
препятствия. У христиан первого времени такого стремления, нужно заметить, и не
было. То, что называется теперь богослужением, было у них так незатейливо и
однообразно, что легко обходилось простыми домашними средствами. Они соблюдали
известные часы молитвы, образцом для которых послужил обычай Иерусалимского
храма, и которые у христиан получили особый религиозный характер по
воспоминаниям о Христе, с ними связанным. Но молиться ли в эти знаменательные
сроки дня, или независимо от них, конечно, можно было с полным удобством дома.
Христиане так и делают: они собираются для общих молитв в домах своих
единоверцев и у себя дома упражняются в одиночной молитве. Что же касается до
совершения Евхаристии, то это не было вначале какое-нибудь сложное
литургическое действие с широкой обрядовой обстановкой; в своей первоначальной
форме это было простое с внешней стороны, но таинственное с внутренней преломление
Хлеба и благословение Чаши, совершавшиеся с известными молитвами
предстоятелем собрания.
Когда в день воскресный или в присутствии апостолов
составлялись многолюдные собрания, для них избирались более просторные
помещения в домах состоятельных владельцев-христиан, и самое богослужение
являлось уже с более развитой обрядовой обстановкой. В таком виде изображает
апостол Павел молитвенные собрания христиан в Коринфе, где происходило и чтение
Писания с объяснением его, и пение гимнов, и Евхаристия с агапами. Эти
многолюдные собрания и в век апостольский, по-видимому, отличались от тесных
семейных кружков и назывались церквами, то есть, собраниями. Они ясно
противополагаются домам, служившим житейским целям и не имевшим литургического
назначения. Так апостол Павел, упрекая коринфских христиан в неприличном
поведении на общих вечерях любви, указав на жадность, с какой некоторые
позволяли себе пользоваться общественным столом, говорит в заключение: «разве
у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и
унижаете неимущих!» (1 Кор. 11.18, 20-22, 33-34; ср. 11.14. 34–35). Здесь
церковь есть нечто совершенно отличное от дома; она противопоставляется ему не
как помещение, не как место собрания, а по своему назначению для особых
отправлений, имеющих религиозный литургический характер. Равным образом и
название христианских церквей молитвенным домом или просто домом
не всегда указывает на домовые помещения для богослужебных собраний, но весьма
часто прилагается к церквам, как открытым зданиям, какими без сомнения они были
в IV веке. Обозначение это важно в истории
церковной архитектуры, как воспоминание о той поре, когда храмы были в домах и
когда христианское богослужение замыкалось всецело в их пределах. В этом же
общем смысле собрания следует понимать и те выражения апостола Павла, в которых
он обращается к Акиле и Прискилле, Нимфану, Филимону и другим, приветствуя их
вместе с домашней их церковью. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников
моих во Христе Иисусе... и домашнюю их церковь». Не о здании, конечно, идет
здесь речь, и немыслимо посылать приветствие помещению, но для нас важна
терминология, именно та связь, в какую поставлена религиозная община с ее
богослужебным центром. Имея в виду эту практику, св. Иоанн Златоуст в свое
время заметил: «прежде дома были церквами, а теперь церковь сделалась домом»;
как и в другом месте, изображая строгие нравы первых христиан, выразился таким
образом: «они (т.е. христиане) были так благочестивы, что могли и свой дом
превратить в церковь».
Само собой понятно, что не может быть и речи о точном
воспроизведении первохристианского молитвенного дома. Не только не сохранилось
его изображений, но нет и сколько-нибудь удовлетворительного описания его
устройства, нет даже самых общих указаний на ту обстановку, которой эти
молельни хотя бы на время богослужебных собраний отличались от обыкновенных
христианских жилищ того времени. Приходится поэтому отметить лишь несколько
подробностей этого архаического христианского храма по кратким отрывочным
известиям и случайным заметкам, дошедшим до нас от тогдашних писателей. По
вознесении Господа, ученики Его, возвратившись с горы Елеонской в Иерусалим, взошли
в горницу, где и пребывали все единодушно в молитве (Деян. I. 13). В горнице была положена Тавифа
в ожидании погребения (Деян 9. 37, 39). В тех же Деяниях Апостольских
рассказывается о посещении апостолом Павлом Троады и о молитвенном собрании, которое имел здесь апостол с другими верующими. «Во время
продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне,
погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, упал вниз с третьего жилья и
поднят был мертвым» (Деян. 20. 9). Дом был трехэтажный, а горница, в
которой происходило собрание и преломление хлеба, имела окна и ночью освещалась
довольно значительным числом светильников. Таким образом, несколько
одновременных свидетельств указывают на помещение богослужебных собраний
христиан в верхней части жилья, во внутренней комнате верхнего зтажа дома.
На такое положение христианских молелен делает несколько намеков и автор Филопатриса
– известного сатирического произведения, где осмеиваются нравы христиан, –
сочинения, не признаваемого современной критикой подлинным сочинением Лукиана
Самосатского. «Случай завел меня в незнакомый дом, – говорит он от имени героя
своего произведения, – поднявшись по лестнице, я очутился в комнате с
вызолоченными карнизами, которая напоминала собой палаты Менелая. Здесь я
нашел, впрочем, не прекрасную Елену (виновницу Троянского побоища), а
коленопреклоненных людей с бледными лицами». Нет основания видеть в этом месте
лишь одну карикатуру и упрекать автора в злонамеренном искажении дела; в словах
его не трудно подметить и черты, указывающие на молитвенное собрание христиан в
доме какого-либо из своих богатых сочленов. Христианство с самых первых времен
не было религией только бедняков. Анания и Сапфира были владетелями поземельной
собственности; Филимон, к которому апостол Павел писал послание, имел раба, за
которого апостол ходатайствует. Великое множество христиан в Риме, как
показывают катакомбные памятники и надписи, состояло не из одних рабов, но и из
лиц богатых и знатного происхождения.
Представленное описание первохристианского молитвенного
дома до того обще и бледно, что может быть отнесено ко всякому жилью, ко
всякому помещению, безотносительно к тому особому назначению, какое они
получали в богослужебном употреблении христиан. Это обстоятельство приобретает
особенную важность в глазах исследователей. Так как устройство обыкновенных
жилищ того времени, особенно греко-римских домов, довольно хорошо известно, то
ученые путем рассмотрения внутреннего расположения последних надеются дать
несколько более определенных и подробных указаний на помещение и убранство первохристианских
молелен.
Словом «икос», которым называются иногда в Деяниях и
Посланиях Апостольских места молитвенных собраний христиан, по мнению некоторых
ученых, обозначались в первое время христианства не вообще дома, а известного
устройства и назначения комнаты в них. Если это положение еще не может
считаться доказанным в отношении к еврейским и вообще восточным жилищам, то оно
должно быть признано бесспорным по отношению к греко-римским домам. До нас
сохранились образчики последних в Помпее и Геркулануме, где их отрыли под
массой лавы, выброшенной Везувием в 79-м году по Рождестве Христовом. Судя по
этим сравнительно хорошо сохранившимся памятниками и описаниями Витрувия,
специалиста-архитектора времен Августа, помпейские дома, при поразительном сходстве
между собой, почти все были двухэтажные, состояли из множества маленьких комнат
и были разделены на две половины: переднюю – публичную, и заднюю – семейную.
Узким проходом – нашей передней, входили с улицы в так называемый атриум –
довольно большой четырехугольный зал с отверстием по середине крыши для
пропуска света и для проведения дождевой воды, лившейся в каменный резервуар,
устроенный на полу. Около атриума группировался ряд маленьких комнат,
хозяйственное и житейское назначение которых трудно определить теперь с
точностью, точно также, как их число и относительное положение. Видно только,
что римляне того времени жили гораздо теснее и уютнее, чем живем теперь мы. К
задней стороне атриума, прямо против входа с улицы, примыкал таблиний,
служивший чем-то вроде кабинета для хозяина дома, где он принимал посетителей
по делам. Этой рабочей комнатой оканчивалась передняя половина дома,
сообщавшаяся с заднею, доступной только для друзей и близких знакомых,
посредством коридоров. Центральную часть семейного помещения составлял перистиль
– большой великолепный зал, получивший свое название от поставленных
параллельно стенам его рядов колонн. Подобно атриуму, перистиль получал
освещение сверху и снабжен был также бассейном. По бокам его шли небольших
размеров семейные комнаты, как-то: спальни, столовая, гардеробная и др.
Продолжая путь через перистиль в глубь дома, мы встречаем ближе или дальше от
него продолговатое четырехугольное помещение, известное под именем
икоса. Что такое был этот икос? При неодинаковости своих размеров и устройства
в различных римских домах, все же это был довольно обширный зал, делившийся
иногда по длине на три части двумя рядами колонн, поддерживавших кровлю. Он
превосходил окружавшие перистиль семейные покои не только своей обширностью и
величиной окон и дверей, но и убранством. Стены его расписывались живописью,
пол отделывался мозаикой, а для ночного освещения по стенам висели лампы и
люстры.
Составляя наиболее поместительную и почетную часть
хозяйской половины, эти экусы или икосы служили праздничной столовой или триклинием,
в котором сходились для пиршеств и бесед не только члены семьи, но и близкие
знакомые и друзья хозяина дома. Эти-то просторные комнаты, удаленные от
уличного шума и нескромного постороннего взгляда, при том же хорошо
обставленные, и могли служить, по мнению ученых, удобным помещением для
христиан на время многолюдных собраний для совещаний между собой, молитв,
совершения Евхаристии и соединенных с ней вечерей любви. Предположение весьма
правдоподобное, оправдываемое до некоторой степени и евангельским
повествованием. Комната, в которой собирались первые верующие, предназначена
была для вечерей, служила столовой. Воскресший Христос, явившись одиннадцати
ученикам Своим, застал их возлежавшими, спросил о пище, и они подали Ему
часть печеной рыбы и сотового меда (Мк. 16. 14; Лук. 24. 41–42). Вероятность
предположения возрастает еще больше оттого, что Витрувием и другими древними
писателями отмеченные нами икосы сопоставляются и даже отождествляются с домовыми
базиликами – теми великолепнейшими и громаднейшими залами, которые
устраивались во дворцах цезарей и в палатах знатнейших римских граждан. Но что
домовые базилики имели иногда богослужебное назначение, это доказывается
отчасти сходством их с структурой первых христианских базилических
церквей, но главным образом положительными историческими данными. В так
называемых «Воспоминаниях св. Климента» рассказывается, что один из знатных
христиан в Антиохии по имени Феофил «освятил под именем церкви огромную
базилику своего дома» и передал ее в распоряжение своих единоверцев.
Итак, первыми христианскими церквами, выражаясь неточно и
предположительно, были столовые залы частных домов. Избирая эти, а не
другие помещения для своих богослужебных собраний, христиане, без сомнения,
делали в них и некоторые приноровления, сообразно с потребностями своего
богослужения. Стол, седалища и другие необходимые принадлежности обычных
столовых могли, конечно, служить естественной обстановкой христианских
молитвенных собраний и связанных с ними религиозных отправлений, но последние,
разумеется, не могли совсем обойтись без особых нарочитых приспособлений. Сам
Спаситель, прежде чем совершить последнюю вечерю, посылает наперед двух
учеников Своих, чтобы они приготовили Ему есть пасху. Он совершает
последнюю и учреждает новозаветное таинство в горнице большой, устланной и уже готовой. Пример
Господа был священным и обязательным для всех веровавших в Него. За отсутствием
положительных данных, нельзя сказать, впрочем, определенно, в чем именно выразились
заботы первых христиан по устройству и приноровлению применительно к нуждам
христианского богослужения своих домовых помещений. Можно лишь предполагать с
большой, однако, вероятностью, что приспособления эти состояли в приготовлении
стола для совершения Евхаристии, возвышения для чтеца, мест для
священнодействующих и молящихся и особого столика, а может быть, и отдельной
комнатки, куда складывались приношения верующих до выделения из них веществ,
необходимых для таинства. В Апостольских Постановлениях молитвенный дом,
как сейчас увидим, является уже с довольно сложными приспособлениями,
необходимыми для совершения Евхаристии епископом со служащими ему пресвитерами
и диаконами, в виду многолюдного собрания. Правда, памятник, на который я
ссылаюсь, немного позднее того времени, о котором веду речь; но не надобно
забывать, что описываемый в нем образ храма и порядок, строго наблюдавшийся в
последнем, явились не вдруг, а слагались постепенно и, нет сомнения, имеют в
своей основе первохристианский молитвенный дом с его апостольской практикой.
Обычай верующих первых веков собираться на молитву и
богослужение в наиболее поместительных и удобных: домах своих сочленов,
вызванный особыми обстоятельствами, в которых находилась юная, небогатая и
гонимая христианская община, не был, впрочем, явлением только вынужденным, а
потому и не прекратился с веком апостольским и пос-леапостольским. Находя себе
опору в патриархальном строе семьи и в недостатке открытых и вполне
поместительных церквей, поддерживаемый стесненным положением христиан в
греко-римском мире, этот обычай глубоко вошел в нравы христианского общества и
выразился в устройстве молелен или маленьких церквей в домах. «И домы Божий,
– говорят о последних отцы Гангрского собора, – почитаем и собрания, бывающие в
них, яко святыя и полезныя приемлем, не заключая благочестия в домах, но
почитая всякое место, созданное во имя Божие» (прав. 21). В этих молитвенных
храминах, внутри домов находившихся, христиане продолжали по-прежнему
собираться на молитву, совершать Евхаристию, крестить и отпевать. Впрочем,
ввиду появляющихся время от времени еретиков и раскольников, державшихся
ложного учения, особых обычаев и чуждавшихся иерархии и общественного
богослужения, церковная власть стала с недоверием относиться к этим закрытым
домашним собраниям и мало-помалу стеснять их самостоятельность. Отсюда
отправляется длинный ряд положительных дисциплинарных мер, идущих с IV века и направленных к ограничению домашних
собраний для богослужения. Так Гангрский собор, слова которого о домах Божиих
мы только что привели, подвергает отлучению тех, которые составляют особые
собрания, «не имея с собою пресвитера по воле епископа» (прав. 6); Лаодикийский
собор не дозволяет совершать Евхаристию в домах (прав. 58); Трулльский собор
запрещает крестить в молитвеннице, внутри дома обретающейся (прав. 59,
ср. пр. 31), а второй Карфагенский собор постановил на этот счет еще более
строгие правила. Имея в виду схизматиков своего времени, св. Василий Великий
говорил также: «послушайте вы, оставляющие церковь и собирающиеся в
общих домах, где приносите жалкие обломки (мнимо) Честного Тела: возносить
молитвы должно среди Иерусалима, то есть церкви Божией».
Трудно с точностью определить, с какого времени христиане
начали строить особые здания для своих богослужебных собраний, когда появились
у них первые открытые храмы, на которые указывает сектантам в только что
приведенных словах кесарийский архипастырь. И эта трудность возрастает еще
больше оттого, что черта, отделяющая домашнюю молельню от храма в собственном
смысле, почти неуловима, и переход от первой к последнему мог совершиться
благодаря самым незначительным приспособлениям. Молитвенное здание могло быть
более или менее выдающимся и открытым, судя по тому, каково было положение
христиан в той или другой местности, и зависело в сильной степени от
материальных средств общины... Впрочем, к концу второго и в начале третьего
веков уже проскальзывают известия о существовании открытых храмов у христиан, и
я приведу из них более типичные и достоверные.
В начале III века
большая часть малоазийских областных городов уже имела у себя церковную
иерархию, и христианские общины группировались около своих епископов с
подчиненным им клиром. Закладка и построение церквей входили в круг их
пастырских забот и были одним из средств объединения самих общин. Св. Григорий
Нисский в «Слове о жизни св. Григория Чудотворца» так представляет его
деятельность на этом поприще: прибыв в Неокесарию, он «тотчас приступил к построению
храма, потому что все деньгами и трудами содействовали этому
предприятию. Этот храм есть тот самый, строению которого он положил начало, а
достойно украсил его один из его преемников. Храм сей видим доныне... Сей
великий муж заложил его на самом видном месте города, полагая как бы
некоторое основание своего святительства, и совершил это дело при помощи
божественной силы, как свидетельствует последующее время. Ибо во время
случившегося в наши времена в городе сильнейшего землетрясения, когда почти все
до основания погибло, когда все здания, как частные, так и общественные
разрушились и обратились в развалины, – один сей храм остался целым и
невредимым»... Жители соседнего с Неокесарией города Команы посылают к св.
Григорию посольство с просьбой, «чтоб он пришел к ним и находящуюся у них
церковь утвердил священством», т.е. «назначил кого-либо из них в епископы устроенной
у них церкви». Другое более известное и раннее свидетельство относится ко
времени императора Александра Севера (222–235) и связывается с его личным
отношением к христианству. Этот государь отличался веротерпимостью и довольно
благосклонно относился к религиозным обществам империи. Уважая Христа, как
замечательную историческую личность, он поставил Его образ в своей божнице
вместе с изображениями Авраама, Орфея и других отечественных богов. Следующий
рассказ дает понять, что Север не только терпел христиан, но даже позволял им,
по-видимому, открыто отправлять свое богослужение. Христиане приобрели,
вероятно, покупкой участок общественной земли и хотели построить на нем
церковь. Место это, должно быть, оказалось выгодным для постройки гостиницы, и
трактирщики начали с христианами процесс. Когда дело доложено было императору,
он распорядился в пользу христиан и выразился таким образом: лучше пусть на
этом месте поклоняются Божеству каким бы то ни было образом, чем отдавать
его попинариям. Изображая сравнительно спокойное положение христианской церкви
при императорах, предшествовавших Диоклетиану, Евсевий не находит слов для
выражения своей радости при представлении этого благоденствия. «Кто и как опишет,
– спрашивает он, – эти многочисленные обращения ко Христу, это множество
собраний во всяком городе и эти замечательные стечения в молитвенных домах,
отчего, не довольствуясь уже старыми зданиями, христиане по всем городам
начали строить с самого основания обширные церкви. Замечательно, что эдикт
Диоклетиана направляется с особенной силой против их богослужебных зданий и
повелевает «повсюду разрушать церкви до основания». «Мы собственными глазами
видели, – замечает по этому поводу историк церкви, – и разрушение молитвенных
домов с верху до самых оснований, и сожжение божественных и священных книг
среди площадей»... Все это показывает, что церкви в то время уже составляли
видную собственность христиан и вошли в число предметов, подвергавшихся
правительственному преследованию. А каковы были эти церкви – можно отчасти
судить по следующему рассказу Лактанция. В Никомидии, резиденции Диоклетиана,
был разрушен принадлежавший христианам храм, и вот при каких обстоятельствах
произошло его разрушение. «С первым рассветом дня пришли к церкви нашей военные
и полицейские чиновники с значительным отрядом стражи и, разломав двери, стали
искать изображения Божества, жечь священные книги, все грабить и разрушать.
Одни расхищали всякого рода вещи, другие от страху бежали. Галерий и Диоклетиан
равнодушно смотрели на это позорище, ибо никодимийская церковь была
построена на возвышении и можно было видеть ее из дворца. Они рассуждали
между собой, предать ли сожжению это священное здание». Из опасения пожара,
который мог угрожать соседним постройкам, решено было разломать его. «Тогда
подступили к нему вооруженные топорами и другими орудиями преторианцы, и, хотя
храм был весьма высок, но в короткое время разрушен до основания».
Отсюда видно, что никодимийская церковь представляла из себя здание довольно
больших размеров, поднимавшееся на значительную высоту и окруженное
общественными постройками. Но возможность сломать ее, хотя и средствами целой
когорты, показывает, что это не было здание твердой постройки и не выделялось в
этом отношении от обыкновенных жилых домов.
Для полноты этого очерка приведу еще несколько известий и
соображений о положении, виде и внутреннем устройстве первых открытых храмов
христиан. Тертуллиан в своем трактате об идолопоклонстве
(cap. VII), говоря о христианских художниках, занимавшихся
приготовлением языческих статуй, выражается в одном месте таким образом: «не
горько ли видеть, как христианин, оставляя на время идолов, приходит в нашу церковь;
как он из мастерской демона является в дом Божий». Сами по себе эти
слова, конечно, не дают прямого указания на существование церкви, как открытого
здания, предназначенного для общественного богослужения; эти выражения можно
здесь с полным правом принимать и в смысле домашнего богослужебного помещения,
и в значении молитвенной храмины. Но у Тертуллиана есть другое место в
сочинении против Валентиниана, из которого видно, что речь идет у него об
открытом храме, как здании с определенным назначением и установившимся, если
можно так выразиться, архитектурным планом. «Дом нашего голубя, –
говорит он своим обычным фигуральным языком, – прост, всегда на возвышенном
и открытом месте и обращен к свету, образ Св. Духа любит восток – образ
Христа». Здесь под домом голубя, в противоположность еретическим собраниям,
Тертуллиан разумеет христианские собрания и их средоточие – христианскую
церковь. Чтобы подкрепить эту мысль, приведу очень похожее место из второй
книги 57-й главы Апостольских Постановлений, где в более конкретных и
подробных чертах описывается утройство христианского храма. Хотя вторая
книга Постановлений будет немного моложе названных трактатов Тертуллиана
и признается в своем настоящем виде произведением третьего века, однако не
должно упускать из внимания и то обстоятельство, что ни одна типичная
архитектурная форма не появляется сразу. «Да будет, – говорится здесь, – здание
продолговато, обращено на восток, с пастофориями по обеим сторонам к востоку, подобно
кораблю. В средине да будет поставлен престол епископа, по обеим же сторонам
его пусть сидят пресвитеры, а диаконы пусть стоят около одетые в полное
облачение... По их распоряжению в другой части здания пусть сядут миряне
с полным безмолвием и благочинием, а женщины отдельно, и они пусть сидят,
соблюдая молчание. В средине же чтец, став на некотором возвышении, пусть
читает книги Моисеевы... А привратники пусть стоят при входах мужчин, охраняя
их, диакониссы же при входах женщин»... В восьмой книге того же памятника еще с
большей ясностью обрисовывается перед нами первая часть храма или алтарь с
жертвенником, возле которого располагалось духовенство во главе с
епископом, совершавшим Евхаристию. Из канонического послания, известного с
именем св. Григория Неокесарийского (после 264 г.), знаем также, что не только
полноправные члены христианской общины, но и разные классы кающихся занимали в
храме свои определенные места. Так, плачущие стояли вне врат
молитвенного дома; слушающие – внутри врат в притворе, а припадающие
помещались уже внутри врат самого храма.
Из приведенных свидетельств и историко-канонических данных
не трудно усмотреть, что существование открытых, довольно ясно определившихся
внутри и снаружи церквей у христиан конца
второго и третьего веков составляет положительный исторический факт и само
собою устраняет мысль противоположную. Но, несмотря на то, против этого факта
на Западе не очень давно возражали, а некоторые наши доморощенные сектанты и по
сие время находят, что преследуемые язычниками христиане не могли совершать
своего богослужения открыто, а потому и не могли иметь особых храмов. Оставаясь
в пределах исторического факта, не заподозривая подлинности документов, из
которых заимствуются нами представленные сведения, а заподозривать нет никаких
оснований, нельзя не видеть в этом возражении некоторых недоразумений и
натяжек, с разъяснением которых и самое дело получает совершенно иной вид.
Прежде всего, нет надобности настаивать на многочисленности таких открытых
храмов у христиан второго и третьего веков и предполагать в них в полном смысле
слова монументальные здания, устроенные с большими издержками и роскошью.
Первохристианские храмы могли возникать только в тех местностях, где положение
христиан было сколько-нибудь обеспеченным от насилия язычников, и лишь тогда,
когда правительственные лица не отличались фанатизмом и жестокостью. Что такие
лица были, что для христиан наступали времена спокойствия более или менее
продолжительного, это можно видеть уже из приведенных слов Евсевия. Несмотря на
некоторые преувеличения и свой пессимистический взгляд, названный историк о
преемниках Валериана и некоторых других императорах отзывается как о лицах,
расположенных к христианству или, по крайней мере, относившихся к нему
безразлично. Если мы припомним также, что христиане второго и следующих веков
продолжали совершать свои службы и молитвы в частных домах, то значительный
процент христианских богослужебных мест должен отойти к этому роду храмов.
Нельзя думать, чтоб собрания христиан в этих домах были всегда тайными и
запрещенными. Правительство об этих сборищах могло знать и не препятствовать
христианам собираться, и это особенно вероятно в такое время, когда во главе
управления стояли люди благомыслящие и справедливые. Стоило теперь христианам
сделать только один шаг вперед, и их молитвенный дом легко мог превратиться в
христианскую церковь в тесном смысле этого слова. Приспособленный к открытому
богослужению и многочисленному собранию христиан, отмеченный снаружи крестом
или другим каким-либо внешним, видимым знаком, указывающим на его
священно-религиозное назначение, такой молитвенный дом был именно тем самым открытым
храмом, о котором идет теперь речь, и возможность которого заподозривали старые
протестантские исследователи. Более, по-видимому, силы имело другое их возражение, направлявшееся со стороны
христианского спиритуализма и не утратившее даже для нашего времени всего
своего значения. Смысл этого возражения состоит в том, что христиане первых
времен чуждались религиозной внешности, не строили алтарей и храмов в
противоположность язычникам и этим самым возбуждали против себя подозрение
правительства, которое видело в них людей скрывавшихся и бегавших света,
признавало их тайной сектой, а собрания их считало безнравственными и
преступными. Повод к такому заключению дают отзывы некоторых апологетов:
Минуция Феликса, Арнобия, Оригена и других, которые на упрек язычников,
обращенный к христианам, что они не имеют «никаких храмов, никаких
жертвенников, ни общепринятых изображений», не только не отрицают этого факта,
но, по-видимому, прямо с ним соглашаются и видят в этом отсутствии у христиан
религиозной внешности прямое достоинство христианского богопочтения по
сравнению с языческим. По словам Оригена, христиане не устрояют храмов своему
Богу, потому что тела их суть храмы Божий. По словам Минуция Феликса,
для христиан вовсе и не нужны храмы и жертвенники. «Думаете ли вы, – спрашивает
он в своем Октавии язычников, – что мы скрываем предмет нашего богопочтения,
если не имеем ни храмов, ни жертвенников? Какое изображение Божие я сделаю,
когда сам человек, правильно рассматриваемый, есть образ Божий? Какой храм Ему
построю, когда весь этот мир, созданный Его могуществом, не может вместить Его?
И если я – человек – люблю жить просторно, то как заключу в одном небольшом
здании столь великое существо! Не лучше ли содержать Его в нашем уме, святить
Его в нашем сердце?». Но что, строго говоря, следует отсюда по отношению к
занимающему нас вопросу? То, что христианство, как религия духа, полагает всю
суть отношений к Богу в служении Ему духом и истиной; но отсюда никоим образом
не следует отрицания религиозной внешности и, в частности, храмов в принципе.
Христиане довольствовались в своих религиозных отношениях самой скромной
литургической обстановкой, которая для тогдашних римлян казалась чем-то
невозможным и представлялась как бы отрицанием внешнего богопочтения в сравнении
с массивными жертвенниками, монументальными зданиями и вообще художественными
предметами языческого культа. Привыкший к этой показной стороне культа,
язычник свысока смотрел на религию, бедную этими формами, и отсутствие их
ставил в упрек ее сторонникам.
Так уже апостол Павел упоминает о существовании жертвенника
или престола. Игнатий Богоносец говорит, что у христиан должен быть
один жертвенник, как и один Христос. В Откровении Иоанна
Богослова (Откр. 11. 1–2) идеальный храм Божий, размеры которого должен был
снять тайнозритель, состоит из трех частей: жертвенника, места для
поклоняющихся и внешнего двора или преддверия. Тертуллиан ясно
говорит о престоле или жертвеннике, когда называет его altare и ага. Таким образом, замечания и суждения апологетов об
отсутствии у христиан храмов и жертвенников не могут быть приняты в собственном
смысле и противоречат фактическим данным. Но и оставляя за апологетами эти
суждения, мы были бы неправы, приняв их за выражение воззрений всего тогдашнего
христианского общества и отождествив возвышенные представления ученых –
защитников христианства с действительным положением вещей. Что Ориген,
например, в своем отзыве стоит на абстрактной почве и не передает исторического
факта, – это можно утверждать на основании его же собственных слов, как скоро
он спускается с этой возвышенной области в мир обычных житейских отношений и
становится лицом к лицу с понятиями большинства. Отправляясь от этого
последнего, в одной из своих бесед он говорит о христианах своего времени, что
они воздавали почтение служителям Божиим, с охотой следовали их наставлениям с
искренним расположением и полной готовностью старались об украшении храма и о
службе при нем, но мало заботились о внутреннем очищении себя. Эта
односторонность составляет, конечно, недостаток в глазах проповедника, но там,
где существовала гармония между расположением души и набожностью, там
достигалось и полное выражение христианского идеала. В другом месте Ориген
прямо констатирует факт существования у христиан его времени храмов, когда
говорит, что по случаю землетрясения, в котором были обвинены христиане,
открылось на них преследование и были сожжены их церкви.
Таким образом, аргументация противников существования открытых
храмов у христиан второго и третьего веков опровергается внутренним смыслом
приводимых ими в свою пользу свидетельств и наличными фактами. В основе ее
лежит тенденциозная мысль, утратившая в настоящее время всякое значение,
благодаря успехам исторической науки и особенно археологическим открытиям.
II
Мы изложили условия
происхождения и главные черты устройства первохристианских храмов, сначала как
домовых молелен, а потом как открытых мест христианского богослужения. Но
молитвенные собрания верующих первых трех-четырех веков имели еще тайную,
подземную историю, которая проходила неведомо для остального мира под сводами
пещер и которая, говоря относительно, лишь не так давно открылась во всех своих
подробностях, сделавшись предметом научного исследования. Разумеем римские
катакомбы.
Несмотря на огромное и в
высшей степени важное значение, которым пользовались катакомбы в общественной и
религиозной жизни первоначального христианского общества, о них не сохранилось
сколько-нибудь обстоятельных сведений от древнейшей эпохи. Почти никто из
современников славной поры их существования не оставил нам сведений о том,
когда, кем и как они были устроены, каким целям служили, как будто это
гигантское сооружение вовсе не существовало тогда или было совершенно им
неизвестно. Правда, многочисленные надписи и изображения, находящиеся на стенах
и сводах этих подземелий, указывают на присутствие в них христианских
покойников, воспроизводят перед нами имена римских епископов и мучеников II–III веков и бесчисленного
множества простых верующих; но эта генеалогия катакомб начерчена сторонней
рукой и вовсе не для того, чтобы поведать миру историю знаменитого некрополя:
это уже сами пещеры говорят о себе и своей древнейшей судьбе... Литературная
известность катакомб начинается с того времени, как подземный Рим, выполнив
свое историческое назначение, стал делаться памятником прошлого. За исключением
кратких указаний, случайно оброненных немногими древними писателями, самое
раннее и более значительное, что мы знаем о римских катакомбах, принадлежит
двум почти одновременным западным писателям: блаж. Иерониму и Аврелию
Пруденцию. Первый, воспитываясь в Риме, посещал эти подземелья и оставил нам
живой очерк личных впечатлений, вынесенных им из этих посещений. «Вместе со
своими товарищами-сверстниками, – рассказывает о себе блаж. Иероним, – я имел
обычай по воскресным дням посещать гробницы апостолов и мучеников, спускаться
часто в пещеры, вырытые в глубине земли, в стенах которых по обеим сторонам
лежат тела усопших, и в которых такая темнота, что здесь почти сбывается это
пророческое изречение: да внидут во ад живи» (Псал. 54.16).
В Апостольских
Постановлениях (6. 30) делается следующее наставление: «собирайтесь в
усыпальницах для чтения священных книг и пения псалмов по почившим
мученикам и всем от века святым и по братиям своим, почившим о Господе. И
вместообразную приятную Евхаристию Царского Тела Христова приносите в церквах
своих и усыпальницах, а когда выносите почивших, то провожайте их с
псалмопением, если они веруют о Господе». Самый древний из сохранившихся
календарей, так называемый римский, перечисляет немало имен мучеников, тела
которых хранились в катакомбах. Нет сомнения, что в дни памяти, отмеченные
здесь, богослужение справлялось в тех местах, где находились останки мученика,
а это само собой указывает на совершение литургии и молитв в катакомбах. «Какие
горькие времена, – говорится в одной надписи из усыпальницы Каллиста,
приведенной у Барония, – мы не можем совершать в безопасности таинств и даже
молиться в наших пещерах!» Но, признавая богослужебное назначение катакомб за
факт неоспоримый, не следует видеть в них каких-либо обширных и хорошо
обставленных для совершения литургии помещений. На первом плане стояло их
погребальное назначение, а литургическое удовлетворялось лишь настолько,
насколько это совместимо было с первым. Чтобы убедиться в этом нагляднее,
необходимо ближе познакомиться с расположением и устройством катакомб, с их
архитектурными особенностями.
В общем строение катакомб
одинаково, где бы мы ни наблюдали их; но в частностях замечается много
особенностей, которые зависели или от свойства почвы, в которой они вырыты, или
от местных погребальных обычаев. Римские катакомбы, вырытые на глубине от 8 до
25 метров, иногда состоят из одного этажа, иногда из двух, трех и даже четырех,
– причем нижние этажи сообщаются с верхним и с поверхностью земли посредством
высеченных в туфе лестниц, кое-где выстланных мраморными плитами. Эти лестницы,
то узкие и крутые, то отлогие и широкие, ведут или прямо в подземные ходы, или
наперед в небольшие комнаты с выбитыми иногда в стенах их местами для сидения.
Начинаясь у оснований лестниц или только что отмеченных передних, эти ходы или
галереи прорезывают подземное пространство во всевозможных направлениях,
тянутся по прямой или ломаной линии на значительное протяжение, причем то и
дело пересекаются под прямым или тупым углом другими галереями; эти, в свою
очередь, перекрещиваются новыми путями, разбегающимися в стороны, подобно
сложной сети нервов в организме. Катакомбные галереи – это длинные узкие
коридоры, высеченные в туфе довольно правильно, в противоположность аренариям,
вырытым не по плану, а по направлению залежей добываемого материала. По одним
из этих галерей могут свободно двигаться двое в ряд, по другим с трудом можно
пройти одному. В некоторых усыпальницах галереи низки, едва превышают
человеческий рост; в иных достигают нескольких саженей. В плоских или сводистых
плафонах коридоров изредка пробиты четырехугольные или круглые отверстия,
которые, посредством труб сообщаясь с поверхностью земли, слабо освещают
подземные пути и несколько освежают их удушливую атмосферу. Стены коридоров в
несколько рядов, расположенных горизонтально один над другим, наподобие полок в
шкафу, покрыты продолговатыми четырехугольными углублениями. Это
различной величины местечки, куда клали по одному, по два, по три и даже по
четыре тела умерших, плотно заделывая отверстие черепичной или мраморной
плитой, на которой писали эпитафию, сопровождая ее символическими или
историческими изображениями. По длине галерей, в стенах их, находятся проломы –
своего рода двери, которые ведут в комнаты, там и здесь разбросанные в сети
коридоров и известные под именем кубикул и крипт. В
древнехристианских надгробных надписях не существует строгого разграничения
между названиями кубикула и крипта, и оба выражения употребляются
безразлично; но на языке новых исследователей принято отличать кубикулы от
крипт и разуметь под первыми отдельные, меньшие по размерам, комнаты. Кубикулы
суть не что иное, как фамильные склепы, предназначавшиеся для погребения членов
одного, в большинстве случаев, семейства. И до сих пор сохранились внутри
кубикул надписи, в которых можно читать имена их владельцев. Будучи, как и
крипты, разнообразными по форме: квадратными, многоугольными, круглыми и т.п.,
кубикулы изрезаны по стенам, подобно галереям, многочисленными локулами. Есть
из них такие, в которых насчитывается до семидесяти и более локулов разной
величины, расположенных в десять и более рядов. Переднюю, главную и наиболее
выдающуюся часть кубикулы составляет высеченная в стене кубикулы ниша, заключавшая
в себе или мраморный саркофаг с останками умершего, или, чаще, более или менее
значительное углубление, сделанное вертикально по направлению к полу и
служившее гробницей для погребаемых тел. Останки его, положенные в это
углубление, закрывались плитою на известном расстоянии от пола, причем
сводообразная часть ниши оставалась совершенно открытой. Горизонтальная плита,
прикрывавшая гробницу мученика, называлась mensa и служила престолом, на котором совершалось
таинство Евхаристии. К этому-то престолу и относится следующее место у поэта
Пруденция: «Сей жертвенник, – замечает последний, сказавши об устройстве
престола на гробнице св. Ипполита, – раздаятель таинства и вместе верный страж
своего мученика, сохраняет останки его в гробнице до ожидаемого пришествия
Вечного Судии и питает святою снедью жителей Тибра».
Несколько сложнее было
устройство крипт, под которыми новые исследователи катакомб разумеют соединение
в одном целом двух, трех и даже более подземных комнат. Превосходя кубикулы
своими размерами, а нередко и внутренним убранством, особенно обилием
архитектурных орнаментов и фресковых изображений, покрывающих их потолки и
стены, крипты преимущественно и служили местами, куда собирались римские
христиане для молитв и богослужения. Их нередко называют теперь капеллами и
даже базиликами, как помещения, до некоторой степени приноровленные к
целям общественного богослужения и устроенные на средства церковной общины, а
не частных лиц. Наибольшей известностью из катакомбных крипт пользуется церковь
в усыпальнице св. Агнессы, открытая в 1842 году патером Марки и относимая
учеными по времени своего происхождения не позднее, как к началу III века.
Представляя в общем
продолговатый четырехугольник (46 футов длины и около 8 шир.), она состоит из
пяти квадратных кубикул, соединенных между собой по одной прямой линии. Обычная
катакомбная галерея разрезает этот прямоугольник почти под прямым углом на две
не равные половины: одну – в две кубикулы, другую – в три. Отправляясь от
обычая древней церкви отделять мужчин от женщин при богослужении, Марки и
другие полагают, что меньшая половина, в которой кроме обломков от мраморных
плит ничего не сохранилось, служила помещением для женщин, а большая – в три
залы, предназначалась для мужчин и алтаря. Последний занимал целую кубикулу и
отделялся от двух остальных, вероятно, решетками, линия которых обозначена
полуколоннами из туфа, выбитыми при входе в эту третью переднюю кубикулу и
служившими, по-видимому, и опорою для решеток, и пограничной чертой между
местом для мирян и алтарем. В передней стороне последнего устроена небольшая
полукруглая ниша, а в ней – высеченное из камня епископское место, вроде кресла
с ручками, по сторонам которого находятся каменные грубой работы скамьи для
пресвитеров. Не уцелело престола, но должно предполагать его посреди алтаря,
перед седалищем епископа. В стороне от описанной церкви находятся еще две
кубикулы, соединенные с ней и между собой общим коридором. Они имели или одно
погребальное назначение, или служили местом для оглашенных, а может быть, удовлетворяли
и другим потребностям христианского богослужения.
Излишне говорить о том,
как важно для истории архитектуры христианского храма изучение катакомбных
церквей – этого архитектурного прототипа христианских богослужебных зданий. Но,
к сожалению, эта интересная сторона дела при теперешнем состоянии катакомб
разъясняется лишь отчасти, и из структуры крипт далеко нельзя вывести
целостного представления об устройстве и расположении катакомбного храма.
Некоторые из этих указателей уничтожены временем, а уцелевшие дают понятие лишь
о главных и существенных чертах внутреннего устройства подземного храма,
оставляя в стороне его подробности. Далее, не всегда можно доверять и тем
показаниям, какие здесь находятся. Шаткость монументальных данных, представляемых
катакомбной архитектурой, зависит от двух условий: от нетвердости
хронологических дат при определении времени происхождения и окончательного
устройства той или другой катакомбной крипты и, во-вторых, от субъективного
взгляда исследователей и эластичности, так сказать, делаемых ими объяснений.
Хронологические данные об
устройстве той или другой крипты и даже целого кладбищачасто основываются на
догадках ученых; многое, что считается принадлежащим глубокой христианской
древности, на самом деле появилось позднее. Катакомбы расширялись и
обстраивались постепенно, а у исследователей часто недостает критерия для
безошибочных Хронологических заключений. А без этого критерия не может быть и
речи о действительном прототипе или первооснове церковной архитектуры. Эластичность
объяснения тех или других катакомбных форм состоит в том, что исследователи
объясняют уцелевшие черты катакомбной архитектуры по аналогии с установившимися
теперь формами; от этого многое получает несвойственное назначение и неверное
освещение. Так, например, многие ученые находили и находят в катакомбных
церквах отдельные помещения для мужчин и женщин, притвор для оглашенных,
отделение для жертвенника, но на основаниях недостаточно устойчивых, твердых и
больше априорных. Можно утверждать положительно лишь одно, что в катакомбных
церквах сохранились несомненные черты древнеалтарного устройства, и в этом
отношении крипты действительно могут служить первичным типом христианского
алтаря. Мы уже сказали, как устраивался в катакомбах престол в форме аркосолиума;
но кроме этой формы встречается здесь и другая – это престол четырехугольный,
поддерживаемый четырьмя ножками или колонками по углам. Передняя часть крипты
часто выдвигается полукруглым выступом, занятым гробом мученика или седалищем
епископа; эта абсидальная форма алтаря была принята потом в базиликах и в
храмах византийских и доселе удерживается как на Востоке, так и на Западе. В
замечательной сохранности и немалом количестве сохранились в катакомбах
епископские кафедры – первичные образцы теперешнего горного места, откуда
епископы проповедовали и учили народ. Кафедры эти не были отдельными
возвышенными седалищами, но в большинстве случаев вырубались в передней стене
крипты в виде невысокого кресла с глухими стенками. По бокам главной кафедры и
несколько ниже ее устроялись сидения для пресвитеров – своего рода сопрестолие.
Они имеют вид невысокой каменной скамьи по окружности абсиды или же вдоль стен
алтаря. Последний вместе с аркосолиумом иногда отделялся или, лучше
сказать, защищался от напора присутствующих резной решеткой, следы которой до
сих пор сохранились в усыпальницах Прискиллы, Каллиста и некоторых других.
Алтарный пол изредка устроялся несколько выше помоста остальной части храма.
Вот главные и, нам кажется, бесспорно древние формы катакомбной архитектуры,
которые сделались типическими для храмового зодчества и выдерживались во
внутреннем плане последующих церквей христианских: вот в каком смысле может
быть признано верным замечание многих археологов, что в подземных храмах, в
катакомбах находится прототип дальнейшего церковного зодчества.
3.1.1.4.
Дмитревский И.
О храме и частях его. Историческое, догматическое
и таинственное
изъяснение Божественной литургии
(М.– СПб., 1993,с.107-117.)
Дмитриевский Иван
Иванович (1754–1829) - выпускник Рязанской семинарии и Московской академии,
переводчик при Св.Синоде в Спб. (с 1788 г.), преподаватель Московского
университета (с 1800 г.). «Изъяснение на литургию» впервые издано в Москве в
1804 г. и затем несколько раз переиздавалось. Ко второму изданию была приложена
«Книга о храме» Симеона, митрополита Солунского, на которую имеются ссылки у
автора.
О храме и о частях его
Что есть храм и какие имеет части?
Храм или церковь1
есть здание, посвященное имени и служению истинного Бога. Он в первые три века
по Р. X., по Постановлению
Апостольскому2, сооружаем был так: «Храм да будет наподобие корабля
продолговато устроен, на восток обращен, от обеих стран к востоку притворы и
сосудохранительницу да имать». Но со времени обращения Константина Великого,
храмы начали строить различным образом; они были круглые, крестообразные,
семиугольные и проч. Тогда и стали разделять его, и ныне разделяют, на три
части: алтарь, церковь (настоящую) и притвор, обыкновенно называемый трапезой.
Откуда взято сооружение храмов с разделением
на алтарь, церковь и трапезу
В образец для построения
такого храма взято ветхозаконное Иерусалимское святилище. К этому
руководствовало самое Священное Писание Нового Завета, которое обыкновенно
различные тайны христианского благочестия изображает и сравнивает с обрядами
иудейскими, по причине содержащейся в обоих Заветах единой благодати (Деян. 15.
11), потому и храмы начали сооружать по подобию иудейскаго святилища, тем более
что и святилище, и алтарь, и самое очистилище были преобразованием храмов и
трапезы Нового Завета.
Алтарь что представляет?
Алтарь представляет собою
святая святых, который учители Церкви так и называют. В него могут входить
только одни духовные лица (так как и во святая святых имел вход один только
архиерей). В первенствующей Церкви и священники входили в него не во всякое
время царскими вратами, и притом не просто, но со славою, или для возношения
каждения фимиамом в определенное время, как и ныне бывает на великих вечернях
вход с кадилом; или для внесения Св. Евангелия, когда его надобно было читать;
это ныне называется вход с Евангелием.
Сверх сего, означает
алтарь и самое выспренное небо, где Бог обитает в неприступной славе царствия
Своего; поелику и святая святых были подобием неба; о чем упоминает св. Павел в
послании к Евреям (Евр. 8. 5, 9. 24), и Иосиф Флавий об этом так говорит:
«Третья часть (скинии), неприступная самим священникам, означала небо, Богу
посвященное»3.
Церковь самая, или настоящая, что
означает?
Церковь есть символ
первой завесы, за которую священники входили для совершения службы (Евр. 9. 6).
Эта часть ветхозаветного храма представляла видимый мир4, а именно:
багряный цвет завес означал море, червленый – огонь, синева – воздух,
виссон–землю, се-мисвещный светильник – семь планет небесных, двенадцать хлебов
предложения–двенадцать знаков зодиака и прочее. И в новозаветной Церкви этой
части ее учители Церкви усвоили то же значение.
Трапеза есть вместо чего?
Трапеза соответствует
притвору или преддверию храма Соломонова; в притворе народ, стоя, молился (Лк.
1.10). В древней христианской Церкви эта часть храма назначена была для
оглашенных и тех кающихся, которые назывались послушающими. Сюда также
допускаемы были для слушания слова Божия и епископских поучений иудеи, еретики
и язычники. Все сии части божественного храма имеют еще, сверх сих, другие
знаменования таинств Нового Завета, которые описывает Симеон Фессалоникийский в
своем толковании литургии.
Красные, или царские, врата почему так
называются?
Двери, которые ведут из
трапезы в настоящую церковь, называются вратами красными, по примеру бывших в
Соломоновом храме (Деян. 3. 2). Они именуются и вратами горскими, потому что
чрез них входит священнодействователь в селение небесного Царя. В этих вратах
древние православные государи слагали с себя короны, оставляли оруженосцев и
телохранителей, да и самое орудие с себя снимали, почитая неприличным предстать
пред лице бессмертного Царя Царей в великолепии царском, или иметь хранителей и
орудие, находясь под кровом Начальника мира.
О амвоне, что он значит, когда уставлен
и для чего?
Посреди церкви, против
священных дверей алтаря, находится амвон. Это название происходит от греческого
глагола восхожу, и значит восход, или возвышенное место. Он был в церкви еще в
самые древние времена. О нем упоминается в Постановлениях Апостольских и в
посланиях Св. Киприана. Он сделан для того, чтобы чтение слова Божия, пение
псалмов и возгласы диаконов были слышны для предстоящего народа.
Алтарь для чего возвышается и отделяется
преградами?
Алтарь, как святейшая часть всего храма, возвышается на несколько ступеней
перед другими частями, чтобы все стекающиеся в храм с благоговением могли
видеть его, как трон и судилище Вечного Царя, Судии живых и мертвых. В знак
особенного уважения к нему, его отделяют преградами. Об отделении алтаря от
храма раньше начала четвертого века ни у кого не упоминается. Евсевий, епископ
Кесарийский, первый говорит об этом в описании храма, великолепно построенного
в Тире епископом Павлином, который называет их деревянными сетьми.
1 Храм и церковь, хотя, собственно, имеют
знаменования различныя, ибо храм означает здание или строение, сооруженное из
древ или составленное из камней. Церковь же есть собрание или сонм верных: но
церковью называется и самое такое здание, как-то: «Вниде Иисус в церковь Божию,
т.е. в храм, святилище» (Мф. 21. 12); и пришедшему Ему в церковь (Мф. 21.23);
обрете в церкви продающие (Мф. 21.14): разорите церковь сию и проч. (Ин. 2.
19,20).
2Пост. Апост., кн. 2, гл. 57.
3 Иос. Флав., Древн. Иуд., кн. 3, гл. 6, ч. 4.
4Иос. Флав., Древн. Иуд., кн. 3, гл. 7, ч. 7.
«Моисей скинию разделив на три части, и две из оных определив для священников,
как такое место, по которому всем дозволено ходить, означает чрез оные землю и
море (поелику всем путь отверст чрез сии стихии); через двенадцать полагаемых
на трапезе хлебов, представляет число находящихся в году месяцев; через
светильник, разделяющийся на семьдесят частей, показывает толикое же число
знаков, планетами обтекаемых; а чрез семь имеющихся на нем светил представляет
течение семи планет. Вытканные из четырех цветов завесы образуют свойства
стихий: виссон означает землю, багряница же – море, синета представляет воздух,
а червлень–огонь знаменует».
3.1.1.5. Покровский Н.В. Очерки памятников
христианского искусства
(СПб., «ЛигаПлюс», 1999, с. 333-342; 391-395.)
Николай Васильевич
Покровский (1848–1917) – церковный историк искусств, профессор Петербургской
духовной академии, директор Императорского археологического института,
основоположник отечественной церковной археологии, исследователь церковного
искусства, иконографии. Основу очерков по христианской архитектуре составили
лекции, которые автор читал в Археологическом институте.
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ
ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА
Происхождение христианского
храма. – Базиликальная форма. – Связь с античным
и Иерусалимским храмом. – Памятники IV–Vвв.
Храм так или иначе
отражает в себе религиозную идею и культ; отсюда и храм христианский отражает в
себе возвышенные идеи христианства и требования христианского богослужения;
другими словами, его формы, как они открываются пред нами в памятниках,
соответствуют его идее. Однако идея христианства всегда неизменна, а формы
храмов изменчивы, и на этой изменяемости форм построяется история архитектуры
храма и различие архитектурных стилей. Правда, что основная идея христианства –
неизменна, но отношение к ней человеческого сознания не всегда одинаково; с
этой стороны она подчинена закону развития и изменения, наравне со всеми
другими идеями: в известное время, при известных условиях, у одного народа она
является в одних определениях, в другое – в иных; в эпоху древнего христианства
представления о ней были иные, чем в Византии, а представления русские в XVI–XVII вв.
опять имеют своеобразный характер. Как бы мы ни смотрели на эти различия, во
всяком случае они находят свое наглядное выражение в вещественных памятниках
христианской древности, в том числе и в памятниках храмовой архитектуры.
Памятник первоначальной
эпохи христианства своею простотою, отсутствием роскоши и изысканности, даже
недостаточною оригинальностию по сравнению с сооружениями греко-римскими,
свидетельствует о простоте и неполном развитии внешнего культа в первые времена
христианства; храм Византии своими оригинальными центрическими формами, блеском
своих мраморов, мозаики и золота и символизмом переносит нашу мысль в эпоху
полного развития своеобразного христианского культа и религиозного просвещения
с его возвышенным идеально-мистическим характером. В архитектурном стиле
обнаруживается эпоха и индивидуальные особенности народа, и история архитектурных
стилей христианских храмов показывает историческое движение в области
религиозной мысли и чувства.
Архитектурные стили
христианских храмов в их историческом развитии идут двумя главными путями, из
которых один направляется на Запад, другой на Восток. Основной стиль эпохи древнехристианской сменяется в V–VI вв.
стилем византийским; отсюда возникает на Западе стиль так называемый романский
или, точнее, романо-византийский; за ним следуют на Западе стили готический и
Возрождения. С другой стороны, из византийского архитектурного стиля рождается
на Востоке архитектура русская, памятниками которой служат храмы Киева,
Новгорода, Владимиро-Суздаля и Москвы.
Гораздо раньше, чем
христианство получило права государственной религии, его мощный дух успел уже
проявить себя в области искусства. Христиане имели уже и тогда немало
христианских храмов. Преследования христиан, правда, задерживали художественную
деятельность их и разрушали то, что они успевали создавать, но эти
преследования по временам прекращались, и в эти-то промежутки
спокойствия христиане и строили надземные храмы. Вещественных памятников
(храмов) эпохи преследований до нас не дошло, но существование их
подтверждается положительными свидетельствами истории. Отсюда ведет свое начало
история архитектуры христианских храмов.
Тип базиличный, или
продольный. Древнейший тип христианского храма есть тип базиличный. Каковы
основные черты этого типа, откуда он произошел и где находятся уцелевшие доселе
памятники его? По своему плану христианская базилика представляет продолговатый
четырехугольник, длина которого равна двум широтам, взятым вместе. Внутреннее
пространство ее разделено рядами колонн по направлению длины на три или на пять
нефов, или продольных пространств, и, соответственно числу нефов, иногда находятся
на восточной стороне прямоугольника три или пять апсид, или алтарных
полукружий. В церквах небольшого размера, не имеющих деления на нефы, находится
одно полукружие. С западной стороны – притвор, или нартекс, и портик. Средний
неф выше и шире боковых, и между колоннами среднего нефа в стенах, над кровлею
боковых нефов, устроены окна, которые освещают всю внутренность базилики.
Обычные – архитрав, фриз и карниз – фронтоны и портики составляли
принадлежность этого рода сооружений. Этот храм, взятый в полном виде, в каком
является он с IV столетия, представляет
совершеннейшее в своем роде явление, удовлетворяющее строгим художественным
требованиям. Но для того, чтобы достигнуть такого состояния, он должен был
пережить более или менее продолжительный период времени. Явиться вдруг в целом
и законченном виде он не мог; по крайней мере, история искусств совсем не
представляет примеров неожиданного появления цельных архитектурных типов. Где
же посредствующие ступени в развитии древнехристианского базиличного храма, где
его прототипы? Постараемся указать их и таким образом определить место,
занимаемое продольным типом христианского храма в общей истории древней
архитектуры.
При сопоставлении
христианского храма с древними религиозными сооружениями прежде всего приходит
на мысль храм Иерусалимский, имеющий близкое отношение к христианскому храму по
его идее. Отсюда являлись в археологической литературе неоднократные попытки
установить связь между этими двумя храмами со стороны архитектурной,
исторической и символической. Но для того, чтобы признать генетическую связь
между этими зданиями со стороны архитектурной, необходимо указать какие-либо
положительные основания и не ограничиваться теми отвлеченными соображениями,
которые основываются на общих отношениях между иудейством и христианством. То
совершенно верно, что Христос и апостолы посещали храм Иерусалимский, верно и
то, что между иудейством и христианством найдется немало точек соприкосновения,
но отсюда еще весьма далеко до признания генетической связи между формами храма
Иерусалимского – с одной стороны, и храмов христианских – с другой.
Положительных доказательств зависимости одних форм от других нет. Во-первых, ни
один из древних писателей не указывает на эту формальную связь, если же
некоторые и сопоставляют христианский храм с Иерусалимским, то при этом имеют в
виду только их внутреннее символическое, но не внешнее соотношение. Так,
например, они сравнивают славу храма христианского со славою храма
Иерусалимского (Евсевий), вместе с тем сравнивают христианский храм с ковчегом
Ноя и даже с вершинами гор, на которых Авраам и Илия приносили жертвы. Но на
основании подобных сопоставлений нельзя заключить, что прототипом храма
христианского был храм Соломона, ковчег Ноя, вершины горы; да и сами авторы
имели при этом в виду совершенно другие цели.
Столь же мало
доказывается связь христианского храма с Иерусалимским посредством сравнения их
архитектурных форм. Прежде всего, если Иерусалимский храм делился на 3 части –
двор, святилище и святая святых, подобно делению храма христианского, то это
сходство не доказывает ничего. Части эти в храме Иерусалимском имели совершенно
другое значение, нежели в храме христианском, и притом они известны были также
и в храмах языческих: там были пронаос (преддверие), наос (храм) и целла
(внутреннее святилище). То же нужно сказать и относительно общераспространенной
четвероугольной формы. Если определять прототип христианского храма такими
общими признаками, то с равным правом можно видеть его и в храмах языческих, и
во многих гражданских зданиях. Но такая постановка дела уничтожает
существовавшее в древности различие архитектурных стилей, а потому не может
быть допущена. Необходимо в данном случае определить более точно архитектурные
черты Иерусалимского храма и показать, представляет ли он собою самостоятельный
архитектурный тип, или имеет ли, по крайней мере, хотя несколько таких
типических черт, которые ручались бы за его генетическую связь с архитектурою
христианской базилики. Ближайшее ознакомление с делом не подтверждает этой связи.
История говорит нам, что храм Иерусалимский (разумеем храм Соломонов; а храм
Ирода, позднейший, построен в стиле классической архитектуры) построен был
работниками из различных стран, построен отчасти из камня, отчасти из дерева;
стены его были изукрашены внутри и извне резными или лепными изображениями
херувимов, пальм и цветов. Колонн здесь не было, кроме тех двух, которые стояли
при входе в храм.
Мы не описываем
подробностей этого храма и обращаем внимание лишь на те черты, которые имеют
значение в определении его архитектурного типа. Что же показывают эти черты?
Они показывают то, что храм Иерусалимский примыкает к финикийскому
архитектурному типу. Из всех культурных народов древности одни только
вавилоно-ассирияне и финикияне употребляли дерево для своих построек.
Применение его финикиянами объясняется из условий их жизни. Это были приморские
жители страны, изобилующей лесом, – народ, заправлявший всесветною морскою
торговлею; им нужны были корабли, на построение которых они и должны были
изощрять свои строительные способности. Само собою понятно, что для этих
построек финикияне должны были употреблять дерево, легчайший материал, а не
камень; отсюда – наклонность их к деревянным постройкам. Ту же наклонность мы
видим и у евреев, хотя она развивалась здесь под влиянием других обстоятельств.
История евреев показывает, что они часто должны были переменять место своего
жительства: то жили они в Египте, то в пустыне, то в земле обетованной, то в
Вавилоне. Естественно, такая скитальческая жизнь не могла развивать в них охоты
к капитальным сооружениям. В жизни народа, равно как и в жизни отдельного
индивидуума, отсутствие прочной оседлости сопровождается отсутствием забот о
прочной материальной обстановке.
В применении к
Иерусалимскому храму все это имеет следующее значение: евреи любили легкие
постройки, отсюда их привычка употреблять в дело дерево; употребление же
дерева, в свою очередь, влекло за собою архитектурные особенности, отличавшие
эту архитектуру от египетской и греческой и сближавшие ее с архитектурою
финикийскою. Деревянные балки, стены, обложенные деревом или золотыми
пластинками, бронзовые колонны и обилие литейных произведений, – вот главные
признаки этого сближения. Если на основании этого нельзя безусловно утверждать,
что евреи заимствовали способ постройки у финикиян и наоборот, то по крайней
мере видно, что постройки тех и других однородны. Присовокупим к этому известие
ветхозаветных книг о том, что в построении Иерусалимского храма принимали
участие финикийские мастера (3 Цар. 5–8). Следует, впрочем, заметить, что
некоторые из отмеченных в архитектуре финикийской особенностей, именно:
употребление в постройках кедрового дерева, драгоценные металлические оболочки
разных частей здания и бронзовые колонны, – находили применение и в архитектуре
вавилоно-ассирийской.
Как бы то ни было, однако
не подлежит сомнению то, что храм Иерусалимский принадлежит к иному типу, чем
храм христианский. Если продолговатая форма, апсида, деление внутреннего
пространства на несколько нефов колоннами античного характера, возвышение
среднего нефа над боковыми и достаточное освещение составляют отличительные
признаки христианского базиличного храма, то в Иерусалимском храме нет ни
одного из этих признаков, за исключением неопределенного первого; и
следовательно, нет прямых оснований считать архитектуру Иерусалимского храма
образцовой по отношению к архитектуре храма христианского. О внутреннем
убранстве храма христианского и его символике в их отношении к убранству и
символике храма Иерусалимского говорить здесь считаем излишним.
Наряду с храмом
Иерусалимским выступают на сцену при решении нашего вопроса храмы языческие.
Наклонность к символизму и сопоставлениям отвлеченного характера издавна
побуждала археологов искать прототип христианского храма в зданиях религиозного
характера, т.е. в других храмах, хотя бы языческих. И, по-видимому, попытки
этого рода имеют свои основания. История показывает, что каждая вновь
зарождающаяся или только переменяющая свой местный центр религия пользуется для
своих целей готовыми формами храмов других религий. Так, например,
турки-магометане по завоевании Константинополя превратили христианский храм Св.
Софии в мечеть, и наоборот: христиане после покорения испанских арабов
превратили кордовскую мечеть в христианский храм. Современные нам христиане,
например протестанты, также охотно применяют к целям своего богослужения храмы
католические.
Почему же древние
христиане не могли воспользоваться готовою формою греко-римских языческих
храмов? Препятствием к этому обыкновенно выставляют распространенное среди
древних христиан предубеждение против всего того, что прямо или косвенно
относилось к языческому культу. Но это предубеждение едва ли здесь могло иметь
место, потому что языческие храмы, при превращении их в храмы христианские,
подвергались переменам и освящались. И действительно, история показывает нам
несколько примеров превращения храмов языческих в христианские. Так, например,
храм в Антиохии, известный под названием «Tychaion», был превращен в церковь Св. Игнатия; Пантеон
стал церковью Всех Святых. Факты эти, по-видимому, показывают, что древние
христиане, презирая язычество, не распространяли, однако, своего презрения на
все, безусловно, языческие храмы.
Несмотря на всю
правдоподобность этих соображений и фактов, мы положительно утверждаем, что
христианский храм произошел не из храма языческого. Факты превращения языческих
храмов в христианские оспаривать невозможно: за достоверность их ручаются
памятники, сохранявшиеся до наших дней. Однако ж они отнюдь не могут служить
порукою в вопросе о происхождении храма христианского. Почему? Потому что
превращение этих храмов относится к тем, сравнительно позднейшим, временам,
когда антагонизм между язычеством и христианством ослабел, а произошло это не
ранее V–VI вв.: до этого же времени история представляет
целый ряд фактов и императорских эдиктов, направленных к разрушению как
языческих алтарей, так и статуй, священных рощ и храмов. Со стороны
архитектурной если и возможно допустить между теми и другими аналогию, то в эту
аналогию не входит, во всяком случае, тип базиличный. В числе языческих храмов
не было ни одного, который бы представлял собою совокупность таких черт, какими
характеризуется христианская базилика. Сходство же между теми и другими в
составных частях, применении колонн (неодинаковом), скульптурных и живописных
украшений, ориентации, в продолговатости плана имеет слишком общий характер.
Если затем мы посмотрим
на другие греко-римские постройки, то в числе их найдем такие, к которым близко
уже подходит христианский храм по своей архитектуре. Развалины таких зданий
существуют доселе: разумеем те здания, которые назывались базиликами. Этот род
сооружений впервые явился, по всей вероятности, в Греции и во времена Катона
Старшего, во II столетии до Р. X., занесен был в Рим. Назначение таких зданий
состояло в том, чтобы служить местом судебных отправлений и торговли. По своей
форме они были продолговатыми четырехугольными зданиями, разделенными внутри по
направлению длины колоннами на несколько частей, из которых средняя была выше и
шире боковых, с архитравами, фризами, карнизами, фронтонами и портиками.
Сведения об этих зданиях
заимствуются отчасти из существующих памятников, главным же образом из
сочинения Витрувия, писателя I
христианского века, который написал сочинение «De architecture» и в нем сообщил сведения о древней базилике. На основании этих данных
отметим сходные черты: 1) как языческие, так и христианские базилики имели в
своем плане вид продолговатого четырехугольника; 2) те и другие имели
окружающие стены; 3) разделялись по направлению длины двумя или четырьмя рядами
колонн на три или пять нефов; 4) те и другие имели апсиды; 5) средний неф в тех
и других был шире и выше боковых; 6) в тех и других на узких сторонах
устроялись фронтоны; 7) над колоннами – как в языческих базиликах, так и в
христианских – находились архитрав, фриз и карниз; 8) как те, так и другие
имели двускатные кровли; наконец, 9) как языческие, так и христианские базилики
имели портики перед входом.
Таковы главные черты
сходства между христианскою и языческою базиликами. Черты эти настолько важны,
что обусловливают типичность целого, и следовательно, основанное на них
сходство тех и других базилик не есть сходство случайное или детальное, но
необходимое и коренное: оно ведет к заключению об однородности архитектурного
типа тех и других зданий. В деталях те и другие могли быть различны, но
подобное различие можно находить и при сравнении языческих базилик между собою:
оно свидетельствует о некоторой самостоятельности христианских архитекторов,
вызванной требованиями христианского богослужения, но не опровергает
однородности архитектурного типа.
Число таких зданий в
древнем мире было не особенно значительно, и большая часть их в развалинах
сохранилась доселе. Знаем мы из истории базилику Катона Старшего, который прежде
других пересадил эти постройки на римскую почву; знаем базилику Эмилиеву,
Семпрониеву, Опимиеву. Сохранились до нас развалины базилик: Константантиновой,
Юлиевой на Римском Форуме, Ульпиевой на Форуме Траяна и Помпейской в Помпее,
лучшей из всех по своей сохранности. Общие типические черты их достаточно
обрисованы Витрувием.
Итак, что же из всего
этого следует? Признать ли христианский храм подражанием языческой базилике
единственно на основании их сходства и ввиду того, что по времени последняя
предшествует первой? На это мы еще не имеем права по той причине, что переход
формы из одной сферы в другую не доказан путем историческим. Когда мы докажем,
что родство этих форм – не случайное явление, что сама жизнь с ее неизбежными
условиями приводила христиан к этой именно, а не другой форме, что это не есть
явление неожиданное, а следствие постепенной свычки с формою базилики, тогда мы
близко подойдем к решению вопроса о прототипе христианского храма.
Первенствующие христиане на первых порах посещали молитвенные собрания
евреев, но это было возможно лишь для христиан из евреев, притом последние
могли являться сюда лишь для молитв общих; между тем кроме христиан-евреев было
много христиан из язычников, которые не могли участвовать в еврейских молитвах;
затем, кроме общих молитв с евреями, были у христиан особые молитвы,
соединенные с Евхаристиею. Поэтому уже на самых первых порах христиане устроили
особые собрания, в особых местах: такими местами были частные дома,
принадлежащие членам христианской общины. Сам Христос совершил первую
Евхаристию в частном доме; Ему подражали в этом случае и апостолы: они
собирались в частных домах (Деян. 12. 12; 20. 8; Рим. 16. 3–4; Кол. 4. 15; Флп.
4. 22), но дома эти были определенными местами собраний христиан. Для собраний
отводились лучшие и удобнейшие помещения, которые назывались икосами. Несколько
позднее, когда в состав христианской общины начали вступать лица более или
менее богатые, собрания христиан стали происходить в домах этих богачей, именно
– в помещениях, называемых базиликами. История говорит нам положительно, что
именно эти помещения предоставлены были в распоряжение христиан. Известно
(Витрувий), что высокопоставленные и богатые граждане Рима владели не только
великолепными дворцами, виллами и садами, но имели также в своих домах
базилики, которые не уступали по своему великолепию базиликам общественным: в
них происходили частные совещания и мировые суды. Такие помещения были во
дворце Домициана, на виллах Гордиана и Адриана. В этих-то помещениях и
происходили собрания христиан. Форма этих помещений определяется отчасти на
основании описания их у Витрувия, отчасти на основании драгоценных памятников,
открытых в Помпее и на Палатинском холме в Риме. Рассмотрим же формы икоса и
домовой базилики.
По общепринятому плану нормальный античный дом делится на две половины:
переднюю и заднюю; передняя половина общественная, задняя – семейная. При входе
в первую половину находятся так называемые area (двор) или area privata (частный двор), окруженные колоннами или
деревьями; за ними следует прихожая комната, или вестибул; отсюда одна или
несколько дверей ведут в центральную часть передней половины – атриум (atrium): это квадратное помещение, которое освещалось через отверстие в кровле;
через то же отверстие падала в бассейн атриума дождевая вода. К атриуму
примыкают с задней стороны и от него получают свет tablinum (гостиная) и alae
(боковые пристройки). Такова передняя половина античного дома. Узкий коридор
ведет отсюда в заднюю половину. Как в передней половине центральное помещение
составляет атриум, так и в задней ему соответствует перистиль – роскошное
помещение с бассейном и фонтаном – светлый, просторный, усаженный цветами и
украшенный колоннами преимущественно коринфского ордера. Вокруг этой комнаты
были расположены и другие помещения: спальные, кладовые, столовые.
Столовые помещения представляют особенный интерес. Одни из них назывались
триклиниями, по числу трех скамеек, находившихся здесь, другие – большего
размера – икосами; последние составляют одно из лучших помещений в античном
доме, и на них по преимуществу сосредоточивалось внимание архитекторов и
художников. Они имели форму продолговатого четвероугольника и украшались
колоннами в два ряда, возвышавшиеся один над другим; средний неф в некоторых из
них был выше и шире боковых; некоторые имели, по всей вероятности, и
полукруглые ниши для установки статуй.
В этих-то помещениях и собирались для богослужения первые христиане. Что
это действительно было так, за это ручается, во-первых, их наименование icos;
во-вторых, удобство этих помещений: икосы находились в уютной части дома, куда
не проникали ни уличный шум, ни нескромный глаз. Притом же помещение это было
столового комнатою, а для христиан и нужна была именно она, так как они в своих
собраниях совершали Евхаристию и устраивали общие обеды. В-третьих, помещения
эти отличались обширностию, а следовательно, и с этой стороны они были удобны
для христианских собраний, в которых принимали участие если не тысячи человек,
то иногда сотни. Наконец, в-четвертых, по соседству с ними находились перистили
с водою, необходимою для крещений и омовений.
Близко подходит к форме этих помещений и форма домовых базилик. На это
сходство нам указал уже Витрувий. Подробности их устройства Витрувий не описал,
но она до некоторой степени может быть восстановлена по развалинам домовой
базилики на Палатинском холме в Риме. Здесь, во дворце Флавиев, базилика имеет
форму также продолговатого четырехугольника, с колоннами по направлению длины;
на одной из узких сторон ее находится полукруглый выступ, или апсида,
отделенная от средней части колоннами. Вход в нее находится на узкой стороне,
противоположной апсиде. Нужно предполагать, что средний корабль этого помещения
был возвышен: это необходимо предположить ввиду того, что оно, находясь в
стенах других помещений, не могло быть освещено иначе, как посредством окон,
устроенных в верхних частях среднего нефа, возвышающегося над соседними
стенами.
Принимая в соображение эти две сходные формы, мы приходим к следующим
выводам:
1) если верно, что христиане собирались для отправления своего
богослужения в помещениях, известных под названием oicos–икос;
2) если верно, что для этой цели служили также частные базилики,
принадлежавшие богатым членам христианской общины, то:
3) мы имеем уже понятие о форме первоначальной церкви: форма эта
открывается нам в Помпейских икосах и частных базиликах, и, следовательно,
4) первоначальный зародыш христианского храма лежит в названных двух видах
помещений; другими словами: прототип христианского храма нужно искать в икосе и
частной базилике.
В самом деле, приступая к сооружению христианского храма самостоятельного,
христианские архитекторы не могли отрешиться от старых привычек, воспитанных
практикою предшествовавшего времени, и должны были руководиться в выборе форм
для храмов тем, что они видели в домовых церквах. Но тут по необходимости
должно было явиться некоторое затруднение: форма домовой церкви определяла лишь
внутреннее планорасположение храма, так как она включена была в состав другого
здания; теперь же, в отдельном храме, нужно было дать ей самостоятельную
постановку. Затруднение не особенно значительное для знающего дело архитектора
и само по себе, но оно должно было тотчас же рассеяться потому, что форма икоса
и частной базилики имела в постройках того времени и самостоятельную
постановку, именно – в базиликах общественных, или Forensis. Таким образом,
архитектор имел готовые прототипы и для внутреннего устройства храма и для его
внешних форм: первые были даны ему в частной базилике, применение которой к
целям христианских собраний освящено было древним преданием, вторые – в
базилике Forensis, которая тогда была общеизвестным явлением и
считалась представительницею одного из лучших архитектурных типов. Из этих-то
элементов и сложился самостоятельный христианский храм базиличного типа.
Если мы теперь попытаемся проследить историю этого типа, то найдем, что
период блестящего состояния его был не особенно продолжителен. Первые начала
базиличных храмов могут быть с вероятностию отнесены к концу II
столетия; в III в. они уже были весьма распространены в Риме, так
что во время гонения на христиан при Декии таких храмов в одном Риме было
разрушено до 40. Но, без сомнения, самое удобное время для развития церковной
архитектуры наступило со времен Константина Великого. Константин и Ликиний,
после победы над Максенцием, обнародовали эдикт, которым предоставлялась
христианам полная свобода в отправлении богослужения; вместе с тем, этим
эдиктом восстановлялись их права на владение теми богослужебными местами,
которые были отняты у них язычниками, и объявлялось христианам неограниченное
право на построение новых церквей. Сам император на свои средства не только
восстановлял церковные здания, разрушенные язычниками, но и строил новые,
отнимал их даже у еретиков и отдавал в распоряжение православных, а храмы
язычников, их статуи и алтари повелел разрушать.
Так построено было Константином и его матерью Еленою множество церквей в
Иерусалиме, Вифлееме, Никомидии, Антиохии, Мамбре, Гелиополе и Византии.
Материал для этих построек архитекторы времен Константина заимствовали из
языческих зданий: так было поступлено, например, при построении Латеранского
баптистерия; церковь Св. Петра также построена отчасти из материала, взятого из
цирка Нерона. Мраморные плиты и колонны сносились нередко в одно место отовсюду
и становились рядом в ущерб симметрии и изяществу. Обычай этот долго применялся
в строительной практике и после Константина, как на Востоке, так и на Западе:
ясные следы его можно видеть доселе в некоторых римских церквах.
После Константина Рим утратил свой прежний блеск, благодаря перенесению
столицы в Византию. Тем не менее преемники Константина не оставляли начатое им
дело построения храмов, и даже ненавистное отношение к христианству со стороны
Юлиана не могло остановить этого дела. С каждым годом вырастали новые храмы по
лицу земли; особенно много храмов было построено во времена Феодосия: как
государственная власть, так и духовенство и монашество много содействовали
этому делу. Постройками Теодориха в Равенне, Вероне и Риме оканчивается период
образования базиличного типа. Уже в постройках этого императора в Равенне,
сохранившихся отчасти доселе, весьма заметно проглядывает влияние византийской
архитектуры. Греческий гений воскресает теперь снова и создает чудную Софию в
Константинополе, которая доселе составляет предмет всеобщего удивления, даже
простирает свое влияние и на Русь и на Запад.
Здесь выступает уже новый архитектурный стиль. Правда, стиль базиличный
продолжает существовать еще долго после того, отчасти – даже доселе, но он уже
перестал в то время жить полною жизнию, заключающею в себе задатки развития и
прогресса, и остался архаическою формою. Все, что есть лучшего и оригинального
в этом стиле, явилось в древний период его существования, и это можно
подтвердить уцелевшими доселе памятниками. Памятники эти рассеяны во многих
местах, особенно же в Риме, Равенне, Иерусалиме, Вифлееме и Сирии. Храмы же
Флоренции, построенные в этом стиле, составляют произведение средних веков. В
ряду римских храмов этого типа первое место принадлежит храму Святого Петра.
Построен он был первоначально при Константине Великом, но в XVI
и XVIII вв. он был перестроен заново в стиле Возрождения.
О древней же базилике сведения заимствуются из старинных рисунков
архитектора Альфрани, сделанных еще до возобновления этого храма. Это было
громадное сооружение около 57 сажен длины и 30 сажен ширины; сверх того, пред
нартексом находился особый атриум длиною 34 сажени и равной с остальным зданием
ширины. Наружные формы этого храма не отличались особенным изяществом, но
скудость внешних украшений вознаграждалась богатством внутреннего убранства.
Храм был пятинефный; колонны среднего нефа имели прямой горизонтальный
антаблемент, а колонны боковых нефов соединены были между собою посредством
арок. Над антаблементом среднего нефа возвышались стены, украшенные
мозаическими изображениями. Здесь же устроены были полуциркульные окна, в
простенках которых находились изображения святых во весь рост. Алтарь отделялся
от средней части храма двенадцатью колоннами, заменявшими наш иконостас; на
колоннах были поставлены статуи двенадцати апостолов. Между алтарем и среднею
частию храма находился поперечный неф, трансепт, к которому сбоку примыкали два
круглых здания. Во времена Константина Великого построена была также церковь Святого
Креста в честь обретения Креста царицею Еленою, и церковь Св. Пуденцианы.
Церковь Марии Великой – памятник V века. Базилика Св.
Апостола Павла за стенами Рима построена была в период времени 360–400 гг., но
в IX в. она была разграблена сарацинами, в XI
в. повреждена пожаром от молнии, а в 1823 году новый пожар разрушил ее до
основания. На месте древнего здания теперь красуется новое, и хотя оно мало
заключает в себе остатков древности, но производит впечатление необыкновенно
изящного и величественного сооружения. Построено это новое здание по старому
плану и образцу. В том же столетии явилась базилика Св. Сабины на Авентийском
холме, несколько позднее – в V столетии построена
базилика Св. Петра в Узах (440–462 гг); еще позднее – базилики Св. Агнии и базилика
Св. Лаврентия за стенами Рима, представляющие ту замечательную особенность, что
над малыми нефами их устроены были галереи, сближающие их с храмами
византийскими; из позднейших базилик любопытна также Климентова (VIII
в.) по полноте составных частей и внутреннему устройству.
ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ХРАМОВ
Особенности в устройстве алтаря в русских храмах.
– Киворий. –
Иконостас. – Амвон. –
Средняя часть храма. – Притвор
Внутреннее расположение и убранство христианских храмов определялось
целями христианского богослужения и символическим воззрением на их значение.
Как всякое целесообразное здание, христианский храм должен был удовлетворять
тем целям, для которых он предназначался. Цели же эти были троякого рода;
во-первых, совершение богослужения, во-вторых, помещение верных, в-третьих,
помещение оглашенных и кающихся. Отсюда явились в храме три главные части: алтарь,
средняя часть храма и притвор. Каждая из них, применительно к своему
назначению, имела особое устройство. Первая и важнейшая часть христианского
храма – алтарь. По обычаю древней церкви часть эта всегда помещалась в
полукружии на восточной стороне храма. Ориентация эта имела свое символическое
значение. Во всех наиболее распространенных религиях мира языческого то или
другое направление храма стояло в связи с мировоззрением народа, а самое
мировоззрение в значительной мере определялось географическими условиями
местности. Горная местность признавалась по преимуществу местом жилища
Божества; поэтому если она по отношению к данной местности лежала к северу, то
север имел символическое значение, если к востоку, то и символическое значение
усвоялось востоку. Согласно с этим и храмы языческие обращались в ту или другую
сторону: иногда храм был обращен алтарем к северу (этрусское или тусское направление);
так именно ориентирован был Капитолийский храм в Риме; иногда – к западу – так
ориентированы были римские храмы в Риме со времен Нумы (Плутарх). Такое же
западное направление имел и Иерусалимский храм; следовательно, евреи молились в
храме, обратясь лицом к западу; обращаться в молитве к востоку они не имели
права, так как в этом случае оказалось бы совпадение с огнепоклонниками и
почитателями высот. Христиане же со своей стороны усвоили высшее символическое
значение востоку, потому что на востоке был рай; сверх того, страна эта вообще
признавалась символом добра в противоположность западу, символу зла; и сам
Христос олицетворяем был в образе этой страны (востока): «Восток имя Ему...»,
«Восток с высоты...». Отсюда объясняется древний обычай при крещении обращаться
сначала лицом к западу, а потом – к востоку, в знак отречения от диавола и
сочетания со Христом; отсюда также произошел обычай при совершении
торжественных процессий и венчаний двигаться по направлению к востоку. Под
влиянием таких символических воззрений на восток явился обычай обращаться в
молитве к востоку, а вместе с тем и обычай обращать алтарь христианского храма
к востоку. Обычай католиков и протестантов обращать храмы алтарем к западу
основан на отдельных случаях обращения древних храмов алтарем к западу, а не на
общем обычае, и вполне установился на Западе не ранее XIII в.
Итак, христианский алтарь по древнему обычаю должен быть на востоке; в нем
сосредоточены все важнейшие предметы для богослужения. Прежде всего здесь
находился престол: в подземных церквах престолом служила гробница мученика, по
необходимости имевшая форму удлиненного четвероугольника и примыкавшая плотно к
алтарной стене; такое устройство имеют доселе престолы у католиков. В древних
же надземных церквах престолы стали устрояться почти квадратные, на одной или
четырех подставках, деревянные, в виде обыкновенного стола; иногда также
приготовлялись они из драгоценных металлов и камней; эта форма престола была
удержана на Востоке и перешла от греков к нам. Почти все древние престолы в
русских храмах деревянные, в виде обыкновенных столов, и находятся посреди
алтаря, а не у стены.
Над престолом в древних церквах находился киворий или род балдахина,
поддерживаемого четырьмя колоннами; то же было и в церквах русских. Под киворием
над срединою престола висел перистерий; это сосуд в виде голубя, в котором
хранились запасные Дары на случай причащения больных и для преждеосвященных
литургий; в церквах древнерусских он так же встречался, как встречается и
доселе (в московском Успенском соборе), но он потерял свое первоначальное
практическое значение: голубь этот теперь служит уже не сосудом, а только
символом Святого Духа. На задней стороне престола утверждался крест, а по
сторонам его – шесть светильников. За престолом в алтарной стене устраивались
места епископа и пресвитеров; они сохранились доселе в некоторых древнерусских
церквах.
Алтарь, как в храмах древнехристианских, так и русских, отделялся от
средней части храма особою преградою, на месте которой теперь находится
иконостас. Иконостас в том виде, в каком он является теперь в наших храмах, не
был известен в древности: о нем не упоминают ни греческие историки, ни
литургисты, не только древнейшие, но и позднейшие, каков, например, Симеон
Солунский, написавший в XIV в. особое сочинение о храме. Нет таких
иконостасов и в сохранившихся доселе храмах ни на Востоке, ни на Западе. Не
было его и в России. Доказательством этого служит то, что до настоящего времени
на столбах, отделяющих среднюю часть храма от алтаря, сохранились в некоторых
местах фресковые живописи (Мирожский монастырь, Липна и другие). Очевидно, что
живописи в этом месте могли иметь смысл лишь в том случае, если они были видимы
народом, а не закрывались иконостасом. Письменные памятники русской старины
также умалчивают о них.
Иконостасы образовались постепенно; в XV–XVI вв. они были уже известны в России. В древнейшие же
времена на месте иконостаса находилась лишь низкая алтарная преграда в виде
решетки или колоннады с карнизом, одним рядом икон над ним и с дверями и завесою
посредине. Так было в церквах древнехристианских, византийских и русских.
Введение иконостаса, впрочем, не привнесло во внутреннее устройство храма
что-либо новое. Это та же самая алтарная преграда, лишь в видоизмененной форме:
назначение ее то же – отделять алтарь от средней части храма. Что касается
икон, помещаемых в иконостасе, то они также существовали в храмах еще задолго
до его появления в окончательном виде, только занимали другие места. Дотоле они
помещались на триумфальной арке (в церквах базиличного типа), в алтарной
апсиде, парусах сводов, на стенах средней части храма, а в XV– XVI
вв. они были перенесены на иконостас. Причины этой замены нужно искать,
во-первых, в самом устройстве древнерусских храмов, во-вторых, в трудностях, с
которыми соединена была стенная живопись. Древнерусские храмы имели узкие
щелеобразные окна и потому были недостаточно освещены, особенно это нужно
сказать относительно алтарей, поэтому стенная живопись в темном алтаре, вдали
от народа, была мало видима и не вполне достигала цели. Притом же,
вследствие сырости, которая неизбежна была в холодных,но никогда не отоплявшихся
храмах, живопись могла скоро портиться. Сверх того, монументальная живопись,
особенно фресковая, требовала технического умения и опытных мастеров, которых
не везде можно найти; между тем как производство икон на дереве в XVI
в. достигло у нас значительных размеров и доставляло верное средство к замене
фрески деревянною иконою. Мы не говорим уже о храмах деревянных, где
единственно удобную форму живописи представляла живопись на дереве.
Таким-то способом и произошел наш русский иконостас, с прекрасными и
разнообразными резными тяблами и царскими вратами, с отличными иконами. В
настоящее время он состоит из четырех и более ярусов: в первом, нижнем, помещаются
– по правую сторону царских врат – икона Спасителя и икона храмового святого;
на левой – икона Богоматери; на царских вратах – Благовещение, а на северной и
южной дверях – ангелы, диаконы или святители. Во втором ярусе – над царскими
вратами – Тайная вечеря, а по обеим сторонам ее – иконы двунадесятых
праздников; в третьем ярусе – Деисис посредине, а по сторонам его апостолы; в
четвертом ярусе – Богоматерь с пророками по сторонам. Венец иконостаса
составляет Святой Крест.
На границе между среднею частию и алтарем находилась солея – возвышенное
место пред алтарною преградою. Во всех византийских и древнерусских храмах она
составляла обычное явление. Возле нее находились амвоны – два или один – для
чтения Священного Писания и произнесения поучений. По форме своей
древнехристианские амвоны (церковь Св. Климента в Риме) напоминают несколько
наши аналои, но они были выше и приготовлялись или из камня, или металла. У нас
в России в XVII в. наименование амвонов перенесено на ту часть солеи,
которая выдается внутрь церкви и на которой диакон читает ектений. А что
касается амвонов высоких, то они были у нас только до 2-й половины XVII
в.; памятником этого рода может служить деревянный амвон в петербургском музее
Императора Александра III, известный под названием
«халдейской пещи»; другой образец не столь древнего происхождения – в псковском
Троицком соборе. Часто встречаются изображения этих амвонов в старинных лицевых
рукописях.
Средняя часть храма, известная под именем «корабля церкви», служила
помещением для мирян. Здесь, впереди, в соборных храмах устраивалось иногда
царское место. Особые места здесь были отведены для мужчин и особые – для
женщин. Это разделение полов имеет свои исторические основания: по обычаю всех
восточных народов, женщины отделялись от мужчин, как в жизни общественной, так,
в частности, во время богослужения; в еврейских синагогах женщины помещались
вверху на хорах, а мужчины внизу. Обычай этот был перенесен и в христианство. В
храмах базиличного типа женщины иногда отделялись от мужчин особою решеткою уже
во времена святого Златоуста; в храмах же византийского типа разделение полов
достигалось иначе, именно: все нижнее помещение храма предоставлено было здесь
мужчинам, а женщины помешались на верхних хорах или галереях, известных под
названием гиниконитов. В церквах древнерусских как мужчины, так и женщины
помещались в средней части храма: мужчины в южной части, женщины – в северной;
о каких-либо искусственных преградах для разделения полов в наших древних
храмах ничего не известно. Византийские хоры составляли обычную принадлежность
больших древнерусских храмов и назывались полатями, но они назначались не для
женщин, а отчасти для высокопоставленных лиц и отчасти – для монахов. Такие
хоры доселе уцелели в старинных храмах, например в киевском и новгородском
Софийских соборах.
Если считалось в древности необходимым отделение женщин от мужчин, то тем
более необходимо было отделение от верных – оглашенных и кающихся. И
действительно, соответственно своему нравственному состоянию, лица эти
помещались особо в третьей части храма. Она имела несколько отделений:
внутренний нартекс, входивший в состав храмового корпуса, внешний нартекс,
состоящий из колонн пред входом во внутренний нартекс, и еще особый атриум, или
двор. Здесь-то и располагались оглашенные и кающиеся. Со временем, когда
институт оглашенных и кающихся прекратил свое существование, то, казалось бы, и
третья часть храма должна была уничтожиться, но этого не случилось; она
сохранилась, но получила иное назначение; во внутреннем нартексе в византийский
период стали отправлять литии, полагать умерших в ожидании погребения; здесь же
стояли монахи, не удостоенные монашеского посвящения. С таким назначением
перешел нартекс и к нам в Россию; а нартекс внешний и атриум, как утратившие
свое значение, вовсе не перешли к нам, и лишь впоследствии место их заступили
русские крыльца.
3.1.1.6.
Салько A.M. Руководство к устройству
каменнных
и деревянных
церквей
(Саратов, 1898, с. 12, 13.)
Инженер-архитектор
Алексей Маркович Салько так определил цель издания Руководства к устройству
каменных и деревянных церквей с сообщением мер к более продолжительному, в
прочном виде, существованию церквей в Империи: «Попечители или уполномоченные крестьянских общин, под руководством священников,
пользуясь этим руководством, могли бы довольно точно определить размеры и
другие данные предполагаемой ими церкви и при отсутствии архитектора
наблюсти за прочным производством работ».
ВЫБОР МЕСТ ПОД ПОСТРОЙКУ ЦЕРКВЕЙ
Место под
постройку церкви должно быть избираемо на площадях по возможности среди
местности, занятой прихожанами, в расстоянии не менее 20 саж.(42 м) от строений
в селениях и не менее 10 саж. (21 м) – в городах, согласно 220, 432 и 433
статей Строительного Устава по продолжению свода законов 1876–1879 гг. Место
должно быть возвышенное и иметь стоки во все стороны от здания церкви; при
неимении сего, это должно быть достигнуто увеличением высоты цоколя, с
подсыпкой земли или вообще планировкой окружающей местности. При одинаковых в
этом отношении условиях следует давать предпочтение месту с более прочным
грунтом, а потому перед выбором места следует исследовать грунт в нескольких
подходящих местностях.
РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ
Общая площадь
средней части церкви и трапезной рассчитывается так, чтобы в большие праздники
могли удобно поместиться все прихожане, полагая 18 человек на кв. саж. (4 чел/м2)
(допуская же скученность, можно считать 24 человека на кв. саж. (5 чел/м2);
так, например, на 1000 человек молящихся понадобится для помещения их, считая
по 18 человек на кв. саж, 56 кв. саж. площади (255 м2) и, кроме
того, для клиросов и солеи около 7 кв. саж.(32 м2); под пилоны
нужны, если церковь большая, около 7 кв. саж. (32 м2), а всего
площади внутри с трапезной 70 кв. саж. (320 м2). Точное
распределение их между средней частью и трапезной должно быть предоставлено
архитектору, иначе он будет затруднен в придании зданию красивой формы.
Наиболее выгодная в экономическом отношении и удобная для молящихся форма
церкви с алтарем без трапезной, с колокольней в одной из малых глав над средней
частью; при этом длина и ширина церкви (которые бывают обыкновенно одинаковые)
на 800 прихожан будет по 6,5 саж.(14 м) внутри. Главный алтарь внутри в длину и
ширину должен быть не менее 3 сажень (6,4 м). Форма его может быть полукруглая
или с несколькими гранями. Если церковь с трапезной и колокольней, то последняя
обыкновенно проектируется длиною и шириною около 3,5 сажень (7,5 м) с наружными
стенами; при 1-м ярусе колокольни по обеим сторонам ее делаются сверх
вышесказанной меры помещения для лестницы, идущей на колокольню, и сторожей.
При определении размеров церкви следует иметь в виду прирост населения; при
значительном увеличении числа жителей в приходе сверх тысячи прибавляется новая
церковь.
ХОДАТАЙСТВО О РАЗРЕШЕНИИ НА ПОСТРОЙКУ
ЦЕРКВЕЙ
Согласно 234
статьи строительного Устава в циркулярах МВД все просьбы на постройку и
расширение церквей подаются от прихожан епархиальному архиерею, с изъяснением
побудительных к этому причин, с заявлением о имеющихся средствах на постройку,
с приложением планов с фасадами, копий с них, смет стоимости, пояснительных
записок к проекту и подписей архитекторов о принятии ими на себя наблюдения за
работами. В этой же просьбе прихожане могут просить епархиальное начальство об
исходатайствовании через Святейший Синод у министра государственных имуществ
отпускать им для постройки или расширения церкви лес из казенных дач безденежно
на основании 223 статьи строительного Устава. Означенные ходатайства о
постройке церквей разрешаются епархиальными архиереями по утверждении проектов
губернским правлением, куда они препровождаются консисториями на основании
прибавления к Северной Почте за 1876 г. № 3. Лица, составляющие проекты на
постройку и расширение церквей, кроме плана и фасадов здания, прикладывают
параллельно фасадам и общие разрезы (продольный и поперечный) в том же масштабе
(1 саж. в 1/2 дюйме), и общие размеры тех отдельных частей, где встречаются
своды, с тем, чтобы своды эти выбрались вместе с опорами до основания и притом
в детальном масштабе не менее 1 саж. в дюйме; толщина стен и сводов
обозначается цифрами. В пояснительной записке прилагают расчет устойчивости или
в случае сложности здания, соображения, на которых основаны размеры частей
здания и доводы в пользу самостоятельной и общей их устойчивости. Если же проект
составлен по образцу уже существующего несколько лет прочного здания, то
объяснить, какого именно здания и что против него изменено. В проектных
чертежах и в пояснительной записке изображают и описывают как местность и
грунт, так равно глубину и способ его последования, а также все данные,
необходимые для полного обсуждения проекта.
Архитекторы,
наблюдающие за постройкой церквей, должны сообщать строительным отделениям как
о начале, так и об окончании вчерне здания, а в затруднительных случаях обращаться
за советами и указаниями (официальное прибавление к Северной Почте за 1876 г. №
3).
Следует также
иметь в виду 208 статью строительного Устава, запрещающую устраивать церкви и
колокольни при лавках; циркуляр Техническо-строительного комитета от 20 января
1870 г., запрещающий при каменных церквях делать деревянные колокольни, за
исключением одноэтажных навесов на деревянных столбах в расстоянии не менее 4
сажень от церкви и циркуляр Техническо-строительного комитета от 4 июля 1869,
по которому проекты каменных церквей с деревянными сводами, куполами и кровлями
губернскими правлениями не могут быть утверждаемы и каждый раз должны быть
представлены на усмотрение министерства внутренних дел.
Так же точно,
на основании 206 статьи не могут быть разрешаемы, без согласия Святейшего
Синода, перестройки или расширения церквей замечательных по зодчеству или
историческим воспоминаниям и все церкви и часовни в столицах.
3.1.1.7.
Тарабукин Н.М. Символика храма
(Смысл иконы. М., 1999, с. 132–136.)
Николай Михайлович Тарабукин
(1889–1956) – уроженец Ярославля, известный искусствовед, исследователь теории
живописи и иконописи («Философия иконы», 1916 и «Происхождение и развитие
иконостаса», 1918). Докторская диссертация была посвящена теме средневековой
архитектуры Закавказья.
СИМВОЛИКА ХРАМА
Церковная
архитектура также имеет свои каноны, но нарушение их, пожалуй, еще более
чудовищно, чем отступления в иконописи. Пренебрежение к этим канонам со стороны
церковных властей почти не имеет предела. Как-то мне пришлось слышать от одного
священника похвалу убранству алтаря одной из церквей XVIII века, выстроенной в стиле рококо, где
ему довелось служить некоторое время. Он изумлялся роскоши и изяществу, с каким
возведена была сень над престолом, напоминающая (как я себе представляю)
балдахин над альковом наших императриц XVIII века. Он говорил о мягких диванах,
обитых цветным штофом и окружавших алтарные стены, о коврах, застилавших пол, о
подсвечниках с игривой резьбой и т.п. Священник признался, что он чувствовал
себя, как бы в богато и изысканно убранной гостиной. И это говорил не
какой-нибудь провинциальный «батюшка», у которого в глазах «зарябило» от
невиданного зрелища; это говорил человек очень образованный, кончивший
университет, к строгости церковных обрядов отнюдь не равнодушный; сведущий в
вопросах искусства, разбиравшийся в художественных стилях и, казалось бы,
могущий почувствовать непримиримость стиля рококо с духом православного
богослужения. Но если и такой священник выказал свою беспомощность в подобных
вопросах, то что же говорить хотя бы и о высших иерархах, воспитание которых
проходило обычно вне всякого влияния искусства. Для них обычно всякий храм, как
бы ни был он построен и разукрашен, будучи освящен по канону, становится
«местом святым», «критиковать» которое с точки зрения внешнего убранства
почиталось делом зазорным.
И вот в
результате так понятого «греха», в русскую Церковь просочилась ересь,
воплотившаяся в изобразительных формах и принявшая грандиозные размеры, так что
теперь, сквозь толщу этого сплошного еретизма, господствующего в русской Церкви
около трех столетий, трудно восстановить истину. Уже с так называемого
«нарышкинского стиля» конца XVII столетия храмы стали украшать так, как
будто это салоны светских красавиц. С резным иконостасом в стиле рококо, с
золочеными «ложами», убранными балдахинами, где в орнаментальную вязь вместе с
крестами вкрапливались княжеские и графские гербы, сочетались только парики,
мушки и фижмы, а отнюдь не черные рясы монахов или простые одежды прихожан.
Стиль эпохи был выдержан, но церковный канон и богослужебное благолепие
профанированы. А с эпохи классицизма церковь трудно было отличить от светского
здания. Проходя в Париже мимо церкви «Мадлен» с ее могучим коринфским
колоннадным портиком и фронтоном, трудно определить, что это: какой-нибудь
театр «Олимпия» или коммерческая биржа. Почти то же приходится сказать о
католических костелах в Петербурге на Невском, выстроенных первоклассными
архитекторами Запада, как Деламот и Кваренги. В Москве колонные портики церкви
Большого Вознесения, что у Никитских ворот, напоминают подъезд Большого театра.
А сколько раскидано было по старой помещичьей России, по ее дворянским усадьбам
ротондальных церквей, близко напоминающих парковые «Эрмитажи» или «Храмы
дружбы», «Павильоны роз» и т.п.
Храм Христа
Спасителя в Москве и Исаакиевский собор в Петербурге неканоничны уже потому,
что со всех четырех сторон имеют вид входов. Следовательно, и восточная часть,
где должны бы находиться алтарные апсиды, обработана в виде входа (хотя
фактически входа здесь нет). Благодаря этому храм обезличен со всех четырех
сторон. Между тем храм в каноническом смысле олицетворяет собою корабль,
плывущий, как спасительное пристанище, среди бурь житейского моря. Как у
корабля, у храма должна быть «носовая» и «кормовая» часть, по которым мы
ориентируемся и в его строении, и в его пути с запада на восток. Встаньте около
Исаакия и попробуйте определить, где восток. Вам это не удастся, потому что
внешних признаков местонахождения алтаря у этого сооружения нет.
Что же собою
представляет православный храм со стороны архитектурной конструкции,
рассматриваемой как смысл? Мне вспоминается небольшая брошюра Троицкого,
изданная в Туле, довольно обстоятельно отвечающая на этот вопрос. Духовная
литература не обходит молчанием вопроса о смысле храма, и из разрозненных
указаний можно сложить довольно цельную картину.
Храм –
корабль. Одновременно это и вселенная. Алтарь – небо. Средняя часть
предназначена для верных, присутствующих при богослужении и «мнящих себя, яко
на небеси стояти». Западная часть, примыкающая ко входу, заполнялась раньше
«оглашенными», только еще готовящимися принять православие. Они не участвовали
в богослужении, а являлись только слушателями. Поэтому когда в проскомидии
начиналось таинство пресуществления Даров и дьякон возглашал: «Оглашенные,
изыщите», – они покидали храм. Эта же третья часть являлась трапезной, где в
очень отдаленное время при долгих монастырских службах действительно свершали
легкую трапезу прихожане. Паперть появилась позднее. В московских церквах XVII столетия паперть начинает окружать
храм с трех сторон. Внутри ее устраиваются скамьи для сиденья, и здесь-то
приезжий, иногда издалека, люд ладил свои житейские дела, узнавал политические
и общественные новости, заключал торговые сделки – одним словом, помолясь,
«базарил» кто как мог.
Разделенный
на три части храм представлял собою три ступени восхождения христианской души
от житейских попечений к небесному раю. Алтарь, куда вход, кроме посвященных,
был заказан, представлял последнюю и важнейшую ступень, был несколько приподнят
над всем остальным уровнем пола. С амвона священник благословлял народ и на
амвон поднимались верующие, дабы принять участие в таинстве Евхаристии.
Центральная часть храма обычно перекрыта куполом, символизирующим небо, обнимающее
своей сферой всех верных Церкви. В куполе изображение Пантократора с
благословляющей десницей. Купол покоится на четырех столпах, олицетворяющих
апостолов – столпов Церкви. В парусах, являющихся конструктивной частью,
обусловливающей переход от круглого подкупольного барабана к четырехграннику
столпов, изображены четыре евангелиста. И здесь архитектура и иконопись
символически выражают значение евангелистов как связующих звеньев между Христом
– главой Церкви и апостольским миром. Столпы покрываются изображением
апостолов, обычно в рост. Северная стена храма заполняется фресками на темы
Богородичных циклов, а южная – изображениями из жизни Христа.
Перед взором
предстоящих в храме иконостас раскрывает в изобразительных формах все учение
Церкви в ряде ярусов, разделенных тяблами. Когда по окончании богослужения
верующий повертывается к выходу, западная стена храма встречает его грандиозной
композицией «Страшного суда», которая служит ему напоминанием о том, что ждет
его за гробом, если по выходе из храма он пренебрежет учением, которое в
изобразительных формах он созерцал на иконостасе и стенах храма. Вот вкратце
архитектурное, и связанное с ним иконописное, содержание храма, имеющее
определенный смысл, выраженный в конструктивных деталях сооружения.
Представьте
теперь, что возводится храм бесстолпный, как это имело место уже в XIV столетии. Этим самым из символики
храма устраняются и евангелисты, и апостолы как столпы Церкви. Представьте, что
и купол заменяется сомкнутым сводом. Тем самым исчезает зрительно-символическое
выражение идеи единства Церкви, глава которой – Христос. Представьте, что
суровая простота и ясность христианского вероучения, конгениально воплощенная в
иконописи древнейших времен, оформляется в хитросплетенных завитушках рококо.
Как Вы полагаете: будет нарушен смысл вероучения в подобной форме или нет?
Четырехгранный храм, принятый в древности, и нарушенный в XVII и XIX столетиях, олицетворяет равное
обращение Церкви с проповедью ко всем четырем странам мира. Святой град –
Иерусалим «Апокалипсиса» – также четырехуголен. «Город расположен
четырехугольником, и длина его такая же, как и ширина». Эллипсовидные,
ротондальные и иные формы храма искажают этот смысл, следовательно, нарушают
догму церковного учения. Из сказанного вытекает, что постройки в стиле барокко,
ампир и прочих не могут быть признаны каноничными.
В XV веке русские люди понимали, что такое
православный храм, выстроенный с соблюдением древних русско-византийских
традиций. Когда строитель Успенского кремлевского собора Аристотель Фиораванти
появился в Москве, его Иван III направил во Владимир, дабы там знаменитый
итальянец на примере владимирского Успенского собора XII века усвоил все традиции церковного
зодчества и воплотил их в величайшей святыне московской. Вот путь, как и где
искать критерии для определения каноничности церковной архитектуры.
3.1.1.8.
Тилинский А.И. Руководство
для
проектирования и постройки зданий
(СПб., ИзданиеА.С. Суворина, 1912.)
Нормы для проектирования церквей, принятые С.-Петербургской Думой.
Церкви православные
принято строить на площадях, имеющих в наименьшем измерении своем около 6, а в
наибольшем около 7 высот здания.
Внутренняя
площадь для прихожан определяется, считая от 15 до 17 чел. на кв.саж. К этой
площади прибавляется еще место пред царскими вратами, отделенное перилами, и
место для алтаря.
Наименьшие
размеры следующие: ширина амвона, т.е. от перил до царских врат, без ступеней –
2 1/2 арш., ширина солеи 3 арш., от царских врат до
престола – 2 1/2 арш., престол в квадрате – 1 1/2
арш., высота его 1 2/16 арш., от престола до
запрестольного образа - 1 1/2 арш., высота запрестольного
образа от пола – 1 1/2 арш., длина (глубина) всего алтаря
– 6 арш., жертвенник (на левой стороне, против северо-восточного угла алтаря) в
квадрате – 1 1/4 арш., высота его – 1 2/16
арш. Ширина царских врат – 2 арш., вышина их – 3 1/2 арш.
Ширина северных и южных врат – 1 1/4 арш., вышина их – 3
аршина (1 арш.=72 см).
Между
царскими вратами и боковыми оставляются пространства для местных образов
Спасителя и Божией Матери, а по другую сторону обоих боковых врат – такие же
пространства для местных образов, с правой стороны – того святого, во имя
которого сооружается церковь, а с левой – другого святого.
Число входов
в церковь зависит от ее обширности; их можно сделать с трех сторон. Для
священнослужителей устраиваются в больших церквях особые наружные двери,
ведущие прямо в алтарь.
Внутренность
церкви, кроме соответственно святому храму и установлениям православного
исповедания велелепия, должна быть устроена так, чтобы священное чтение было
слышно, а священнодействия были видны большей части молящихся.
Предпочтительны
фасады церквей о пяти главах, в древне-византийском стиле.
При отдельной
от здания церкви колокольне назначается под нею место для сторожей.
Церковь,
устраиваемая в каком-либо здании, помещается в верхних этажах.
Утвержденные постановления и правила
Воспрещается
приступать без Высочайшего разрешения к каким-либо обновлениям в древних
церквах и во всех подобных памятниках.
Воспрещается
устройство при церквах лавок или церквей и колоколен при лавках.
Церкви
строятся вообще каменные, а при бедности прихожан или неимении каменных
материалов допускаются деревянные на каменных фундаментах.
Постройки
каменных церквей с деревянными сводами, куполами и кровлями разрешаются только
с утверждения министра внутренних дел.
Деревянные
пристройки снаружи каменных церквей не допускаются за исключением легких
столярной работы тамбуров при дверях для предохранения от сквозного ветра, и
то, когда устройство их внутри церкви не стеснило бы место, необходимое для
прихожан.
Взамен
деревянных многоэтажных колоколен при существующих каменных церквах дозволяется
строить для колоколов одноэтажные деревянные навесы на деревянных столбах, но
не ближе 4 саж. от церкви.
В городах
наблюдается, чтобы церкви находились от соседней межи на расстоянии 20 саж., и
в крайнем 10 саж. В городах с тесными церковными погостами никакие мирские
постройки не дозволяется возводить ближе 5 саж. к зданию церкви.
При
составлении проектов наблюдаются следующие правила:
а) независимо
от плана и фасадов церкви, прилагаются параллельные фасадам два общие разреза,
перпендикулярные один к другому (накрест), а также разрезы тех отдельных
частей, где встречаются своды, с тем, чтобы последние изображались вместе с
опорами до основания и в масштабе не менее 1 саж. в англ. дюйме. Размеры,
особенно толщины сводов, означаются цифрами;
б) в
пояснительной записке к проекту излагается расчет устойчивости или, в случае
сложности здания, соображения, на которых основаны приданные частям размеры, и
доводы в пользу самостоятельной и общей их устойчивости. Если проект составлен
по образцу уже существующего несколько лет прочного церковного здания, то
поясняется, какого именно, и что против него изменено;
в) в
проектных чертежах и пояснительной записке изображаются и описываются местность
и грунт под строение, глубина грунта и способ исследования его, устройство
основания строения, т.е. будет ли оно на грунте, на лежнях, на сваях и пр. Или
вообще излагаются все данные, необходимые для полного обсуждения проекта;
г) нормальные
чертежи, одобренные и изданные министерством государственного имущества, не
считаются обязательным руководством при проектировании церквей.
3.1.1.9.
Троицкий Н.И. Христианский православный храм в его идее.
Опыт изъяснения
символики храма в системном изложении
(Тула. 1916, с. 5–21.)
Николай Иванович Троицкий (1851 – 1920) - православный ученый-богослов,
церковно-исторический писатель, исследователь христианской символики.
Основную идею
храма определяет его наименование – церковь. Церковь, как Царство Христово, по
своему назначению, а потом и по историческому развитию должна была включить все
народы мира и обнять все пределы вселенной, даже до края земли (Мф. 28. 18, 19;
Деян. 1. 8). Так и архитектура христианского храма должна отвечать идее
вселенской церкви, представлять образ мира. Само здание храма является образом
вселенной. В древних христианских храмах это выражено особенно ясно, конечно с
позиций древней космографии.
Соотношение
устройства храма с идеей мира прослеживается еще в ветхозаветной церкви.
Описывая скинию, сооруженную Моисеем в пустыне по Божию повелению, Иосиф Флавий
говорит: «Внутренность скинии разделена была в длину на три части. Такое
трехчастное разделение скинии представляло собой образ всего мира: ибо третья
часть, находившаяся между четырьмя столбами, и неприступная самим священникам,
означала небо, Богу посвященное, пространство же на двадцать локтей, как бы
землю и людей представляющее, по которым свободный путь имеют люди,
определялось для одних священников». Третья часть соответствовала подземному
пространству, области умерших и погребенных.
Точно так же,
по учению Иоанна Златоуста, подобием мира был и храм Соломона, устроенный
наподобие скинии.
Идея
христианского храма в архитектуре прошла длительный путь развития. На первых
порах образ храма истинному Богу определялся устройством ветхозаветных
сооружений скинии и храма Соломона. Так, св. Иоанн Постник (596) в своем
толковании на литургию говорит: «Нужно, чтобы вы знали, что мы приняли от божественных
и всехвальных апостолов: церковь устроять по подобию скинии свидения».
Что касается
сближения понятий здания христианского храма с Христовой Церковью верующих,
этим живым храмом Божиим, Иоанн Златоуст учит, что: «Каждый из верующих и все
вместе суть храм, и все народы суть четыре стены, из которых Христос создал
единый храм».
Позднее этот
взгляд выразит на Западе в XII веке магистр Петр Карнатский: «В основании храма
полагается камень с изображением храма и 12 других камней в знамение того, что
Церковь покоится на Христе и 12 апостолах. Стены означают народы; их четыре,
потому что они принимают сходящихся с четырех стран».
Именно такую
кубическую форму с четырьмя стенами, соответствующими четырем сторонам мира,
имели древние византийские и русские храмы. Они с одной стороны продолжают
традиции скинии, а с другой принимают подобие мироздания. Так, блаж. Симеон
Солунский (+1429) учит: «Алтарь, где находится святая святых, образует небо и
то, что превыше небес, а собственно храм и притвор означают землю и все, что на
земле».
Каждая
сторона храма, имевшего кубическую форму, соответствует одной из четырех сторон
света и по соответствующей символике, одной из сторон церковной жизни.
Восточная
часть храма, по взгляду Библии, по древней космографии и по церковному
воззрению, есть область света, «страна живых» и райского блаженства.
Библия
говорит, что рай был в Эдеме, на востоке (Быт. 2,8). На это указывает и древняя
космография 1670 г.: «Симову часть, первого сына Ноя, положите восточную и
нарекоша именем ея Азия. Конец же ея достигает до восточного моря, близ
блаженного рая».
Соответственно
древней космографии на картах XIII века рай изображен на востоке, на
берегах реки Инда.
В
«Постановлениях апостольских» при изложении «Чина литургии» говорится о
значении обращения здания храма на восток в связи с Вознесением Господа: «Все
вместе, встав и обратившись к востоку, по выходе оглашенных и кающихся, пусть
молятся Богу, восшедшему на небо небес на востоки, – в воспоминание также о
древнем жительстве в раю, находящемся на востоке, откуда первый человек был
изгнан за нарушение заповеди по наветам змия» (Пс.67.34).
Церковное
воззрение на восточную сторону определило устройство там алтаря. Как повествует
о том Полидор Вергилий: «Древние христиане устраивали алтарь, пред которым
молились и отправляли богослужение, всегда к востоку. Христиане делали это для
того, чтобы помнить, что явился Христос – взошло Солнце Правды для них;
поэтому-то, когда при императоре Севере христиан обвиняли в том, что они
поклоняются, будто бы, солнцу, Тертуллиан опровергал такое обвинение, объясняя
сказанным образом их обращение к восходу солнца».
Название
«алтарь» означает высокий жертвенник (aha ara) или жертвенник на высоте. С глубокой
древности народы любили ставить жертвенники, а потом и храмы на возвышенных
местах, приближая их и себя к небу, к богам-небожителям, а сами храмы зачастую
уподобляли горам. Так, в одной шумерской клинописи говорится, что царь города
Ларсы построил богине Нана храм: «Главу его ввысь возвел, на подобие горы его сделал».
Если не было ни гор, ни какой природной возвышенности, то для жертвенника делалось искусственное возвышение в виде кургана. Так, у греков жертвенник назывался вомос, т.е. земляная насыпь.
Библейские
предания также указывают на устройство жертвенников и храмов на высотах. Ной
ставит свой жертвенник на вершине горы Арарат, где остановился его ковчег.
Авраам приносит свою жертву – сына Исаака на горе Мориа. Скинию ставит Иисус
Навин на Гаризине, Давид на Сионе. Храм Соломона, Зоровавеля, Ирода – на той же
горе.
Все эти исторические первоосновы объясняют причину того, что и
христианский жертвенник – престол ставится на высоте.
Идея высоты или восхождения в христианском храме выражается в его
строительстве на возвышенном месте, причем алтарь поднимается на несколько
ступеней над остальным пространством пола. Часть этого возвышения, выступающая
на середину храма, называется амвон (от греч. – восхождение на высоту).
Алтарь в то же время символизирует собой рай, что выражается в древнем
названии врат алтаря и от иконографии. Новогородский архиепископ Антоний – в
своем «Путешествии» говорит: «Егда заутреннюю пети хотят у Св. Софии, прежде
поют пред царскими дверями в притворе, и вышед поют посреде царства и двери
отворят райские и третья поют у алтаря». Врата алтаря, которые теперь называют
царскими, в древности назывались райскими (такое название сохранялось до
последнего времени в Саратовской губ.).
Также идея алтаря-рая иллюстрируется различными изображениями,
относящимися к раю. Так, иногда на северной двери иконостаса изображается
искушение прародителей, иногда – архангел Михаил, вождь небесных сил и др.
Идея алтаря-рая подтверждается и литургически. Открытием царских врат
показывается, что рай преступлением Адамовым долго был затворен, но благодаря
пришествию Христа снова открыт. В пасхальном каноне при открытии царских врат
поется: «Христе, воскрес еси от гроба... и отверзл еси нам райские двери»
(Ирмос, 6, тропарь 1-й).
Запад, в отличие от Востока, как страна заходящего, как бы умирающего
солнца, есть область мрака, скорби, смерти, вечного жилища мертвых, чающих
воскресения и суда. Так он представлялся у древних народов, а потом и в
христианской церкви.
В Египте существовал обычай располагать гробницы на западе от города. По
верованиям греков подземное царство Аида (ада) находилось на западе.
На картах древних народов место ада (Gades) изображалось на
крайнем западе (в Португалии город Кадикс).
Такое воззрение на западную сторону в свое время было усвоено и
христианской Церковью, но для этого имелись и некоторые другие основания.
В Иерусалиме, на западе от Сиона, берет начало узкая, глубокая и мрачная
долина, служившая местом погребения, так называемая Геенна, послужившая образом
места вечных мучений или ада. Здесь, при уклонении евреев в язычество стоял
идол Молоха, которому приносились человеческие жертвы, повергаемые в
раскаленные недра истукана, олицетворявшего Сатану (Иерем.2.23-24,33-34). Эта
долина уходила потом в пустыню к берегам Мертвого – Содомского моря,
вызывающего воспоминание о проклятых городах, некогда провалившихся в глубину
преисподней.
А после того, как на Западе же, близ самой вершины этой геенны, на холме –
Голгофе Христос принял свою смерть, сошел в ад и освободил оттуда души,
содержащиеся там, – страна Запада для Церкви навсегда осталась страной смерти и
областью ада.
Сообразно таким взглядам перенесены они и на западную сторону храма, на
которой по возникшему обычаю стали хоронить умерших, – вне храма или в
притворе. Так, константинопольские цари избрали местом своего погребения
преддверие храма Апостолов.
Тот же обычай был перенесен в Русь, как это видно по памятникам Киева,
Новгорода, Москвы и др.
Такой же взгляд на западную сторону храма усвоен и литургикой. Симеон
Солунский говорит: «Иерарх, нисходя до врат к западу означает Его (Господа)
явление и жизнь на земле, смерть и нисшествие в ад».
В древних храмах на западной стороне зачастую изображается Страшный суд,
иногда – видение пророком Иезекилем воскрешения костей на поле и т.п. В то же
время изображение на западной стене Софийского собора в Киеве сцен развлечений,
охоты и других веселых сюжетов символизирует мысль о греховности и суетности
земной жизни с ее радостями, забавами и пр., которые как греховные осудил сам
Соломон, строитель первого храма.
Если Восток есть область света, неба и рая, а Запад – тьмы, преисподней,
то средина храма представляет собой все земное пространство, где обитает
Вселенская Христова Церковь, в ее целом. Так на это пространство смотрит и
литургика. Св. Герман говорит: «Вхождение с Евангелием (из алтаря) означает
пришествие Сына Божия и внитие Его во весь мир».
Такому представлению о вселенной соответствует и архитектура средней части
храма с ее четырьмя стенами, четырьмя парусами и купольным покрытием.
Известно, что еще древние халдеи различали четыре стороны света. Так, царь
Хаммурапи в своих законах говорит: «Я – Хаммурапи царь, покоривший четыре
стороны света, которому повинуются четыре стороны света».
Учение Платона о кубической форме земли унаследовали переводчики Библии на
греческий язык и александрийские географы. Монах Козьма (VI
век) в своей космографии пишет: «...Земля же убо есть четвероугольна».
Если храм есть образ мира, а средняя его часть есть образ земли –
вселенной, то и Вселенская Церковь Христова должна быть изображена полностью, в
ее совокупности. И если схему вселенной представляет архитектурная форма куба,
то Вселенскую Церковь иконография должна изображать на всех стенах этого куба,
в перспективе всей ее истории. Здесь должны быть иконографически представлены:
Церковь первобытная – до канона, патриархальная – до Моисея, подзаконная – до
пророков, пророческая – до Христа, апостольская, и, наконец, соборная –
вселенская – в перспективе до конца мира.
Подобное изображение Вселенской Церкви представляет иконография в алтаре
собора Св. Марка в Венеции. Еще более развитый и систематизированный состав (у
старообрядцев – чин) представляют иконостасы православных соборных храмов. В
типичном иконостасе:
первый верхний ряд – лица, ближе всех стоящие по времени к райской жизни:
Адам (иногда и Ева), Авель, Ной, Сим, Мелхиседек, Авраам;
второй ряд – лица, стоящие под Законом, это вожди, первосвященники, судии,
цари, пророки: Моисей, Аарон, Гедеон, Давид, Соломон, Исайя и др.;
третий ряд – лица апостольской и святоотеческой Церкви: Петр, Павел, Иаков
и др.
На северной и южной стенах храма изображаются важнейшие события
евангельской и апостольской истории – Вселенские Соборы, создавшие основной
строй вселенской церковной жизни и служащие незыблемыми оплотами ее
исторического бытия, стенами ограждения.
Посреди храма, как правило, стоят четыре столба, на которых изображаются
те представители Вселенской Церкви, которые распространили, утвердили ее словом
и подвигами своей жизни. Это апостолы, епископы, мученики, подвижники, которые
и являются столпами Церкви. Так представление о лицах – столпах переносится на
столбы в архитектуре, поддерживающее сооружение.
Изображение двенадцати апостолов издавна изображается двенадцатью
колоннами предалтарной преграды.
В парусах, где на столбы опираются подручные арки свода обычно помещаются
изображения четырех Евангелистов, что имеет основанием данные древней
космографии, Библии и святоотеческого воззрения на Вселенскую Церковь.
Соответственно четырем сторонам света древние различали и четыре главных
ветра. Эти ветры издревле получили поэтическое олицетворение в виде головок
нагих и окрыленных фигур. В таком виде они встречаются в древних лицевых
космографиях. Сближение сил стихийных и духовных встречается в Библии (Псал.
103.4). Сближение четырех ветров с силой Духа Божия имеется и в святоотеческих
писаниях. Св. Ириней, епископ Лионский (II век), размышляя о том,
почему в Церкви только четыре Евангелия, говорит: «Ибо так как четыре стороны
света, в которых мы живем, и четыре главных ветра и так как Церковь рассеяна по
всей земле, а столп и утверждение Церкви есть Евангелие и Дух жизни, то
надлежит ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих людей».
А так как в христианском представлении четырем главным ветрам
соответствуют четыре Евангелия, то в христианских храмах евангелисты
изображаются над четырьмя столбами в парусах, показывая, что во Вселенской
Церкви с четырех сторон света веет Дух Божий, истинно оживотворяющий – через
четыре Евангелия.
Над средней частью храма возвышается купол, подобный тому, как над четырьмя
сторонами света простирается небо или «твердь».
Первоначально в храмах не было покрытия, и молящиеся стояли под открытым
небом и в куполе неба мысленно созерцали Бога Вседержителя. Так было в
языческих храмах, в скинии Моисея (двор), в храме Соломона, а потом в некоторых
древних христианских храмах Палестины и Сирии.
Так, в храме Воскресения в Иерусалиме первоначально покрытия средней его
части не было. Русский паломник VII века игумен Даниил
пишет: «Есть же церковь та Воскресение Господне сяка образом: кругло создана...
Верх же церковный не до конца сведен камением, но тако сперт досками и древнем
тесаным, плотничным образом, и тако есть без верха не покрыто ничем же...».
Но как только на купол храма было перенесено представление о небесном
своде, христианские художники помещали здесь изображение Иисуса Христа, как
Царя мира и Вседержителя. Тот же игумен-паломник Даниил, говоря о храме
Воскресения в Иерусалиме, говорит, что «там есть за алтарем пуп (середина)
земли: создана же над ним камора (свод, купол) и горе написан Христос мусиею, и
гласит грамота: се пядию измерих небо, а дланию землю» (Ис.40.12). Таким
образом, очевидно, над местом, где представлялась именно середина земли,
помещено было изображение Христа, а в последствии, когда середину земли стала
символизировать средняя часть храма, то над ней в куполе, как бы на тверди
небесной стали изображать вознесшегося Христа- Вседержителя.
Изображение Христа как Главы Вселенской Церкви наглядно выражается
размещением главы над корпусом – телом храма. Фигура главы, конечно,
стилизуется условно. В русской архитектуре этой фигурой служит луковица,
маковица и пр.
Одна глава, венчающая купол, в котором помещено изображение Христа,
красноречиво говорит, что Христос есть единая Глава Всемирной Церкви. Если же
на углах средней части храма помещаются малые главы, то они обозначают четыре
предела вселенной и соответствуют четырем Евангелиям от которых, по словам св.
Иринея, веет Дух Божий, оживотворяющий всю Вселенскую Церковь.
3.1.1.10.
Князь Евгений Трубецкой.
Умозрение в
красках. Три очерка о русской иконе
(М.: ИнфоАрт, 1991, с. 9–12; 67–68.)
Князь Евгений
Николаевич Трубецкой (1863– 1920) – русский философ, в своих публичных лекциях
впервые дал целостное, историческое и богословское истолкование древней русской
иконы, а также коснулся других вопросов церковного искусства, в том числе
храмовой архитектуры.
Византийский купол над храмом изображает собою свод небесный, покрывший
землю. Напротив, готический шпиц выражает собою неудержимое стремление ввысь,
подъемлющее от земли к небу каменные громады. И, наконец, наша отечественная
«луковица» воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам,
через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству.
Это завершение русского храма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и
к кресту заостряющийся. При взгляде на наш московский Иван Великий кажется, что
мы имеем перед собою как бы гигантскую свечу, горящую к небу над Москвой; а
многоглавые кремлевские соборы и многоглавые церкви суть как бы огромные
многосвещники. И не одни только золотые главы выражают собою эту идею
молитвенного подъема. Когда смотришь издали при ярком солнечном освещении на
старинный русский монастырь или город со множеством возвышающихся над ним
храмов, кажется, что он весь горит многоцветными огнями. А когда эти огни
мерцают издали среди необозримых снежных полей, они манят к себе как дальнее
потустороннее видение града Божьего. Всякие попытки объяснить луковичную форму
наших церковных куполов какими-либо утилитарными целями (например,
необходимостью заострять вершину храма, чтобы на ней не залеживался снег и не
задерживалась влага) не объясняют в ней самого главного, – религиозно-эстетического значения луковицы в нашей
церковной архитектуре. Ведь существует множество других способов достигнуть
того же практического результата, в том числе завершение храма острием, в
готическом стиле. Почему же изо всех этих возможных способов в древнерусской
религиозной архитектуре было избрано именно завершение в виде луковицы? Это объясняется,
конечно, тем, что оно производило некоторое эстетическое впечатление,
соответствовавшее определенному религиозному настроению. Сущность этого
религиозно-эстетического переживания прекрасно передается народными выражениями
– «жаром горят» – в применении к церковным главам. Объяснение же луковицы
«восточным влиянием», какова бы ни была степень его правдоподобности, очевидно,
не исключает того, которое здесь дано, так как тот же религиозно-эстетический
мотив мог повлиять и на архитектуру восточную.
Внутренняя архитектура церкви выражает собою идеал мирообъемлющего храма,
в котором обитает Сам Бог и за пределами которого ничего нет; естественно, что
тут купол должен выражать собою крайний и высший предел вселенной, ту небесную
сферу, ее завершающую, где царствует Сам Бог Саваоф. Иное дело – снаружи: там
над храмом есть иной, подлинный небесный свод, который напоминает, что высшее
еще не достигнуто земным храмом; для достижения его нужен новый подъем, новое
горение, и вот почему снаружи тот же купол принимает подвижную форму
заостряющегося кверху пламени.
Нужно ли доказывать, что между наружным и внутренним существует полное
соответствие; именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю,
проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное
покрывается рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода. И эта
рука, побеждающая мирскую рознь, все приводящая к единству соборного целого,
держит в себе судьбы людские.
Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое
должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества. Собор
всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и
всякое дыхание земное, – такова основная храмовая идея нашего древнего
религиозного искусства, господствовавшая и в древней нашей архитектуре и в
живописи. Она была вполне сознательно и замечательно глубоко выражена самим
святым Сергием Радонежским. По выражению его жизнеописателя, преподобный
Сергий, основав свою монашескую общину, «поставил храм Троицы, как зеркало для
собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх
перед ненавистной разделенностью мира». Святой Сергий здесь вдохновлялся
молитвой Христа и Его учеников «да будет едино яко же и мы». Его идеалом было
преображение вселенной по образу и подобию Святой Троицы, то есть внутреннее
объединение всех существ в Боге. Тем же идеалом вдохновлялось все древнерусское
благочестие; им же жила и наша иконопись. Преодоление ненавистного разделения
мира, преображение вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как
объединены во едином Божеском Существе три лица Святой Троицы, – такова та
основная тема, которой в древнерусской религиозной живописи все подчиняется.
Глаз радуется при виде старинных соборов в Новгороде, в Пскове, и в
московском Кремле, ибо каждая линия их простых и благородных очертаний
напоминает об огне, когда-то горевшем в душах.
Мы чувствуем, что в этом луковичном стиле в Древней Руси строились не одни
храмы, но и все, что жило духовной жизнью, – вся Церковь и все мирские слои, к
ней близкие, от Царя до пахаря.
В древнерусском храме не одни церковные главы – самые своды и сводики над
наружными стенами, а также стремящиеся к верху наружные орнаменты зачастую
принимают форму луковицы. Иногда эти формы образуют как бы суживающуюся кверху
пирамиду луковицы. В этом всеобщем стремлении ко кресту все ищет пламени, все
подражает его форме, все заостряется в постепенном восхождении. Но, только
достигнув точки действительного соприкосновения двух миров, у подножия креста,
это огненное искание вспыхивает ярким пламенем и приобщается к золоту небес. В
этом приобщении – вся тайна того золота иконописных откровений, о котором мы
уже достаточно говорили: ибо один и тот же дух выразился в древней церковной
архитектуре и живописи.
В этой огненной вспышке – весь смысл существования «Святой Руси». В
горении церковных глав она находит яркое изображение собственного своего
духовного облика; это как бы предвосхищение того образа Божия, который должен
изобразиться в России.
3.1.1.11.
Успенский Л.А. Символика храма
(ЖМП, 1948, № 1. с.
37-47.)
Леонид Александрович Успенский (1902–1987) – выдающийся исследователь
церковного искусства, православной иконы.
В Церкви Христовой все двухприродно – и духовно, и материально. То, что
материально, непосредственно доступно нашим чувствам. То же, что духовно,
указывается посредством символики. Поэтому в Церкви символика играет очень
важную роль. Изучать символику храма отдельно от богослужения невозможно; она
развивалась вместе с богослужением, вместе с ним раскрывалась и толковалась
святыми отцами. Вне богослужения она теряет свой смысл, превращается в серию
отвлеченных понятий, в лучшем случае бесплодных. Поэтому всякому верующему
необходимо иметь представление о том особом мире, который представляет собою
храм, и о всем том, что в нем происходит.
Греческое наименование Церкви означает вызывание, собрание. «Церковь...
так именуется потому, что она всех созывает и друг с другом соединяет», –
говорит св. Кирилл Иерусалимский. Ту же самую мысль высказывают и другие святые
отцы Церкви (например, св. Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, блаж. Августин).
Вызванные – это апостолы и последователи Христа, новый Израиль. В Ветхом
Завете народ израильский был обособлен от других народов и вызван из среды
мира, чтобы явить миру откровение грядущего пришествия Божия, подготовить мир к
пришествию Мессии. Новозаветная Церковь, новый Израиль, вызвана из погрязшего в
грехах мира, чтобы явить этому миру откровение грядущего Царствия Божия,
подготовить мир к пришествию этого Царствия.
Примечательно, что слово «церковь» как в русском, так и во многих других
языках применяется одновременно и к Церкви, как Телу Христову, благодатному Его
Царству, состоящему из верующих, так и к храму. Почему? Если мы возьмем молитвы
на освящение храма, мы увидим, что храм именуется там «домом небоподобным»,
«образом жилища Божия» и освящается он во образ святейшей Церкви Божией, сиречь
«самого телесе нашего, еже убо и храм Твой (и уды Христа Твоего), всехвальным
апостолом Павлом именовати изволил еси», то есть во образ Церкви как Тела
Христова, по словам апостола Павла (Ефес. 1.23 и Колос. 1.18). Храм понимается
здесь как образ, икона Церкви, мистического Тела Христова. Другими словами,
храм есть образ, который иносказательно, символически выражает то, что
непосредственно изобразить невозможно. И в самом деле, какими средствами можно
изобразить Церковь, Единую, Святую, Соборную, Апостольскую, в которую мы
веруем, но которую мы не видим во всей ее полноте?
Мы знаем, что основа христианской жизни с первых веков христианства и до
наших дней одна и та же. Эта основа заключается в возрождении в новую жизнь, в
теснейшем общении с Богом, совершающемся главным образом в таинстве Евхаристии.
Храмы наши, в силу совершающегося в них этого таинства, объединяя в себе
вызванных из мира людей, обновленных в таинстве Евхаристии, выделяются из всех
других мест, носят как бы особую печать, печать того, что в них совершается.
Среди многих наименований храма у первых христиан, как, например, церковь, дом
Церкви, наиболее распространенным было название «дом Господень». Это
наименование подчеркивает отличие храма от всякого другого здания, указывает на
его особый для христиан смысл. Этот смысл связан с наследием Ветхого Завета.
Ветхозаветная скиния, прообраз нашего храма, была построена по образу,
показанному Моисею на горе Синайской. Сам Бог дает не только общий ее план, но
и определяет все ее устройство до мельчайших деталей.
Ветхозаветная Церковь, как, впрочем, и все другие древние религии,
пользовалась символами. Символика ее предображала пришествие Спасителя. Теперь,
когда пришествие Спасителя уже совершилось, символика все же продолжает
существовать и в новозаветной Церкви и составляет необходимую принадлежность ее
богослужения. Все наше богослужение пронизано символами, они всюду: в словах, в
образах, в жестах, в одежде. Символика представляет собою таинственный язык,
приоткрывающий верующим то, что таинственно и незримо совершается в храме, и
открывающий им глаза на определенную, всегда живущую в Церкви реальность,
которую передать непосредственно, то есть показать, невозможно. Эта реальность
– начатки грядущего Царствия Божия, подлинные его начатки, которые реальны не
только духовно, но и материально в таинстве Евхаристии, центральном таинстве Церкви.
Именно чтобы сделать нас более сознательными причастниками этого таинства,
причастниками, следовательно, Царствия Божия, привлечь и сделать нас
участниками в подготовке вместе со всею Церковью пришествия этого Царствия,
цели существования всего мира. Церковь и ставит перед нашими глазами образ
этого Царствия. Она пользуется видимыми образами, чтобы возвысить нас к
невидимому, недоступному нашим внешним чувствам. Ибо «...мы не в состоянии
подниматься до созерцания духовных предметов, – говорит преп. Иоанн Дамаскин, –
без какого-либо посредства, и для того чтобы подняться вверх, имеем нужду в
том, что родственно нам и сродно» (1-е Слово в защиту святых икон, гл. 2).
Другими словами, богослужение со всем, что в него входит, есть путь к нашему
освящению, нашему обожению. В храме все направлено к этой цели. После
грехопадения Ветхий Завет был, так сказать, первым этапом на пути к этой цели,
подготовлением следующей ступени – Нового Завета. То, что для Ветхого Завета
было будущим, стало настоящим, а это настоящее, в свою очередь, готовит нас и
ведет к будущему, к тому, что святые отцы называют горним Иерусалимом. Вот что
говорит об этом, ссылаясь на послание апостола Павла к евреям, преп. Иоанн
Дамаскин: «Замечай, что и закон, и все сообразное с ним, и все служение,
имеющее у нас место, суть рукотворенная святая, приводящая нас к
невещественному Богу при посредстве вещества. Закон и все сообразное с законом
было некоторым оттенением будущего образа, то есть имеющего у нас место
служения, а имеющее у нас место служение – образ будущих благ; самые же вещи
(Евр. 10. 1) – вышний Иерусалим, нематериальный и нерукотворенный, подобно
тому, как говорит тот же самый божественный апостол: не имамы бо зде
пребывающаго града, но грядущаго взыскуем (Евр. 13. 14), каковой есть вышний
Иерусалим, ему же художник и содетель Бог (Евр. 11. 10). Ибо все, как
сообразное с законом, так и сообразное с нашим служением, произошло ради того
(то есть вышнего Иерусалима)» (Слово в защиту святых икон, гл. 23). Образом
этого вышнего Иерусалима и является, по толкованию святых отцов, наш храм: он –
новое небо и новая земля, преображенный мир грядущего Царствия Божия, в котором
вся умиротворенная тварь будет собрана вокруг своего Творца. Именно из такого
представления о храме и вытекают основные принципы его постройки и росписи.
Святые отцы не говорят, какого вида должен быть храм, не указывают, где
помещать тот или иной сюжет росписи, каким должен быть церковный образ и т.д.
Все это вытекает из общего смысла храма, а потому и подчиняется определенному
канону, определенным рамкам, аналогичным рамкам литургического творчества.
Иначе говоря, нам дается общее правило, направляющее наши усилия и
предоставляющее полную свободу действию в нас благодати Духа Святого. Это общее
правило передается из поколения в поколение в живом Предании Церкви, Предания,
которое восходит не только к апостолам, но еще и к ветхозаветному Закону.
Таким образом, символическое значение храма обусловливает его отличие от
всякого другого здания или помещения, его обособленность. Обособленность эта
соответствует особой природе Церкви и выражает ее. «Царство Мое», то есть
Церковь, говорит ее Глава и Основатель Господь Иисус Христос, «не от мира
сего». Церковь живет в мире и для мира; для его спасения. Это – цель ее
существования. Будучи царством не от мира сего, она имеет свою, отличную от
мира, природу и цель свою может осуществлять, только оставаясь верной своей
надмирной природе, оставаясь сама собою. И образ жизни ее, и методы действия–не
то, что в мире. Поэтому все то, что служит ей средствами выражения и
воздействия на людей, отличается от методов и
действий мирских. В частности, искусство ее совершенно другого порядка и
преследует совершенно иные цели. Если оно смешивается с мирским искусством, оно
перестает соответствовать тому, что оно должно выражать, перестает
соответствовать той цели, которой оно служит, то есть не выполняет своего
назначения, подрывает действие и спасительную миссию Церкви в мире. Поэтому так
важно всегда и во всех областях церковного делания помнить об особом характере
Церкви, в частности в области искусства, которое непосредственно и сильно
воздействует на человеческую душу.
С первых веков христианства Церковь придала храму и
богослужению формы, соответствующие ее природе и ее назначению. Она установила
внутренний вид храма, характер церковного образа, пения, облачений духовенства
и т.д. Все это составляет в храме и богослужении согласованный ансамбль,
органическое подчинение всех видов искусства основной цели, составляет
литургическое единство, литургическую полноту. Это литургическое единство,
общая направленность разных составных частей к единой цели предполагает прежде
всего подчинение этих частей общему смыслу храма и, следовательно, полный отказ
от самостоятельной, обособленной роли, от выражения собственного «я». Образ,
пение и т.д. перестают быть видами искусства, следующими каждый своим путем,
отдельно и независимо от других, и становятся разнородными средствами,
выражающими каждое по-своему одно и то же – общий смысл храма как образа
преображенного, умиротворенного мира. Все они носят как бы печать этого
обновленного мира, печать Царствия Божия. Этот путь подчинения – единственный
путь, на котором всякое искусство, входя составной частью в единое
гармоническое целое, обретает полноту своего значения, свою полноценность.
Объединенные этой общей целью, эти разнородные элементы,
входя в наше богослужение, являются осуществлением в области литургической того
«единства в многообразии» и того «богатства и разнообразия в единстве», которое
в целом и в деталях выражает соборное начало Церкви. Именно это и создает ту
особую церковную красоту, совершенно отличную от красоты мирской, ту духовную
красоту, которую мы называем благолепием и которая действительно является
отблеском, отражением красоты горнего мира. В этом смысле прекрасной
иллюстрацией, может служить повествование летописца об обращении в христианство
св. равноапостольного князя Владимира. Когда его послы, отправленные
ознакомиться с различными религиями, вернулись из Константинополя, то сообщили,
что, присутствуя на богослужении в храме Святой Софии, они не знали, находятся
ли они на земле, или на небе. Даже если это только легенда, то она все же
прекрасно передает смысл православного храма и богослужения, указывает на ту
особую красоту, которую мы называем церковным благолепием. Особенно характерно
то, что императорский дворец, который, наверное, был не менее великолепен и
богат, чем собор Святой Софии, нисколько не поразил послов св. Владимира.
Из истории и археологии мы знаем, что в первые века христиане,
кроме катакомбных и домовых церквей, о которых упоминают Деяния апостольские и
Послания, строили и наземные храмы. Во время гонений эти храмы разрушались, а
затем снова восстанавливались. Но, несмотря на существование этих храмов, отцы
первых веков и другие писатели очень мало говорят о богослужении и почти ничего
не говорят ни о смысле храма, ни о его значении, ни о его символике. Чем
объясняется это молчание? Предполагают, что для этого существовали две причины:
1. Нужно ли было, спрашивается, писать о том, что всем
хорошо известно, чем все живут и дышат? 2. Не в интересах христиан было
посвящать в свои таинства окружающий их языческий мир и излагать ему свои
сокровенные верования, чувствования и надежды. Истины своей веры первые
христиане исповедывали более самой своей жизнью, мало формулируя их словесно.
Поэтому, так же как догматические истины вероучения, символика храма не
оформлялась в сознания христиан с такой теоретической раздельностью, с какой
была выражена позже. Здесь было, можно сказать, то же самое, что, например,
случилось с догматическим учением о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа. Эта
истина тоже исповедывалась первыми христианами более практически, самой своей
жизнью, но не имела еще достаточно полного теоретического выражения. Но потом,
в силу внешней необходимости, ввиду появления ересей и лжеучений, она была
раскрыта и точно сформулирована теоретически. То же было и с символикой храма.
И все же от первых веков дошли до нас некоторые указания на общее образное
восприятие храма. Так, например, в памятниках III и IV веков (использующих в свою очередь
еще более древние источники), говорится о том, что храм должен напоминать
верующим корабль и что он должен иметь три двери как указание на Святую Троицу.
Почему? Отцы Церкви очень часто прибегают к образу корабля, и в особенности к
образу Ноева ковчега, для обозначения Церкви. Ноев ковчег был прообразом
Церкви, и как этот ковчег явился спасением от волн потопа, так и Церковь,
водимая Духом Святым по волнам житейского моря, является спасительным
прибежищем для христиан. Поэтому естественно, что образ этот применялся и к
храму. И до сих пор средняя часть храма называется «кораблем». На некоторых
древних памятниках находим символическое изображение Ноева ковчега в виде
четырехугольного ящика с голубем наверху. А археологические раскопки
показывают, что многие древние храмы и строились именно по этому
четырехугольному плану, то есть по образу Ноева ковчега. Таким образом, Ноев
ковчег, будучи прообразом Церкви, служит и образцом для храма. С первого
взгляда, для человека внешнего, эта аналогия с Ноевым ковчегом или же указание
на Пресвятую Троицу при помощи трех дверей могут показаться отвлеченными,
надуманными образами, не имеющими реального значения. Но в действительности это
не так. Представив себе жизнь первых христиан, их маленькие общины, окруженные
со всех сторон язычеством, враждебным особенно в периоды гонений, увидим, что
для христиан храм был действительно настоящим ковчегом, в котором они находили
убежище и спасение в таинствах.
Итак, первые храмы, как и наши теперишние, имели
символический смысл и должны были возводить человеческие ум и душу к
божественной жизни. Другими словами, посредством архитектуры храма, созданного
человеческими руками, Церковь возводит нас к созерцанию вещей не только
невидимых, но и не поддающихся никакому прямому выражению. Таким образом,
предметы, видимые телесными глазами, служат нам внешними знаками, символами,
вводящими нас в соприкосновение с божественным миром. Здесь применяется то, что
святые отцы выражали краткой и сжатой формулой: видимые предметы возводят нас к
созерцанию вещей невидимых.
С IV века
символика храма начинает толковаться и разъясняться более подробно.
Обстоятельства, вызвавшие необходимость более пространных толкований, были
следующие: во-первых, Церковь в IV веке при
Константине Великом получила гражданские права. Это историческое событие повело
к торжеству Церкви и имело громадные последствия для ее искусства. Началось
небывалое до тех пор строительство и украшение храмов. Об этом строительстве
известный историк Церкви начала IV века
Евсевий, епископ Кесарийский, говорит пространно и с большим увлечением:
«Светлый и ясный день, не омраченный никаким облаком, озарил лучами небесного
света церкви Христовы во всей вселенной... Храмы получают гораздо лучший вид,
нежели прежние, разрушенные. По городам начались праздники обновления и
освящения вновь устроенных храмов... Богослужение предстоятелей и
священнодействия иереев стали совершенными, церковные обряды сделались
благолепными». Громадное множество новообращенных заполнило эти новые храмы.
Понятно, что большинство их нуждалось в руководстве, в разъяснении христианской
веры и духовном наставлении: собственным своим духовным опытом они
руководствоваться не могли, так как этого опыта у них и не было. Одним из
средств такого наставления и обучения была символика храма и богослужения.
Естественно, что эта необходимость объяснить символическое значение храма не
могла не оказать влияние на точное и раздельное формулирование символики: она
прямо вызывала такое формулирование. Другим обстоятельством, вызвавшим
теоретическое уточнение символики храма, было то, что с IV века главным образом стало слагаться в
определенный вид христианское богослужение. Наши литургии св. Василия Великого
и Иоанна Златоустого относятся в основном к этому времени. В некоторых древних
литургиях символические толкования для назидания и научения верующих входили
прямо в состав литургии. Эти разъяснения делались диаконом во время самого
богослужения. Предполагается, что они были внесены в чин литургии в конце III или начале IV века, то есть как раз в то время, когда в таких разъяснениях была
особенно большая нужда ввиду наплыва в храмы большого количества
новообращенных. Это наводит на мысль, что и в наше время такие разъяснения не
были бы излишними, хотя бы после богослужения, во время проповеди.
Что же определяло символику храма? На чем она основана? В
основе всей христианской жизни лежат две истины нашей веры: одна– искупительная
жертва Спасителя, необходимость участия в этой жертве, причастия к ней, для
спасения, необходимость в каком-то смысле повторить эту жертву в душе каждого
человека, другая основная истина – это цель и результат и самый смысл этой
жертвы: преображение человека, а с ним и всего видимого мира, павшего по его
вине, это примирение мира и Бога. Последняя истина является основной темой
символики храма. Это и понятно, ибо все божественное откровение человеку, вся
необъятность жертвы, принесенной Богом за человека, с одной стороны, и все, что
человек приносит Богу, с другой стороны, все направлено к одной цели, к тому,
что святые отцы называют горним Иерусалимом, Царством Божиим. Вне этой
перспективы, осмысляющей каждое наше действие, каждую нашу молитву, вера наша
потеряла бы смысл. Именно эта направленность к будущему, это строительство
будущего и отличает христианское богослужение от всякого другого. Богослужение
может совершаться на разных языках. Так же и храм может иметь разную
форму–форму креста, базилики, ротонды или другую; он может быть построен по вкусам
и понятиям той или иной эпохи, того или иного народа, но смысл его был, есть и
будет всегда один и тот же. Каждый народ вносит в храмоздательство свои,
характерные для него черты, но разнообразие форм только сильнее подчеркивает
единство смысла, исповедание одной и той же истины.
В «Истории Церкви» Евсевия, в его слове на освящение
храма в Тире, дается уже довольно обстоятельное раскрытие символики храма
(Книга 10, глава 4–относится к первой четверти IV века). Основная его мысль заключается в том, что, во-первых, в храме мы
видим то же, что и слышим. Поэтому храм должен соответствовать богослужению,
которое в нем происходит. Во-вторых, храм видимый устроен по образу храма
невидимого, то есть Церкви, и существенно ей уподобляется. Он есть дом Божий,
потому что в нем пребывает Бог и находятся верующие, уготовившие себя сосудами
Духа Божия. Храм есть земное небо будущего века, где Бог пребывает «всяческая
во всех». Красота храма как бы приподнимает завесу над красотой горнего
Иерусалима, который Бог уготовал для любящих его. Но Евсевий не ограничивается
объяснением храма в его целом. Он разъясняет и назначение отдельных частей
храма, то есть алтаря, а также средней части и притвора. Ценность этих
показаний Евсевия в том, что он приводит исторически достоверные факты,
свидетелем которых он был, и, с другой стороны в том, что он верно отражает
мысли и настроения Церкви своего времени.
Наиболее полное и детальное раскрытие символика храма
получает в VII и VIII веках. Наиболее систематические толкования находятся в
писаниях св. Максима Исповедника (Мистагогия VII века), который дает также замечательное толкование литургии; в писаниях
св. Софрония, Патриарха Иерусалимского (также VII века), и у св. Германа, Патриарха Константинопольского (умершего в 740
году, великого исповедника Православия в период иконоборчества). Большинство
отцов-литургистов, толкователей храма и богослужения, жили в VII и VIII веках, то
есть как раз в эпоху большого расцвета литургического творчества. Это – эпоха
творцов канонов: св. Андрея Критского, св. Косьмы Майумского, св. Иоанна
Да-маскина. Надо иметь в ввиду, что все эти святоотеческие толкования храма и
его символики, также как и мысли об этом Евсевия, нельзя рассматривать как
изложение только их личного понимания. Высказывания их отнюдь не являются
выражением их личных воззрений на храм. Символика храма имеет объективное
основание в самой сущности христианства и является выражением определенной
реальности, выражением литургической жизни Церкви, то есть существеннейшего
аспекта церковного Предания. В этом смысле характерны слова св. Симеона
Солунского, которыми он начинает свою «Книгу о храме»: «Передаю вам с любовью
то, что я почерпал у святых отцов. Ибо у нас нет ничего нового, но мы сохранили
все, как символ веры, в том виде, в каком оно дошло до нас с первых времен. Мы
совершаем богослужение совершенно так же, как заповедал Сам Спаситель и как
установили апостолы и отцы Церкви». Здесь мы видим то же, что и в богословской
мысли, в области которой святые отцы также всячески старались оградить свои
высказывания от личного, субъективного элемента.
Вернемся к толкованию храма. Св. Максим Исповедник и св.
Софроний Патриарх Иерусалимский, видят в храме образ мира духовного и мира
чувственного, то есть образ того, что мы воспринимаем нашими чувствами, и того,
что мы воспринимаем мысленно. Как видим, здесь подчеркивается космическое
значение храма, как образа всего тварного мира, конечно, преображенного. Св.
Герман в своем толковании прибегает к своего рода игре слов: он говорит о
Церкви, Теле Христове, и о храме в одних и тех же выражениях, совмещая их в
одной и той же фразе, чтобы особенно подчеркнуть, что храм является образом
Церкви. Он говорит: «Церковь есть земное небо, в котором живет и пребывает
пренебесный Бог», «Она служит напоминанием распятия, погребения и воскресения
Христова и прославлена более скинии свидения»–это явно относится к храму. И
далее – «она предображена в патриархах, основана на апостолах... она
предвозвещена пророками, благоукрашена иерархами, освящена мучениками и утверждается
престолом на их святых останках». Здесь явное и умышленное смешение Церкви и
храма, который является ее образом. Подчеркнув это достаточно, св. Герман
переходит уже собственно к храму: «Церковь,– говорит он,– есть божественный
дом, где совершается таинственное, животворящее жертвоприношение, где есть и
внутреннее святилище, и священный вертеп, и гробница, и душеспасительная
животворящая трапеза, где ты найдешь перлы божественных догматов, коим учил
Господь учеников Своих». Св. Симеон Солунский также подчеркивает этот смысл
храма и говорит, что «сам торжественный чин освящения храма представляет его
нам таинственным небом и Церковью первородных». Конечно, здесь имеется в виду
не только Церковь земная, но и неразрывно с ней связанная Церковь небесная, иначе
говоря, то Царствие Божие, в котором Бог будет «всяческая во всех», по словам
св. апостола Павла (Ефес. 1. 23). Поэтому-то храм и есть образ «будущих благ»,
как говорит св. Иоанн Дамаскин, а св. Симеон Солунский называет храм раем и
райскими дарами, так как он содержит не древо жизни, а самую жизнь, действующую
в таинствах и раздаваемую верующим.
Как видим, значение храма чрезвычайно сложно и богато по
своему содержанию. С одной стороны, он является священным местом, где члены
Церкви приобщаются в таинствах божественной жизни. Поэтому он зачаток грядущего
Царствия Божия, как бы его частица, уже существующая на земле и предвосхищающая
его славное пришествие. С другой стороны, храм есть и образ этого Царствия
Божия, к которому Церковь ведет мир. Эта мысль красной нитью проходит во всех
святоотеческих толкованиях.
Давая толкование храма в его целом, отцы в то же время
объясняют и значение каждой отдельной его части. Храм разделяется на три части,
как разделялись на три части и скиния Моисеева, и храм Соломонов. Церковь
сохранила этот основной план постройки скинии и храма. Так же как народ
израильский – ветхозаветная Церковь – был прообразом Церкви новозаветной, так и
скиния, и храм Соломона прообразовали новозаветный храм. Св. Симеон Солунский
видит в этом трехчастном делении символическое указание на чиноначалия горних
сил, разделяющихся на три иерархии, а также указание на самый народ
благочестивый, состоящий их трех разрядов – священнослужителей, верных и,
наконец, кающихся и оглашенных. Алтарь предназначен для совершителей таинств,
духовенства. Из трех частей храма он является частью наиболее важной, в которую
не все могут входить. Он соответствует святая святых ветхозаветной скинии. Это
– основная святыня всего храма, освящающая все здание. Алтарь – это та часть
храма, которая символически изображает «селение Божие», «небо небесе», по
выражению св. Симеона Солунского, или, как говорит св. патриарх Герман, «место,
где восседает на престоле со апостолами Христос, Царь всяческих». Обычно алтарь
помещается в восточной части храма и, таким образом, весь храм обращен к
востоку. Объясняется это, с одной стороны, тем, что потерянный нами рай
находился на востоке. С другой стороны, и особенно, это объясняется будущим, к
которому направлена вся христианская жизнь. Это будущее – Царствие Божие,
которое часто, особенно в памятниках первых веков, называется восьмым днем
творения. Пришествие этого дня, который мы ждем и подготовляем, его восход, и
символизируется восходом солнца, востоком. Поэтому св. Василий Великий и предписывает
(прав. 90) обращаться при молитве на восток.
Средняя часть храма, так называемый «корабль»,
соответствует тому, что в ветхозаветной скинии называлось «святилище» и было
отделено от двора завесой. Сюда ежедневно входили священники для воскурения
фимиама. В новозаветной Церкви в храм входят верующие миряне, «царское
священство, народ свят», по выражению апостола Петра (1 Петр. 2.9), и приносят
Богу фимиам молитвы. Другими словами, эта часть храма вмешает в себя верующих,
то есть людей, просвещенных светом веры Христовой и готовящихся к восприятию
благодати, изливающейся в таинстве Евхаристии. Воспринимая эту благодать, они
становятся искупленными, освященными, становятся Царством Божиим. Если алтарь
изображает собою то, что превосходит тварный мир, селение Божие, где пребывает
Сам Бог, то средняя часть храма изображает собою мир тварный, но уже
оправданный, освященный, обоженный, Царствие Божие, новое небо и новую землю в
собственном смысле. Так и представляют символическое значение этой части храма
отцы Церкви в своих толкованиях. По толкованию св. Максима Исповедника, как в
человеке соединяются начало телесное и начало духовное, причем последнее не
поглощает первого и не растворяется в нем, но оказывает на него свое
одухотворяющее влияние, так что тело становится выражением духа,–так и в храме,
алтарь и средняя часть входят во взаимодействие, причем первый просвещает и
руководит вторую и последняя становится таким образом чувственным выражением
первого. При таком их соотношении восстанавливается нарушенный грехопадением
порядок вселенной, то есть восстанавливается то, что было в раю и что будет в
Царствии Божием. Другие отцы, как, например, св. Симеон Солунский, прямо
говорят, что средняя часть храма означает «и небесные обители, и рай».
Наконец, притвор соответствует двору скинии, внешней ее
части, где стоял народ. Теперь, когда народ освящен и помещается в средней
части, в притворе стоят оглашенные и кающиеся, то есть те, кто еще только
готовится войти в Церковь, и те, кого Церковь определяет как особую категорию
лиц, не допускаемых к причащению Святых Тайн. Поэтому когда совершается
таинство Евхаристии, из средней части храма удаляются все, кто не может
участвовать в таинстве: одни потому, что они еще не члены Церкви, другие
потому, что они от нее отпали или являются недостойными. Таким образом, уже
самый архитектурный план храма проводит четкую грань между теми, кто
приобщается Тела Христова, и теми, кто не может его приобщаться. Последние не
изгоняются из храма и могут пребывать в нем до определенного момента, но они не
могут участвовать во внутренней, сакраментальной жизни Церкви. Место их не
совершенно вне Церкви, но и не внутри ее. Они на периферии, на грани между
Церковью и миром. По толкованию святых отцов, притвор символизирует собою землю
не обновленную, еще лежащую во грехе, и даже ад. Притвор всегда находится в
части храма, противоположной алтарю.
Трехчастное деление храма, так наиболее полно выражающее
смысл храма, является наиболее распространенным. Но такое деление не является
абсолютной необходимостью. Только алтарь и средняя часть совершенно необходимы
– без них храм не храм, а без притвора храм все же является храмом. Впрочем,
однако, наличие притвора весьма желательно.
Таким образом, общий смысл святоотеческих толкований
символики храма сводится к следующему: храм является образом грядущего Царствия
Божия. Чтобы уточнить этот образ и чтобы указать на это Царствие Божие, Церковь
прибегает к изображениям.
Иконографические сюжеты должны распределяться в храме в
зависимости от смысла и значения каждой его части и ее роли в богослужения.
Если символика богослужения была разъяснена святыми отцами до иконоборческого
периода, то соответствие между этой символикой и росписью храма было уточнено и
наиболее полно выражено после иконоборческого периода, когда эта роспись в
византийской Церкви получила вид точной и ясной богословской системы. Здесь
будет сказано только об этом классическом, идеальном типе росписи храма и лишь
в самых общих чертах (чтобы завершить общее понятие о храме). С XI века, когда после иконоборчества общая
система росписи была окончательно установлена, и до конца XVII века распределение иконографических сюжетов
в храме ни в чем не меняется, по крайней мере в дошедших до нас памятниках.
Конечно, эта устойчивость и это единообразие выражаются лишь в общих чертах, а
не в деталях росписи.
Поскольку алтарь представляет то, что превосходит весь
сотворенный мир, жилище Самого Бога, и в алтаре совершается таинство
Евхаристии, постольку в нем изображалось то, что с этим таинством наиболее
непосредственно связано. Первый ряд росписи, начиная снизу, представлял
отцов-литургистов и с ними других святителей и святых диаконов, как участников
в богослужении. Выше – сама Евхаристия: причащение апостолов под двумя видами –
Хлебом и Вином. Еще выше, над Евхаристией, непосредственно за
престолом–изображение Божией Матери. Такое Ее место в непосредственной близости
к изображению таинства соответствует Ее месту в Евхаристическом каноне, в
котором Церковь поминает Ее во главе всей Церкви, непосредственно после
таинства преложения Святых Даров. Вместе с тем, так как Божия Матерь
олицетворяет, вернее представляет в Своем Лице самое Церковь, ибо Она вместила
в Себе невместимого Бога, которого весь сотворенный мир вместить не может, то
Она в этом месте алтаря часто изображалась в образе «Оранты», то есть как
Предстательница перед Богом за грехи мира, каковой Она, как и Церковь,
является. И изображение Ее в виде «Оранты» именно там, где совершается
Бескровная Жертва, приобретает совершенно особый смысл. Ведь воздеяние рук –
молитвенный жест, дополняющий таинство. Он является как бы завершением,
неотделимым от него и возносящим приношение горе, к Богу. Поэтому мы видим этот
жест у священнослужителя трижды во время совершения литургии (на проскомидии,
во время херувимской песни и во время эпиклезы). Это воздеяние рук нигде не
предписывается, но оно глубоко вкоренилось в богослужебную практику как
неразрывно связанное с приношением жертвы и, можно сказать, воплощающее в себе
молитву. Далее, поскольку алтарь является местом приношения Бескровной Жертвы,
установленной Самим Христом, то вверху, над изображением Божией Матери, часто
помещалось изображение Христа. Он есть «и Приносяй, и Приносимый», и Его образ
имеет здесь особое евхаристическое значение. Наконец, в полукружии свода абсиды
– изображение Пятидесятницы. Образ этот должен указывать на присутствие Святого
Духа, силою Которого совершается таинство Евхаристии.
Этот краткий обзор позволяет представить себе всю
важность алтаря: это – место, освящающее весь храм. Поэтому роспись его, можно
оказать, наиболее сильная и сжатая. Когда открываются царские врата во время
богослужения, это означает, что само небо приоткрывается нам, и мы получаем
возможность заглянуть в его премирную славу.
Средняя часть храма, как выше было сказано, символизирует
собою тварный мир, преображенный, новую землю и новое небо, и в то же время и
тем самым – Церковь. Поэтому в куполе изображался Глава Церкви – Христос
Вседержитель. Так как Церковь была предвозвещена пророками, основана на апостолах,
то они изображались непосредственно под образом Спасителя. Затем в парусах
изображались четыре евангелиста, проповедавшие Евангелие четырем частям света.
Колонны, поддерживающие все здание, украшались изображениями столпов Церкви:
мучеников, святителей и преподобных. На стенах – главные события священной
истории, особенно те, которые празднуются как раскрывающие христианское учение,
как «перлы божественных догматов», по выражению св. Германа
Константинопольского. Наконец, западная стена заполнялась изображением
Страшного суда – конца истории Церкви и начала будущего века.
Таким образом, тематика росписей распределялась в
зависимости от смысла храма в целом и от смысла его отдельных частей.
Распределение сюжетов подразумевается само собою для всякого, кто живет
церковным Преданием.
Во всем сказанном нет ничего нового. Однако, когда мы
начинаем теряться в стихиях мира сего и обмирщаемся, мы теряем этот
спасительный путь Церкви. Но сама Церковь никогда его не теряет и постоянно нам
о нем напоминает своим богослужением, голосом своих Соборов, своих иерархов,
или даже просто верующих мирян. Еще совсем недавно, в 1946 году, Святейший
Алексий, Патриарх Московский и всея Руси, в обращении к московскому
духовенству, призывал его на путь следования Преданию: «Для того, чтобы...
указать, в чем заключается, не по моему личному вкусу, а по самому духу
церковности, то, что мы разумеем под названием «благолепия» в храме, в
богослужении, в частности в пении церковном, – я хочу преподать необходимее для
всех отцов настоятелей и для всех храмов нижеследующие указания. Обратим
внимание на то, что в храме Божием все отлично от того, что мы видим в в наших
жилищах: иконы – не такие, какие мы имеем в домах; стены расписаны священными
изображениями; все блестит; все как-то поднимает дух и отвлекает от обыденных
житейских дум и впечатлений. И когда мы видим в храме что-либо не
соответствующее его величию и значению, то это оскорбляет наш взор. Святыми
отцами, установившими не только богослужебный чин в храмах, но и их внешний вид
и внутреннее устройство, все было продумано, все предусмотрено и устроено для
создания особого настроения в молящихся, дабы ничто в храме не оскорбляло ни
слуха, ни взора и дабы ничто не отвлекало от устремления к небу, к Богу, к миру
горнему, отображением которого и должен являться храм Божий. Если в лечебнице
телесных недугов все предусматривается к тому, чтобы создать для больного
условия, потребные ему по состоянию его здоровья, то как же все должно быть
предусмотрено в лечебнице духовной, в храме Божием!» (Из Пасхального послания
Святейшего Патриарха Алексия к настоятелям церквей г. Москвы в 1946 г. См.:
Календарь Московской Патриархии за 1947 г.).
Особое внимание в этом своем обращении Святейший Патриарх
уделял пению. «Исполнение церковных песнопений в крикливом тоне светских
романсов или страстных арий не дает возможности молящимся не только
сосредоточиться, но уловить содержание и смысл песнопений». Эти романсы и арии,
может быть, очень красивы сами по себе, но в храме эта красота становится не
созидательной, а разрушительной, так как мешает уловить содержание и смысл
песнопений. В лучшем случае, не выполняя того назначения в храме, которое она
призвана выполнять, эта музыка просто не имеет смысла.
То же самое можно сказать и в отношении образа. У каждого
из нас есть, конечно, свои привычки и свой вкус. Однако в храме мы должны уметь
их преодолевать, ими жертвовать. Да и назначение храма совсем не в том, чтобы
удовлетворять привычки и вкусы тех или иных лиц, а в том, чтобы направлять всех
на спасительный путь Церкви. Символика храма показывает, на чем основан
иносказательный символический язык православного богослужения, и в частности
иконы, язык, который мы разучились понимать. Образ есть то, что характеризует
Новый Завет, в его отличительных чертах. Новозаветный образ исчезнет лишь с
появлением той реальности, которую он предображает, Царствия Божия. Но пока мы
еще в пути, пока Церковь еще строит это грядущее Царствие Божие, и мы пребываем
в области образа, иконы. При посредстве образа Церковь указывает нам путь к
нашей цели. Участвовать в созидании Царствия Божия, сознательно говорить «да
приидет Царствие Твое», мы можем только в том случае, если у нас есть какое-то
указание, некоторое предведение того, что такое это грядущее Царствие.
Символика православного храма, и в частности православной иконы, и есть
некоторый слабый, но подлинный отблеск славы будущего века, подобно тому, как
говорит преп. Симеон Новый Богослов: «Бог столько познается нами, сколько может
кто увидеть безбрежного моря, стоя на краю его ночью с малою в руках зажженною
свечею. Много ли, думаешь ты, увидит этот из всего безбрежного моря? Конечно,
малость некую или почти ничего. При всем том, он хорошо видит воду ту и знает,
что пред ним море, что море то безбрежно и что он не может его все обнять
взором своим. Так есть дело и в отношении к нашему богопознанию».
3.1.1.12.
Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви
(Переславль, 1997, с. 247–252.)
К патриаршеству святителя Фотия относится изменение в
системе росписи храмов. Именно он был вдохновителем иконографии и ее
распределения, вырабатывавшихся в это время в Константинополе. Господствовавший
до тех пор исторический подбор сюжетов в росписи храмов уступает место
догматическому началу. Такой принцип росписи устанавливается одновременно с
широким распространением храмов крестово-купольного типа, то есть церкви,
имеющей в основе своей архитектуры куб, увенчанный куполом. Такой храм является
идеальной формой выражения в архитектуре основ православного литургического
мышления. В противоположность архитектуре классической, которая, исходя из
внешнего, шла к внутреннему и придавала содержание форме, православная
архитектура исходила из содержания, придавая ему форму, идя таким образом от
внутреннего к внешнему. Храм крестово-купольного типа вместе с росписью
позволяет наиболее наглядно и ясно выявить его символическое значение и, в
пределах возможного, наиболее полно выразить православное учение о Церкви. Эта
система постройки храма была принята в качестве основы во всем православном
мире. В разных странах она видоизменялась, перерабатывалась в соответствии с
местными художественными вкусами и получала новое художественное выражение.
Вырабатывались новые композиции храма, новые строительные и декоративные
приемы, которые в дальнейшем отражались также и на архитектуре самой Византии.
Одним из самых ранних памятников преобразованной системы
росписи был, по-видимому, константинопольский храм, перестроенный императором
Михаилом III. Роспись его известна по проповеди
св. Патриарха Фотия на его освящение (около 864 г.). В куполе образ Христа. «Он
как бы обозревает землю, обдумывая ее устройство и управление ею. Художник
хотел, таким образом, формами и красками выразить попечение Творца о нас. В
парусах множество ангелов составляют стражу своего Царя. В апсиде над престолом
сияет Божия Матерь, воздевая за нас Свои пречистые руки как заступница. Сонм
апостолов и мучеников, пророков и праотцев, в своих образах, наполняет и
украшает весь храм». Об аналогичной системе росписи говорят и две речи
императора Льва VI (886–912)
на освящение храмов.
Сочетание крестово-купольной архитектуры храма с вновь
принятой системой росписи представляет собой наиболее полное выражение
христианского понимания храма и его литургического осмысления и значения,
«самым блестящим творением духа учения об иконах», – говорит один из западных
авторов. Именно в такой форме храма его архитектурный и смысловой центры
совпадают и вокруг этого единого центра распределяется тематика росписи. Все
подчинено здесь общему соборному плану, включено в соборное единство. Вокруг
Христа Вседержителя в куполе и Богоматери в апсиде собирается все, как
небесное, так и земное, предназначенное в Богочеловеке Христе стать новой
тварью. Ангельский собор, человеческий род, звери, птицы, растения, светила
небесные – вся вселенная объединяется в единый храм Божий: весь космос
вмещается под сводами храма, который есть образ восстановленного единства,
нарушенного грехопадением. Это космический аспект Церкви, так как ей, как Телу
Христову, принадлежит все мироздание, которое после воскресения Христова
становится причастным Его прославлению и подчинено Его власти. «Дадеся Ми всяка
власть на небеси и на земли» (Мф.28.18). Земля проклятая (Быт.3.17) становится
землей благословенной, начатком новой земли под новым небом... Это объединение
всех существ в Боге, этот обновленный во Христе грядущий космос,
противополагаются всеобщему раздору и вражде среди твари. Изображение мира
растительного и животного, орнаменты геометрический и растительный входят в
роспись храма... не только как художественное дополнение, но и как выражение
принадлежности тварного мира, через человека, Царствию Божию. Таким образом,
роспись соответствует и самому факту приношения человеком начатков этого
тварного мира в храм, начиная с его построения и кончая литургией «Твоя от
Твоих Тебе приноояще о всех и за вся». Именно в литургии осуществляется в
полноте смысл христианского храма. Его архитектура и роспись осмысляются
объединением Церкви небесной и земной в лице ее членов, собранных воедино духом
любви в живом общении Тела и Крови. В них и через них осуществляется всеобщее
единство, и храм обретает полноту выражения своего смысла, как его толковали
отцы-литургисты доиконоборческого периода: он – образ Церкви, своим
устремлением направленный к эсхатологическому свершению. И фактически, и
образно он – частица грядущего Царствия Божия.
Все внимание здесь сосредоточено на человеке, точнее на
том, чтобы поставить молящегося в условия, наиболее возвышающие его к
боговедению и богообщению. В православном храме все усилия направлены не к
тому, чтобы создать место, располагающее к «сосредоточенности на себе, одинокой
медитации, встрече наедине со своими внутренними тайнами», а к тому, чтобы
включить человека в соборное единство Церкви, чтобы она, земная и небесная, «Едиными
усты и единым сердцем» могла исповедовать и славить Бога.
Если в римо-католичестве архитектура храма и его
оформление отличаются большим разнообразием и, в зависимости от духовного
направления, изменяется, часто коренным образом, характер архитектуры, то в
православном мире руководствовались последовательными поисками наиболее точного
архитектурного и художественного выражения смысла храма в соответствии с его
пониманием как образа Церкви и символического образа мироздания. В
противоположность римо-католичеству, при богатом разнообразии архитектурных
решений, раз найденное, наиболее верное выражение в своих основных чертах
устанавливалось окончательно. В соответствии со смыслом храма и программа
росписи также в основе оставалась одной и той же в храмах любого типа и
значения: соборных, монастырских, приходских и даже погребальных часовнях. Если
эта общая система росписи не отражает функций храма в связи с его практическим
назначением, то неизменность ее связана с неизменностью основной функции всякого
христианского храма – служить вместилищем таинства Евхаристии. Конечно, роспись
храма может уклоняться от идеального равновесия, может быть более или менее
полной: но в какую бы сторону она ни уклонялась, христологичеокую,
мариологическую, житийную или иную, ее основа всегда одна и та же. Это не
значит, что сюжеты этой основы остаются неизменными: они естественно продолжают
развиваться, или, вернее, раскрываться. Но установленная в послеиконоборческий
период классическая система росписи остается в Православной Церкви в качестве
общего правила до XVII века
включительно.
3.1.1.13.
Успенский Л.А. Вопрос иконостаса
(М., 1992, с. 17, 18, 27.)
Православный храм в целом представляет собой все
мироздание. Он образ мира, обновленного, преображенного космоса, образ
восстановленного вселенского единства, которое противополагается всеобщему
раздору и вражде среди твари. Это мир, построенный в храм и завершенный главою
– Христом. Поэтому в греческом Подлиннике рекомендуется вокруг Господа
Вседержителя в куполе делать следующую надпись: «Видите, видите, яко Аз есмь, и
несть Бог разве Мене» (Второзак. 32.39) и «Аз сотворих землю и человека на ней,
Аз рукою Моею утвердих небо «(Ис. 14.12). Иначе говоря, храм раскрывается как
образ определенного состояния вселенной, того состояния, которое переживается
Церковью как норма, подлежащая достижению и находящаяся уже за гранью истории.
Отсюда определение храма как «рая», «Царствия Божия» и т.п. Литургия начинается
торжественным возгласом: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа»:
образ этого Царства и есть храм. Поэтому, входя в него, человек из мира
временного вступает в мир вечный, в царство будущего века, где «времени больше
не будет» (Апок. 10.6).
Храм имеет определенную систему росписи, выработанную в
послеиконоборческий период. Но это отнюдь не означает, что система эта имеет
постоянную, неизменную во всех частях тематику. Существует определенная схема,
которая в одних частях храма требует постоянной тематики, в других же допускает
большое разнообразие и наполняется более или менее произвольно. Однако это
нисколько не меняет основного смысла храма. То, что символически выражено
самими архитектурными формами (купол – небо, корабль – земля и т.д.) уточняется
и подчеркивается росписью. Иконостас, также как и храм, представляет собой
образ Церкви, но в другом ее аспекте. Если храм есть литургическое
пространство, вмещающее собрание верующих и символически включающее в себя все
мироздание, то иконостас показывает становление Церкви во времени и ее жизнь
вплоть до увенчания парусией. Излагая последовательно исполнение Церкви от
Адама до Страшного суда, иконостас раскрывает осмысление временного процесса
приобщения его к вневременному акту Евхаристии.
3.1.1.14.
Щусев А. Мысли о свободе творчества в религиозной архитектуре
(Зодчий, 1905, № 11, с. 132-133.)
Архитектор А.В.Щусев
(1873–1949) – создатель многих православных храмов в «неорусском стиле», в том
числе Марфо-Мариинской обители в Москве, храма-памятника на Куликовом поле и
др.
...Они (реставраторы) в своем ученом
увлечении перестают видеть красоту и характер форм и пропорций, не видят связи
широких простых перекрытий с вычурностью главок, они все хотят объяснить
случайностью, подражанием и заставляют нас не творить в русском стиле свободно,
запоминая только общую идею, силуэт строения и связь его с местностью и вкусом
жителей, а выкопировать и запоминать всякие профильки, крестики и другие мелочи
и потом их еще обытальянить по-своему, дабы придать им дешевую культурность XX столетия...
Архитекторам необходимо уловить и почувствовать
искренность старины и подражать ей в творчестве не выкопировкой старых форм и
подправлением, то есть порчей их, а созданием новых форм, в которых бы
выражалась так искренне и так красиво, как в старину, идея... ради которой
построено сооружение...
Если во всем, в особенности в идейных вещах, желать,
чтобы нас вдохновляла конструкция, то мы и новых конструкций не изобретем, и
вычеркнем из страниц архитектуры такие вещи, как фальшивые главки в русском
стиле и фальшивый купол на гробнице Тамерлана в Самарканде. В искусстве
необходимо правильно выражать идеи и достигать силы впечатления, не раздумывая
о средствах (предполагается, что средства, то есть знание современных
конструкций, архитектору доступны в совершенстве, подобно тому, как музыкант
должен знать инструмент, при помощи которого он творит).
3.1.2.
Вторая половина XX в.
3.1.2.1.
Бобков К.В., Шевцов Е.В. Символ и духовный опыт Православия
(М.: ТОО«ИЗАН», 1996, с. 25-49.)
В
книге доктора философских наук Е.В. Шевцова и кандидата философских наук К.В.
Бобкова раскрывается сущность православного символизма, в том числе храмовая
символика.
Святая
Церковь Божия есть человек;
алтарь в ней
представляет душу,
божественный
жертвенник – ум, а храм – тело.
(Творения
преп. Максима Исповедника, кн. I, с. 160.)
Представляется, что современные
исследователи, переводя христианское мироощущение человека далекого прошлого на
язык современного рационализма, упускают нечто главное, что как раз и
составляет неповторимость духовной жизни прошлого. В этом случае стираются
грани ее уникальности и настоящее становится простым продолжением (улучшенным
или ухудшенным – это зависит чаще от социально-политических установок пишущего)
исчезнувшего прошлого. Но есть в русском Православии нечто однажды данное и не
вмещаемое в схемы «понимающего рассудка». Православная мысль, равно как и ее
визуальное воплощение в церковном искусстве, никогда не была философией,
эстетикой, этикой, искусством в нашем современном их понимании. «Отцы Церкви, –
пишет В.Н. Лосский, – несмотря на всю философскую культуру и естественную
наклонность к спекулятивному мышлению, сумели удерживать свою мысль на пороге
тайны и не подменять Бога Его идолами... Вопрос соотношения богословия с
философией никогда не ставился на Востоке».
Символами различия духовного опыта Восточной и Западной
Церкви могут служить храм Св. Софии и Шартрский собор. Их сравнение позволяет
ясно увидеть картину развития православного искусства.
Символ раскрывает предмет через образ и подобие,
указывающее на нечто, превышающее самый образ; подразумевает большее, чем его
очевидное и непосредственное значение, выходящее за его границы. При помощи
какой-либо ясной и вполне известной формы символ дает возможность приблизиться
к неизвестному, неосознанному, непонятному. В удобной для чувственного восприятия
форме выражает абстрактные или духовные истины. Через конечное дает возможность
приобщиться к бесконечному, преодолев ограниченность чувственных форм,
подняться до полного знания, до конкретного восприятия целого.
В этом плане символ можно определить как таинственный
язык, приоткрывающий то, что незримо совершается в храме, открывая глаза на
живущую в Церкви реальность. Не случайно, что для примитивного, элементарного
понимания соотношения смысла вещи и самой вещи едва ли необходим термин «символ».
Да и сама Церковь вводит понятие символа довольно поздно. Еще одна особенность
символа: он не просто обозначает бесконечное количество единичностей, но в себе
же содержит закон их возникновения. Символ использует материальные конструкции
знака (слова, краски, линии, свет, цвет, звук), но сами символы при этом не
есть обозначения предметов, вещественных структур, но – сущностей, идей,
понятий. Для Православия все происходящее в мире есть не только совокупность
предметов, процессов, не только один организм, в основе которого – всеединство,
но – отображение лучшего, горнего мира. В этом заключается связь Творца и мира.
Все происходящее – только отблеск, тени невидимого глазам. Это символическое
мироощущение, когда природа и мир только лишь прозрачная оболочка, отражение
непреходящих реальностей.
Например, корабль как символ – не только один из широко
употребляемых в христианстве изобразительных мотивов, не только поэтический
образ. Этот символ проникает даже в архитектуру. В христианских памятниках
можно найти сравнение церкви с кораблем. Имеется в виду как церковная община,
так и само богослужебное помещение, храм. Не случайно название части здания
церкви – базилики – неф, звучит по-латыни «навис», что означает в переводе
«корабль».
Отдавая отчет в том, что язык религии, как и церковного
искусства, не может быть без остатка переведен на язык понятий, хотелось бы
дать приблизительный эквивалент вышесказанному в эстетическом ключе. Символизм
Православия требует внепонятийной интерпретации. Икона, элементы церковного
искусства – не шарада, не кроссворд, как иногда думают. Иначе все духовные
усилия будут сведены к процессу «перевода» чуждого строя образов на понятный и
привычный всем язык. Адекватное восприятие иконы в полной мере доступно лишь
православному сознанию, ибо носитель его уже смотрит на мир через систему
религиозных символов. Общение с иконой в данном случае – это углубление
проникновения в тайну, а не одномоментная попытка вдруг заговорить на чужом
языке, постоянно заглядывая в словарь.
Постижение символизма подразумевает не чувственное или
интеллектуальное, но чувственно-сверхчувственное прикосновение к идее,
трансценденциям Истины, Любви, Красоты. Проще объяснить с помощью аналогии.
Чтобы постичь совершенную красоту двадцати четырех прелюдий и фуг Баха, хорошо
иметь «на слуху» каждую из них и все вместе, с тем, чтобы в акте сиюминутного
восприятия конкретной прелюдии и фуги через ее отдельность внутренним слухом
«схватывать» весь сложнейший композиторский замысел в целом. Только в этом
случае открывается красота каждой из прелюдий и фуг, а их целое воспринимается
как само совершенство.
Зримое воплощение церковного символизма – православный
храм, который представляет собой наиболее «открытую», осознанную, продуманную
систему символов.
Православный храм представляет собой сложный,
неисчерпаемый в своей обозримости символ. Расположение храма, его архитектура,
убранство, система росписи символически выражают то, что непосредственно
изобразить невозможно. Храм как целостный символ – это и образ вселенной, и существующей
в ее пределах Церкви, распространенной по всему миру и созерцаемой в
перспективе. Храм – образ мистического Тела Христова, Единой, Святой, Соборной,
Апостольской Церкви. Слово «церковь» применяется одновременно и к Церкви как
Царству Христову, состоящему из верующих, и к храму. Храм – это образ горнего
Иерусалима грядущего, «которого художник и строитель Бог» (Евр. 11.10). Это
претворение невидимого в видимое, поэтому символика храма неотделима от
богослужения. В некоторых древних литургиях символическое толкование устройства
храма вплеталось прямо в состав богослужения для поучения молящихся. Пребывание
в храме – это важнейшая сторона сложной духовной работы, это форма духовного
развития, это путь через видимое – к невидимому. По словам преп. Иоанна
Дамаскина, «мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных предметов без
какого-либо посредства и для того, чтобы подняться вверх, имеем нужду в том,
что родственно нам и сродно» (1-е Слово в защиту святых икон, гл. II).
Итак, в храме все подчинено единой цели, храм – это путь
к обожению, это священное место, где члены Церкви приобщаются божественной
жизни в таинствах. Поэтому храм – это частица грядущего Царствия Божия,
предвосхищающая его пришествие. Одновременно храм – это образ всего Царства Божия,
к которому Церковь ведет весь мир. И наконец, храм – это мир, вселенная, смысл
которой придает соучастие в драме спасения.
Символика храма, таким образом, есть выражение
литургической жизни Церкви, важнейшей стороны церковного Предания. Общение с
Богом, возрождение для новой жизни, «нового неба» и «новой земли»,
осуществляющееся прежде всего в таинстве Евхаристии, происходит в храме. Именно
поэтому храм – «дом Господень» – отличен от всякого другого здания.
Обособленность храма – не только пространственная. Храм «обособлен» и от
принципов светской архитектуры, и живописи, музыки, это Царство Божие, которое
«не от мира сего». Вспомним известное повествование летописи об обращении в
христианство св. князя Владимира. Послов, вернувшихся из Константинополя для
ознакомления с различными религиями, поразили не красота и богатство
императорского дворца, но особое благолепие храма Святой Софии. Присутствуя на
богослужении, послы забыли, где они находятся, на земле или на небе. Эта
легенда хорошо передает особую церковную красоту органического подчинения всех
видов искусства в храме одной цели – выражению образа церкви как преображенного
мира. Не свое «я» стремится выразить художник, но подчинить свое искусство
общему смыслу храма, влиться в единый ансамбль, в котором каждый вид искусства,
подчиняясь единой цели, обретает полноту своего значения в литургическом
единстве.
Однако далеко не всегда архитектурный замысел абсолютно
адекватен церковной идее храма, на что обращают внимание специалисты по
церковной архитектуре. Это относится к Исаакиевскому собору в Петербурге и
восстанавливаемому ныне храму – собору Спасителя в Москве. Так, Исаакиевский
собор имеет портик – ряд колонн с фронтоном над ними – на каждой, в том числе и
восточной, стороне. Как будет видно из последующего изложения, это не отвечает
церковной идее храма, а соответствует лишь требованию светски понятого принципа
симметрии. Портик на восточной стороне не несет никакой символической нагрузки,
не соответствует идее входа в «дом Божий».
В храме Спасителя вместо портика на восточной стороне
появляются тройные врата. Через эти врата никому нельзя проходить, поскольку
они должны были вести прямо в алтарь с улицы, что нарушает принципы
символического устройства храма. Так требование внешней красоты, не связанное с
духовным требованием, оборачивается художественной фальшью.
Основные принципы архитектуры храма, его внутреннего
устройства и росписи передаются в церковном Предании, которое восходит не
только к апостолам, но и к закону Ветхого Завета. Уже с IV века символика храма начинает подробно
разъясняться («История Церкви» Евсевия). Детальное раскрытие символика храма получает в IV–VIII веках в трудах святых отцов – творцов
канонов. Подробные толкования мы находим в писаниях св. Максима Исповедника,
св. Софрония, св. Германа, св. Андрея Критского, св. Иоанна Да-маскина, св.
Симеона Солунского. Поскольку символика храма имеет объективное основание в
самой сущности христианства и является выражением литургической жизни Церкви,
постольку в богословских трудах, посвященных этой теме, отсутствует личный,
субъективный момент. Эта идея ясно выражена св. Симеоном Солунским: «Передаю
вам с любовью то, что я почерпал у святых отцов. Ибо у нас нет ничего нового,
но мы сохранили все, как символ веры, в том виде, в каком оно дошло до нас с
первых времен. Мы совершаем богослужение совершенно так же, как заповедал Сам
Спаситель и как установили апостолы и отцы Церкви» («Книга о храме»). В
позднейших богословских трудах обобщен и систематически изложен опыт
символической жизни Церкви. В частности, отдельные аспекты символики храма в
его живой истории подробно рассматриваются в работах Н. Троицкого, П.
Флоренского, Л. Успенского.
Символика
христианского храма раскрылась постепенно. В символике ветхозаветного храма
предощущалось пришествие Спасителя. Ветхозаветная скиния, прообраз нашего
храма, воплощала в устройстве идею всего мира. Она была построена по образу,
показанному Моисею на горе Синай. Бог как бы дал не только общий ее план, но и
определил все ее устройство. Вот описание скинии, данное Иосифом Флавием:
«Внутренность скинии разделена была в длину на три части. Сие троечастное
разделение скинии представляло некоторым образом вид всего мира: ибо третья
часть, между четырьмя столбами находившаяся и неприступная самим священникам,
означала некоторым образом небо, Богу посвященное; пространство же на двадесять
локтей, как бы землю и море представляющее, над которым свободный путь имеют
люди, определялось для одних священников» (Иудейские древности, кн. III, гл. 6). Третья часть соответствовала
подземному пространству – шеолу – области умерших. Храм Соломона также
символизировал вселенную. Но сближение скинии и храма Соломона с новозаветным
храмом имеет свои границы. Символика Ветхозаветной Церкви выражала предощущение
прихода Спасителя; для пребывающего в Новозаветной Церкви пришествие Спасителя
уже совершилось. При отсутствии соответствующей пластики и иконографии скиния и
храм Соломона не могли выразить идею Церкви во всей полноте.
Отдельные
элементы храма могут меняться в зависимости от национально-исторических
особенностей, он может быть построен не только в форме креста, но и в форме
ротонды, базилики, но эти внешние различия лишь подчеркивают
структурно-символическое единство храма. Основная тема, определяющая всю
символику храма, это сближение человеческого и божественного, это движение к
будущему Царству Божию, Горнему Иерусалиму. В храме верующий оказывается
причастным к искупительной жертве Спасителя, он ощущает необходимость повторить
ее в собственной душе. В храме же открывается и смысл этой жертвы: преображение
человека и мира, павшего по его вине. Храм – осуществленное примирение
человека, вверяющего себя Богу, с Богом, принесшего за человека искупительную
жертву.
О символике
наземных храмов первых христиан известно немного. Лишь позже, с появлением
ересей, догматические истины вероучения и символическая сторона богослужения
формулируются теоретически. Но уже в самых ранних христианских памятниках можно
найти указания на то, что храм должен напоминать корабль, должен иметь три
двери как указание на Святую Троицу. Образ корабля, особенно Ноева ковчега,
часто используется и по сей день для обозначения Церкви. Как Ноев ковчег был
спасением от морских волн, так и Церковь, ведомая Святым Духом, является для
христиан прибежищем в житейском море. Поэтому и до сих пор «кораблем»
называется срединная часть храма. Археологические раскопки доказывают, что
многие древние храмы строились по образу Ноева ковчега в виде четырехугольного
ящика с голубем наверху. Ноев ковчег не только прообраз Церкви, но и,
одновременно, образец для храма. Для первых христианских общин, со всех сторон
окруженных враждебными им язычниками, храм был ковчегом, в котором они находили
прибежище и спасение.
В IV веке, при императоре Константине, Церковь
получила гражданские права. С этого времени началось повсеместное строительство
и украшение храмов. Множество новообращенных, заполнивших эти храмы, нуждалось
в духовном наставлении, в разъяснении христианской веры. Одним из средств
такого разъяснения и была целокупная символика храма и богослужения. К этому
времени относятся литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. Сближая
Церковь, живой храм Божий, с самим зданием храма, Иоанн Златоуст учит, что
каждый верующий и все вместе есть храм; все народы – это четыре стены, из
которых Христос создал единый храм. Сходные воззрения на храм можно найти и у
западных богословов. В XII веке
магистр Петр Карнатский рассматривал храм как образ мира. «В основании храма, –
писал он, – полагается камень с изображением храма и 12 других камней в знамение того, что Церковь покоится на Христе и 12 апостолах.
Стены означают народы; их четыре, потому что они принимают сходящихся с четырех
стран». Храм, как видно из сказанного, имеет четыре стены, соответствующие
четырем странам мира, следовательно, имеет форму куба. Этому символу вполне
соответствует древний тип церковной архитектуры – как византийский, так и
перенесенный на русскую почву – киевский, владимирский, новгородский,
московский и т. п.
Позднее храм
сближается со скинией, принимая подобие мироздания. В своей «Книге о храме»
Симеон Солунский учит, что алтарь, где находится святая святых, образует небо,
а собственно храм и притвор означают землю и все, что есть на земле. Храм
разделяется на три части, как разделялись ветхозаветная скиния и храм Соломона.
Так же, как Ветхозаветная Церковь была прообразом Церкви Нового Завета, так и
скиния, и храм Соломона были прообразом новозаветного храма. Но Ветхозаветная
Церковь не могла выразить символику христианского храма во всей ее полноте, как
храма трехипостасной Премудрости Божией. Недаром Юстиниан после завершения
постройки храма Св. Софии воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон!» Трехчастное
деление храма символически указывает на чиноначалия горних сил, а также на сам
благочестивый народ, состоящий из трех разрядов – священнослужителей, верных,
кающихся и оглашенных.
Итак, если
храм есть образ мира, то каждая его стена должна соответствовать одной из стран
света и, одновременно, – той или иной области церковной жизни. Восточная часть
храма – это область света, «страна живых», страна райского блаженства.
Потерянный нами рай был на Востоке, в Эдеме (Быт. 2. 8). Многие восточные
предания также указывают на Восток, чаще всего – на Индию как область
потерянного рая. Предание о пребывании рая на Востоке присутствовало в древней
космографии. С Востока через Византию и Запад оно перешло в Россию. «Симову
часть, – говорится в космографии 1670 года, – первого сына Ноя, положиша
восточную и нарекоша именем ея Азия. Конец же ся достигает до восточного моря,
до Макаринского острова, еже есть близ блаженного рая... Под востоком солнца
есть место, где исходят четыре великия реки райския... Ныне же по тем рекам
достоит итти до блаженного раю, и не возможно, потому что рай блаженный удален
бысть по преступлении Адамове, только он на земли же стоит». Соответственно
этим воззрениям, на древних географических картах рай не только отмечался
названием на восточной стороне, но даже изображался. Так, на карте XIII века на крайнем пределе Востока
изображен рай в верховьях четырех райских рек, там же – Адам и Ева, искушаемые
змием. Вне рая показано изгнание их ангелом. На карте XIV века рай изображен на Востоке, на
берегах реки Инд.
Восток также
– место Вознесения Христа. Наконец, пришествие будущего Царствия Бо-жиего,
«восьмой день творения», символизируется восходом солнца, востоком. Поэтому
отцы Церкви и предписывают при молитве обращаться на восток. В Собрании древних
литургий говорится: «Ты же, епископ, когда собираешь Церковь Божию, то
приказывай составлять собрание с полным знанием дела. И во-первых, само здание
должно быть обращено на восток... Все вместе, встав и обратившись к востоку, по
выходе оглашенных и кающихся, пусть молятся Богу, возшедшему на небо небесе на
востоки, в воспоминание также о древнем жительстве в раю, находящемся на
востоке, откуда первый человек был изгнан за нарушение заповеди по наветам
змия».
Наиболее
важной частью храма является алтарь. Алтарь всегда находился на восточной
стороне храма. В Древнем Риме поэтому христиан часто называли
солнцепоклонниками. Уже тогда отцам Церкви приходилось объяснять, что обращение
в сторону восхода солнца носит символический характер, означает преклонение
перед «Солнцем Правды» – появлением Христа. Алтарная символика восходит к
глубокой древности. Само слово «алтарь» означает «высокий жертвенник» (alta ага). Традиционно древние народы
ставили свои жертвенники и храмы на возвышенности, как бы приближая их к небу,
к небожителям – богам, сами храмы они называли горами. Так, в одном из
шумерских текстов царь города Ларсы говорит, что он построил храм «Радость
сердца» в честь богини Нана и главу его возвел наподобие горы. Подобным горе
назывался и древний храм Кинпура в южной Халдее, посвященный «отцу богов» Белу
и его супруге, где мыслилось их пребывание и приносились им жертвы. Такое
стремление быть ближе к богу, выразившееся в устройстве жертвенников и храмов
на горах, встречается и в других странах. Если же не было подходящей горы или
простой возвышенности, для жертвенника делалось искусственное возвышение в виде
холма – кургана. Поэтому у греков в древности жертвенник назывался вомос, то
есть земляная насыпь. В «Трудах и днях» Гесиод говорит о том, что «серебряное
поколение» нарушает обычай, принося жертвы ниже, чем подобает (стих 135–137). В
Библии можно найти свидетельства о стремлении приблизиться к Богу у языческих
племен. В Палестине древние племена устраивали жертвенники Астарте и Ваалу на
высотах. Поклонение истинному Богу, по библейским преданиям, также совершалось
на высоких местах.
На вершине
горы, где остановился ковчег, ставит свой первый жертвенник Ной. В земле Мориа на одной из двух
вершин Сиона приносит Авраам свою чудесным образом преобразованную жертву.
Горой Иеговы, как сказано в Библии, стали называть это место с тех пор (Быт.
22. 14). Иисус Навин ставит скинию на Гаризине, Давид – на Сионе. Храмы
Соломона, Ирода стояли на той же горе. Настолько сильно было стремление к
вершине, что и поклонники истинной веры, и впавшие в язычество приносили жертвы
на высотах. И первая христианская Евхаристия совершается на Сионе. Свою
крестную жертву Спаситель совершил на холме Голгофском.
Идея высоты,
или восхождения, в христианском храме выражается или в том, что весь храм
строится на возвышении, или же в том, что алтарь возвышается на несколько
ступеней над полом. Часть этого возвышения, выступающая на середину храма,
называется амвоном (от греч. – возвышение). Амвон, по словам св. Германа,
знаменует камень у Святого Гроба Господня, который отвалил ангел и с которого
он возвестил женам-мироносицам о воскресении Христа, Поэтому восходящие на
амвон священники и дьяконы знаменуют ангела.
Алтарь –
основная святыня храма, освящающая все здание. Он соответствует святая святых
ветхозаветной скинии. Алтарь – та часть храма, которая символически изображает
«селение Божие», «небо небесе», место, по словам св. Германа, Патриарха
Цареградского, где восседает на престоле с апостолами Христос. Каким образом
стоящий на горе вместе с храмом или поставленный на возвышении в самом храме
алтарь одновременно символизирует собою рай? Символическая интерпретация
алтаря, его местоположения сложна и многослойна. У древних понятие о рае
соединялось с представлением о горе блаженных. Боги обитали на вершинах высоких
гор, недоступных людям, к горам стремились и восходили души праведных.
Библейское Откровение также свидетельствует о многочисленных явлениях Бога на
вершинах или над вершинами гор.
Как объяснить
символическое отождествление алтаря с раем и то обстоятельство, что в алтаре
приносится Жертва на престоле, но ведь жертва была принесена вне рая! Вспомним
Ветхий Завет: «И насадил Господь» Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там
человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево,
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая...» (Быт. 2. 8.
9). В Новозаветной Церкви «древо жизни» и есть Сам Христос, Его Плоть и Кровь,
преподаваемые в таинстве Евхаристии и, по слову Церкви, служащие для
приобщающихся им источником вечной жизни. Символ этого «древа жизни»,
виноградная лоза, нередко помещается на царских вратах. С виноградной лозой
сравнивал себя Христос непосредственно после совершения им Евхаристии на Тайной
вечере (Ин. 15, 1, 2). Связь алтаря – жертвенника с горой Сион как местом
первой Евхаристии выражают символические «Сионы» или «ковчеги», в которых
помещаются Святые Дары – Тело и Кровь Господня. Они представляют собой храм в
миниатюре с изображением на его сторонах апостолов и служат прообразом той
горницы на Сионе, где впервые была принесена Спасителем Евхаристическая Жертва.
Но те же «Сионы» символизируют и ветхозаветный ковчег скинии и храма
Соломонова, которые также стояли на Сионе. Недаром их называют также и
ковчегом. В ветхозаветном ковчеге хранилась манна – «хлеб жизни», упавший с
неба. В новозаветном ковчеге хранятся Тело и Кровь Господа – «хлеб живый,
сшедший с небес» (Ин. 6. 51). Манна в этом случае – лишь прообраз истинного
«хлеба жизни».
Образ самой
Сионской горницы, где было впервые совершено таинство Евхаристии, представляет
киворий – купол над престолом, поддерживаемый колоннами. Киворий как бы осеняет
престол со Святыми Дарами и предстоящими престолу епископами и пресвитерами,
подобно тому, как некогда в Сионской горнице присутствовал Христос с
апостолами. Одновременно киворий символизирует и место распятия и положения Тела
Христова. Горница и надгробный памятник, объединенный одним символом Жертвы.
Врата
алтарные также выражают мысль, согласно которой алтарь есть символ неба – рая.
Алтарные врата, которые мы привыкли называть царскими, в древности назывались
райскими. «Егда заутреню пети хотят у Св. Софии, – говорит архиепископ Антоний,
– прежде поют пред царскими дверьми в притворе, и вышед, поют посреде церкви и
двери отворят райския и третья поют у алтаря». Во многих храмах сохранилось
письменное свидетельство об алтарных вратах как символе рая, как «вратах
Господних». Идея алтаря – рая подчеркивается также различными изображениями рая
на дверях.
Литургия
также служит подтверждением идеи отождествления алтаря с раем. Когда
открываются царские врата, это означает, что рай был закрыт в результате
грехопадения Адама, с пришествием же Христа рай стал близок нам. Смысл открытия
царских врат на Пасху выражен в пасхальном каноне: Христос воскрес из гроба и
отверз нам райские двери.
Если
восточная стена храма вместе с алтарем есть воплощение страны света, страны
живых, места райского блаженства, то западная сторона, где находится притвор, –
это область мрака, скорби, область печального заходящего, умирающего солнца у
древних. Христианская Церковь восприняла и обогатила эту символику.
Притвор
соответствует двору скинии. В притворе стоят оглашенные и кающиеся, те, кто
готовится войти в Церковь, и те, кого Церковь не допускает к причащению Святых
Тайн. Они не изгоняются из храма, они могут пребывать в нем до определенного
момента, но не могут участвовать во внутренней жизни Церкви, ее таинствах. Они
находятся на грани между Церковью и миром. Притвор символизирует мир не
обновленный, еще лежащий во грехе, даже сам ад. Поэтому притвор находится в
западной части храма, противоположной алтарю – символу рая.
Место страны
мертвых издавна закреплено за Западом. В Древнем Египте, в Малой Азии
существовал обычай располагать гробницы на западной стороне городов, на горных
склонах. На западе находилось и подземное царство Аида древних греков. Древние
географические карты прямо обозначают географию ада на западе. Портовый
португальский город Кадикс ведет свое название еще от древних греков (Гадес –
ад). На западе Иерусалима начинается узкая долина «Сынов Енномовых» – геенна,
которая стала прообразом места вечных мучений, шеолом для древних иудеев. И
религиозно-бытовое назначение долины, и ее расположение способствовали ее
последующему символическому трансформированию в образ ада. Глубокая и узкая
геенна начиналась на северо-западе от Сиона и окружала всю западную сторону
Иерусалима. Она же служила и местом погребения, по обеим сторонам ее находились
погребальные пещеры. Это было место скорби, царство смерти. Здесь же некогда
стоял и жертвенник Молоха – Ваала, в котором постоянно поддерживался огонь. Здесь
приносились уклонившимися в язычество иудеями человеческие жертвы идолу.
«Страной мрака», где царствует сам сатана – Молох, в сознании древних иудеев
стала геенна. Начинаясь на западе от Иерусалима, эта долина смерти уходила к
берегам Мертвого моря. Само Мертвое море (море Содомское) с его недвижной
поверхностью вызывало ощущение царства мертвых, было воспоминанием о проклятых
городах Содоме и Гоморре, провалившихся в глубины преисподней, о людях, как бы
живыми сошедшими в ад. На западе же, около геенны, Христос сходил в ад и
освобождал души находящихся там. На Голгофе же, на холме близ самой геенны,
Христос принял свою смерть. Поэтому страна запада с ее долиной смерти для
христианской Церкви также стала страной смерти и областью ада. Страной греха,
зла, власти дьявола представляли Запад древние христиане. Как гласит сказание,
один из египетских подвижников, св. Моисей, был искушаем дьяволом. Когда он
рассказал об этом другому подвижнику, св. Исидору, тот вывел его на крышу и
заставил посмотреть на запад и на восток. На западе Моисей увидел бесчисленное
множество демонов, они были в смятении и готовились к битве. На востоке св.
Моисей увидел святых ангелов, облеченных славой. Тогда сказал св. Исидор: «Вот
те, которых посылает Господь на помощь святым; а те, которые на западе,
воздвигают брань против них».
Эти взгляды
на Запад как на страну мертвых, ад, воплотились в символике западной стороны
христианского храма. На этой стороне, как правило, хоронили умерших. Еще в
Византии существовал обычай хоронить умерших на западной стороне – внутри или
снаружи храма, в притворе, реже – на прилегающей северо-западной стороне. По
распоряжению Константина – первого христианского императора, местом царского
погребения было установлено преддверие храма Апостолов. Согласно желанию
Константина, «чтобы церковь Св. Апостолов была местом погребения восточных
греческих императоров», император Юстиниан распорядился приготовить в ней для
себя и своей супруги Феодоры саркофаги, сделанные из редких сортов мрамора, в
которых должны были быть впоследствии помещены золотые гробы царственных особ.
Этот же
обычай, перенесенный на Русь, тщательно соблюдался, что можно легко обнаружить,
обратившись к истории древних храмов Киева, Новгорода, Владимира, Москвы.
Символическое
значение западной стороны храма вполне определенно выражено и в литургике. По
древнему церковному обряду, каждый, приступающий к таинству крещения,
предварительно должен по наставлению воспреемника «боголюбезно осудить прежнее
безбожие и неведение истинного блага, и недеяние божественного жития... Тогда
священ-ноначальник, поставив его лицом к Западу и руки отриновенны к оной
стране держащему, отриновением рук сообщение с темною злобою отмешущего,
повелевает трижды дунути на сатану и потом исповедати отречение от него». Подтверждается
предложенное выше толкование символики западной стороны храма и в «Книге о
храме» Симеона Солунского. «Иерарх, намеревающийся священнодействовать, – пишет
он, – нисходит от престола, которому предстоит, на средину храма и этим
означает нисхождение к нам Сына Божия. Одеваясь священными одеждами, он
знаменует всесвятое его воплощение, нисходя до врат к западу – Его явление и
жизнь на земле, смерть и нисшествие во ад. Ибо это означает выходит к западу и
нисходит до врат... Когда архиерей восходит к западным вратам облачаться, тогда
образует воплотившегося Господа, нисшедшего с неба на землю и даже до крайней
глубины земли – до ада, низложившего князя тьмы и избавившего души, содержимые
там от человека».
Средняя часть
храма, «корабль», соответствует «святилищу» ветхозаветной скинии, которое было
отделено от двора завесой. Здесь священники ежедневно воскуряли фимиам. В
Церкви новозаветной, по выражению апостола Петра, в храм входят все верующие –
«род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (I Петр. 2. 9). Эта часть храма вмещает
в себя людей, готовящихся к восприятию благодати, получаемой в таинстве
Евхаристии. Воспринимая благодать, верующие становятся искупленными,
представляют собой Царство Божие. Если Восток есть область, где находится рай,
область света, неба, а Запад – область тьмы, преисподней, ада, то середина
храма представляет собой все земное пространство, где находится Вселенская
Христова Церковь. У греков оно называется афоликон – вселенная. Если алтарь
представляет собой небо, «селение Божие», то, что превосходит тварный мир, там
пребывает Сам Бог, то средняя часть храма символизирует мир тварный, но уже
обоженный, освященный, оправданный. Это и есть в полном смысле «новое небо» и
«новая земля». Так же на это пространство смотрят и отцы Церкви. По словам св.
Германа, «Вхождение с Евангелием (из алтаря) означает пришествие Сына Божия и
внитие Его во весь мир, якоже глаголет апостол, яко егда вводит Первенца,
сиречь Бог и Отец, во вселенную, глаголет; да поклонятся Ему вси ангели Божий».
По словам св. Максима Исповедника, как в человеке соединяются начало телесное и
начало духовное, причем последнее не поглощает первого и не растворяется в нем,
но оказывает на него свое одухотворяющее влияние, так что тело становится
выражением духа, так и в храме алтарь и средняя часть входят во взаимодействие,
причем первый просвещает и руководит вторую и средняя часть становится
чувственным выражением алтаря. При так понимаемом их соотношении
восстанавливается нарушенный грехопадением порядок вселенной, то есть
восстанавливается то, что было в раю и что совершится в Царстве Божием. Симеон
Солунский прямо говорит, что средняя часть храма символизирует и «небесные
обители, и рай».
Архитектура
средней части храма полностью соответствует такому представлению о вселенной:
это так называемый кубический тип с четырьмя стенами, четырьмя парусами и
купольным покрытием. Еще древние халдеи различали четыре стороны света. В
законах царя Хаммурапи написано: «Я – Хаммурапи царь, Богом призванный...
покоривший четыре стороны совета; которому повинуются четыре стороны света». О
том, что земля имеет форму куба, писал и Платон. Взглядам Платона следовали
переводчики Библии на греческий, александрийские географы. В Космографии Козьмы
Индикоплова сказано: «Пишем убо ныне первое небо вкупе с землею комарою видно
край с край связано, яко же убо подобно тому Писанию предати, тако сотвори-хом
точию по стране заходней и восточной: те убо две страны – стене есть от долу до
самыя горе комары... Земля же убо есть четвероугольна».
Но если храм
– целостный образ мира, а средняя часть – образ земли – вселенной, то и
Вселенская Церковь Христова должна быть изображена в храме в ее совокупности. И
если схему вселенной представляет такая архитектурная форма, как куб, то и
Вселенскую Церковь иконография должна изображать на всех четырех стенах храма.
Храм – прообраз грядущего Царства Божия. Для более полного выражения этой идеи
Церковь прибегает к изображениям.
Иконографические
сюжеты распределяются в зависимости от смысла каждой его части и ее роли в
богослужении. Общая символика богослужения была разъяснена отцами Церкви в
первые века христианства. Соответствие между этой литургической символикой и
росписью храма было уточнено после периода иконоборчества; тогда роспись византийских
храмов стала подобием ясной богословской системы. Именно к этому периоду
относится формирование классического типа росписи храма. С XI и до конца XVII века структура иконографических
сюжетов в храме в целом остается неизменной. На стенах храма иконография
представляет всю Вселенскую Церковь от начала, от «первозданной Церкви», до
самого конца Страшного суда. Ветхозаветная Церковь была ограничена местом,
временем, народом. Церковь Нового Завета – вселенская, всемирная, вечная.
Поэтому первое иконографическое требование заключается в необходимости
разместить все важнейшие события Церкви, этапы ее истории на всем пространстве
храма. В храме должны быть представлены иконографически и первобытная Церковь –
до потопа, и патриархальная, до Моисея, и подзаконная – до пророков, и
пророческая – до Христа, и Апостольская Церковь, и соборно-вселенская – в
перспективе до конца мира, до воскресения мертвых и Страшного суда.
Алтарь –
центр храма, его духовное средоточие, жилище самого Бога. В первые века
христианства алтарь отделялся от средней части храма, «корабля», преградой или
завесой. В процессе эволюции алтарная преграда нигде не сохранилась в
первоначальной форме: она или исчезает, как на Западе, или развивается,
преобразуясь в иконостас, как в православной Церкви. Первоначально алтарные
преграды представляли собой невысокие стенки с проемами – входами в алтарь. На
стенках устанавливали колонны, поддерживавшие горизонтальный брус – архитрав.
Известие о существовании алтарных преград впервые мы находим у Евсевия
Кесарийского. Вначале на архитраве находился только крест. В VT веке император Юстиниан поместил на
архитраве константинопольского храма Святой Софии изображения Спасителя,
Богоматери, ангелов, апостолов, пророков. Алтарная преграда – сложный символ. Традиционно
ее понимали как грань между двумя мирами – временным и вневременным. В
церковном сознании живет уподобление преграды или завесы Плоти Христовой. Вот
слова о соотношении всего храма и алтаря Павла Флоренского:
«Храм есть
лествица Иаковлева, и от видимого она возводит к невидимому; но весь алтарь,
как целое, есть уже место невидимого, область, оторванная от мира, пространство
неотмирное. Весь алтарь есть небо: умное, умопостигаемое место... Сообразно
различным символическим знаменованиям храма, алтарь означает и есть различное,
но всегда стоящее в отношении недоступности, трансцендентности к самому храму.
Когда храм, по Симеону Солунскому, в христологическом толковании, знаменует
Христа Богочеловека, то алтарь имеет значение невидимого Божества, Божеского
естества Его, а самый храм – видимого, человеческого. Если общее истолкование
антропологическое, то, по тому же толкованию, алтарь означает человеческую
душу, а самый храм – тело. При богословском толковании храма, как указывает
Солунский Святитель, в алтаре нужно видеть таинство непостижимой по существу
Троицы, а в храме – Ее познаваемый в мире промысел и силы. Наконец,
космологическое изъяснение у того же Симеона – за алтарем признается символ
неба, а за самим храмом земли».
Преграда
перешла на Русь уже в форме иконостаса, часто двухъярусного. Знаменательно, что
в ее символическом толковании явственно звучит мотив не разделения, а
объединения двух частей храма. Столь часто упоминаемый Симеон Солунский писал:
«Посему поверх столбов космитис означает союз любви и единство во Христе...
Оттого поверх космита, посредине между святыми иконами, изображаются Спаситель
и по сторонам от Него Богоматерь и Креститель, ангелы и апостолы и другие
святые. Это научает нас, что Христос находится и на небесах со Своими святыми,
и с нами теперь, и что Он еще должен прийти».
Если храм
есть литургическое пространство, вмещающее собрание верующих и символизирующее
все мироздание, то иконостас показывает становление и жизнь Церкви во времени.
Иконостас – это ярусное бытие, все ряды его являются в конечном счете не чем
иным, как раскрытием смысла первой и основной иконы – образа Иисуса Христа.
Иконостас состоит из нескольких рядов икон, расположенных в определенном
порядке. Высокий иконостас – изобретение чисто русское. Русский иконостас
формировался постепенно. В домонгольское время высоких иконостасов еще не было.
Алтарная часть русских церквей отделялась от средней части храма низкой
деревянной или мраморной преградой, украшенной помимо образов Христа и
Богоматери и различных местных святынь одним-двумя рядами икон. Алтарь с его
настенной живописью оставался открытым для обозрения молящихся в храме.
Самый
верхний, праотеческий ряд икон представляет Ветхозаветную Церковь от Адама до
Закона Моисеева. В нем изображены праотцы, ближе всех стоящие ко времени
райской жизни: Адам (иногда и Ева), Авель, Ной, Сим, Мельхиседек, Авраам и др.
Праотеческий ряд – позднее нововведение, он появился только в XVI веке, получил широкое распространение
в XVII. В центре
этого ряда помещали либо «Новозаветную Троицу» с сидящими на облаках Христом,
Саваофом и парящим над ними голубем – Святым Духом, либо икону «Отечество». На
ней изображался Бог Саваоф с младенцем Иисусом, который держит диск с
изображением голубя – символа Святого Духа. Эта икона символизировала первое
Откровение Триединого Бога. В руках праотцов часто писались свитки с текстами
из Ветхого Завета. Второй ряд иконостаса – это лица, стоящие под Законом, это
Ветхозаветная Церковь от Моисея до Христа. Здесь изображались вожди, первосвященники,
судьи, цари, пророки. До XVI века центральными фигурами этого ряда были пророки Давид, Соломон,
Даниил. Позже в центре этого ряда стали помещать икону Богоматери Знамение,
иногда – Богоматерь на престоле с младенцем Иисусом на коленях. По обеим сторонам
ее обычно располагались Давид, Соломон, Даниил, Исайя, Аарон, Гедеон,
Иезекииль, Иона, Моисей со свитками с текстами пророчеств из Ветхого Завета о
Христе Спасителе или Богоматери. Оба верхних ряда предизображают Церковь
Новозаветную, изображают ее предутотовление. Следующий, праздничный ряд,
связанный с новозаветным периодом, появляется в иконостасе с XIV века (позднее, в XVII–XVIII веках, он помещался еще ниже, под
деисисом). Здесь изображена земная жизнь Христа. Обычно «праздники» располагали
в следующем порядке слева направо: «Рождество Богородицы», «Введение во храм»,
«Благовещение», «Рождество Христово», «Сретенье», «Крещение», «Преображение»,
«Вход в Иерусалим», «Вознесение», «Троица», «Успение Богоматери», «Воздвижение
Креста». Дополнительно к этим двенадцати праздникам, а иногда и взамен их в
этот ряд включали иконы на другие евангельские сюжеты – иконы страстного цикла,
«Пятидесятницу», «Покров», «Сошествие во ад» и др. Здесь изображены своего рода
главные этапы Божьего Промысла, постепенное осуществление спасения.
Изображенные в праздничном ряду события Нового Завета составляют годовой
литургический круг. Следующий ряд иконостаса – деисис («молитва», «моление»).
По созвучию с «Иисус» на Руси этот ряд называют «деисусным». Он символизирует
исполнение Новозаветной Церкви, осуществление всего того, что изображено в трех
верхних рядах иконостаса. Это – моление Церкви за мир. Здесь Христос выступал
как судия мира, перед которым предстательствовали за грехи человеческие
Богоматерь – символ Новозаветной Церкви и Иоанн Предтеча – символ Церкви
Ветхозаветной. В акте моления принимают участие ангелы, апостолы, святители,
мученики. Христа писали сидящим на престоле, на фоне были изображены «силы
небесные» – херувимы и серафимы. Сквозь «прозрачный» престол видны сферы сияний
небесной славы («Спас в силах»). Наконец, в нижнем ряду помещали иконы с
изображениями местно чтимых святых, а также иконы с изображением того
праздника, которому была посвящена церковь, так называемые храмовые иконы. Этот
ряд получил название местного ряда. В центре ряда находятся царские врата.
Слева от врат помещается икона Богоматери с младенцем, справа – икона
Спасителя. Иконы отделялись друг от друга позолоченными резными колонками.
Основной мотив резьбы – раннехристианские символы Церкви и Евхаристии (лоза и
грозди винограда).
Иконостас в
целом постепенно раскрывает пути божественного откровения и осуществления
спасения – от предуготовления его в предках Христа по плоти и предвозвещения
его пророками. Каждый из рядов представляет определенный период Священной
истории, соотносимый с Вечным – своим центральным образом – вершиной
предуготовления и пророчеств. Через зримые образы иконостас ведет к
праздничному ряду – исполнению предуготованного и далее к ряду, где все
устремлено к Христу. В одной плоскости, легко обозреваемой с различных точек и
охватываемой единым взором, иконостас раскрывает и историю человека, образа
Триединого Бога, и пути Бога в истории. «Сверху вниз идут пути божественного
откровения и осуществления спасения... В ответ на божественное откровение снизу
вверх идут пути восхождения человека: через принятие евангельского благовестия
(евангелисты на царских вратах), сочетание воли человеческой с волей Божией
(образ Благовещения здесь и есть образ сочетания этих двух воль), через молитву
и, наконец, через причащение таинству Евхаристии осуществляет человек свое
восхождение к тому, что изображает деисусный чин, к единству Церкви». По мнению
Павла Флоренского, «вещественный иконостас не заменяет собой иконостаса живых
свидетелей и ставится не вместо них, а лишь как указание на них, чтобы
сосредоточить молящихся вниманием на них... Образно говоря, храм без
вещественного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной, иконостас же
пробивает в нем окна, и тогда через их стекла мы... можем видеть происходящее
за ними – живых свидетелей Божиих. Уничтожить иконы – это значит замуровать
окна». Иерархичное строение иконостаса, идея порядка, «чина» есть форма
подчинения храмовому целому и в конечном итоге – полноте Абсолюта. Иконостас,
объединяющий в себе разнопространственные, разновременные и одновременные
события, органичен и индивидуален. Символическое целое не просто подчиняет себе
все свои части, но как бы «одаривает» каждую из них модификацией своей полноты.
Иконостас – это символ Тела Христова; Тело Церкви, созидаемое по образу Святой
Троицы, это многоединство верующих по образу божественного единства. Таинство
Евхаристии, совершающееся на солее – на грани между алтарем и «кораблем», есть
литургическое выражение символического значения иконостаса, единства времени и
вечности, человека и Бога. Многорядность русского высокого иконостаса не
случайна, она есть выражение исихастского осмысления историчности спасения,
реальности воплощения и реальности евхаристического Тела и Крови Христа, реальности
воскресения и суда. Иконостас, таким образом, не есть простое повторение
росписи храма. Роспись храма, как увидим ниже, допускает определенную
произвольность, вариативность; храм – это мир. Иконостас же вместе с молитвой и
причащением Святым Дарам есть приобщение мира, временного – вечности,
приобщение к вневременному акту Евхаристии; иконостас – это путь преображения
мира.
Символический
смысл иконостаса определяет и изображения на алтарных вратах. На северных и
южных вратах изображаются участники таинства Евхаристии – диаконы или архангелы
– сослужители таинства. Иногда изображается благоразумный разбойник, которому
было сказано Иисусом: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.
23. 43). Вообще на алтарных вратах и в алтаре все изображения связаны с
таинством Евхаристии. На средних дверях, царских вратах, обычно изображается
Благовещение и ниже – четыре евангелиста. Благовещение – начало спасения,
олицетворение Благой вести, возвещенной евангелистами. Благая весть – это и
провозвестие прихода Бога в мир, но одновременно и уверенность в приходе Бога в
душу каждого человека, пришедшего приобщиться Святых Даров. Здесь, между
алтарем и серединной частью храма, и происходит причащение верующих. Над
вратами изображена Тайная вечеря – принятие причастия апостолами. Действия
священника символизируют действия Христа – первосвященника. Ниже изображены
святители и святые диаконы, участвующие в богослужении. Над Евхаристией
изображена Божия Матерь. Церковь поминает Ее во главе всей Церкви. Она часто
изображается в виде Оранты, Предстательницы перед Богом за грехи мира. Трижды
воздеваемые во время службы руки священника – это воздетые руки
Церкви-Богоматери. В полукружии свода апсиды изображалась Пятидесятница,
указывающая на присутствие Святого Духа при совершении Евхаристии.
Все прочие
изображения служат выражению идеи связи Бога и мира. Христос, глава Церкви
небесной, через Матерь Божию, апостолов, мучеников, отцов Церкви находится в
единении с Церковью земной. Вся роспись храма – символическая реализация идеи
вечной Церкви. Обычно на западной стороне храма изображается Страшный суд,
видение пророка Иезекииля. Уже на рукояти дверей, ведущих в храм, можно увидеть
символическое изображение ада: это свившиеся змеи, соединенные с львиной
головой, держащей в пасти человеческие фигуры. Это – символ ада и сатаны.
«Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить», – сказано
апостолом Петром (I Петр. 5. 8). Этот символ соответствует символике западной стороны храма.
Изображение Страшного суда часто сопровождалось надписями, указывающими, что
суду подлежат грехи, свойственные всем людям, грехи мира: «мука тунеядцам, мука
татям, мука разбойникам, мука блудникам, мука душегубцам, мука пьяницам». В
изображении адских мук больше разнообразия, фантазии, «индивидуальности», чем в
канонических изображениях Христа, Богоматери, апостолов. И в этом кроется
глубокий символический смысл. Дело Бога – творение мира, Боговоплощение,
Искупление, Воскресение. Зло не существовало до сотворения мира, зло не создано
Богом, оно не равновелико Ему. Зло входит в мир с человеком, с его дурными
помыслами, страстями, недостойным распоряжением дарованной Богом свободной
волей. Поэтому образы зла столь причудливы. Драконы, змеи, василиски, дикие
звери – не просто дань остаткам языческого мироощущения, как часто пишут
исследователи церковного искусства, – это символические изображения зла,
коренящегося в душе человека.
Изображение
зла, ада на западной стороне храма иногда приобретает вид сложного символа,
требующего дополнительной интерпретации для сознания современного верующего.
Так, в притворе, на лестницах и хорах древнего Софийского собора в Киеве
изображены не мрачные образы пророчеств и Страшного суда, а, казалось, вполне
светские сцены забав и игрищ. Храм Софии создан во имя Премудрости, которой
пророчески учил создатель первого храма истинному Богу, Соломон Премудрый,
первый учивший премудрости и осудивший суетность земной жизни. Жизнь в согласии
с Богом – это мудрость, учил Соломон, жизнь земная, суетная – безумие: «Премудрость
построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино
свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с
возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она
сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте
неразумие, и живите, и ходите путем разума» (Притч. 9. 1–6). Естественно
поэтому в храме Премудрости, где Премудрость устами Соломона предлагает свой
хлеб и свое вино как источник жизни вечной (таинство Евхаристии в Церкви
Новозаветной), было напомнить о неразумной, суетной жизни, ведущей к гибели.
Между храмом Софии – царством мудрости, премудрым Соломоном, основателем
первого храма истинному Богу и его поучениям, осуждающим суету и «томление
духа», и изображением суетности жизни на западной стороне храма мудрости Нового
Завета – существует символическая связь. Изображение земной, суетной жизни,
низводящей в ад, дал сам Соломон: «Я, – говорит сын Давидов, – собрал себе
серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и
певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я
великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя
пребыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял
сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах
моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои,
которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все –
суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Екклез. 2. 8–11).
Эта-то суетность жизни сынов человеческих и была изображена в притворе храма на
западной стороне – стороне мрака, изображена в виде развлечений, зрелищ. Эти
изображения как бы говорили вступающему в храм, что он идет от суеты мирской,
от мрака к Царству Истины, к Свету, что он освобождается от греха, от страстей,
опутывающих его волю, к свободе духа, предвкушает будущее блаженство. Хотя
настенные росписи доалтарной части храма, символизирующей «мир», не предписаны
детально, но общий смысл фресок в каждом храме, несмотря на их индивидуальные
черты, подчинен общей системе. Так, в древнем Спас-Нередицком храме XII века в Новгороде на восточной и
западной арках параллельно изображен Спас Нерукотворный. Эти два Нерукотворных
образа, находящиеся один против другого, написаны по-разному. На восточной арке
лик Спасителя имеет кроткое, благостное выражение, его взор обращен вправо – к
праведникам. Западная сторона – это область мрака, ада, Страшного суда,
изображенного на этой же, западной стене. Над Страшным судом на западной арке
помещено изображение Спасителя со скорбным ликом и грозными очами. Даже волосы
Спасителя отличаются по цвету от изображенных на фреске восточной арки. Здесь
образ Спасителя – как бы дополнение к сцене Страшного суда. Здесь Христос
Победитель (эта надпись помещена под образом), своей смертью и воскресением
победивший смерть и дьявола. Одновременно Христос – строгий Судья, отторгающий
в ад грешников. Поэтому изображение украшено жемчугом, принадлежностью Царя –
Судии. Здесь можно зримо увидеть различные проявления Абсолюта: Христос –
Искупитель и Утешитель, Христос – Царь славы, Победитель смерти, строгий Судия.
Знаменательно, что этот сложный образ Спасителя как бы продолжен изображением
Христа в куполе храма.
Общую идею
храма выражает и иконография его средней части – корабля. Как уже говорилось,
средняя часть храма – это символ вселенной, мира. Здесь изображена Вселенская
Христова Церковь в ее совокупности, в ее истории и перспективе – от начала
первозданной Церкви до Страшного суда – конца ее бытия – по эпохам. Если
Ветхозаветная Церковь несет на себе печать исторической, пространственной,
временной ограниченности, то Церковь Нового Завета является Церковью Вселенской,
вечной. Вся роспись храма – символ Церкви вечной. Поэтому все церковные
события, все соучастники церковной жизни размещены на всем пространстве храма,
включены в сложную символическую иерархию. Этот принцип росписи сложился в
глубокой древности и сохранен до наших дней.
На северной и
южной стенах храма размещено изображение Вселенских Соборов–важных событий
церковной истории. Семь первых Соборов «столпов ограждения» служат оплотами
бытия Церкви; с их помощью окончательно создан и завершен основной строй
вселенской церковной жизни. На четырех столбах, поддерживающих купол,
изображены те, кто проповедовал слово Божие, кто распространил, утвердил
словом, подвигами, образом своей жизни христианскую веру – истинные столпы
Церкви – апостолы, епископы, подвижники, мученики. Сам Господь говорит пророку
Иеремии: «И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и
медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против
священников его и против народа земли сей» (Иерем. 1. 18). Об апостолах как
столпах говорит и апостол Павел: «... и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и
Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам
идти к язычникам, а им к обрезанным» (Гал. 2. 9). Представление о столпах–
личностях переносится на архитектурный элемент храма – столпы, поддерживающие
свод. Семи церквам дал наставление Дух Божий через апостола Иоанна. Ангелу
Филадельфийской церкви напиши, говорит он, «побеждающего сделаю столпом в храме
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града
Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое
новое» (Откр. 3. 12). Преемники апостолов – епископы, мученики, подвижники
стали истинными столпами Церкви. В обращении св. Андрея Критского к св. Николаю
Мирликийскому сказано: «Мы именуем тебя столпом и утверждением Церкви». Св.
Григорий Палама говорит, что «все святые, находясь в сей жизни, служат
обращением к добродетели, суть есть одушевленные образы добродетели, самодвижные
столпы всякого блага». Наконец, нельзя не вспомнить столпников – олицетворений
стойкости духа и крепости веры, подвижников веры и благочестия. Они были
столпами во всей непосредственной наглядности этого символа – это были
подвижники, жившие на столбах, подвергавшиеся влиянию природных стихий, но
неподвластные им; они превосходили крепость самих столбов и не могли быть
сокрушены всеми демонами ада.
Поэтому-то
христианские художники изображали на стенах и на столбах средней части храма
представителей, защитников, мучеников Церкви Христовой. Еще в древности
двенадцать апостолов стали изображать двенадцатью колоннами алтарной преграды.
Уже император Константин, задумав построить храм на месте погребения Спасителя,
решил, что «храм хорошо будет украсить... двенадцатью колоннами, на верху
которых находились бы вылитые из серебра вазы; таких колонн поставлено было
двенадцать по числу апостолов». Иногда апостолов и их сподвижников изображали с
символическими столбами. Сохранились фрагменты сосудов, на которых изображены
колонны, около которых – апостолы, имена которых написаны на капителях колонн.
В России с повсеместным строительством храмов в Киеве, Новгороде, Владимире,
Москве изображения апостолов, мужей апостольских, мучеников стали помещаться
непосредственно на столбах.
Над
капителями четырех средних столбов храма, в «парусах», изображаются четыре
евангелиста – Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Такое расположение имеет истоки в
древней Космографии и выражает библейские взгляды и святоотеческие воззрения на
Вселенскую Церковь. Еще греки различали четыре главных ветра, соответственно
четырем сторонам света. Эти же воззрения можно найти и в Ветхом Завете. В
древних Космографиях они изображались в виде головок, дующих в трубы, нагих
крылатых фигур. В христианской иконографии эти стихийные силы сближаются с
силами духовными. Уже в Ветхом Завете есть первые шаги этого сближения. В
псалме о сотворении мира Давид говорит: «Господи, Ты делаешь облака Твоею
колесницею, шествуешь на .крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов,
служителями Твоими – огонь пылающий» (Псал. 103. 4). Четыре ветра оживотворяют
полчище костей на поле – весь «дом Израилев» в видении пророка Иезекииля
(Иезек. 37.9–19). В святоотеческих писаниях четыре ветра определенно сближаются
с силой Святого Духа. Согласно св. Иринею, евангелисты – это четыре столпа
Вселенской Церкви, сами Евангелия четыре главных ветра единого Духа Божия,
одухотворяющего Церковь, распространенную по четырем сторонам света: «... так
как четыре стороны света, в которых мы живем, и четыре главных ветра, и так как
Церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение Церкви есть Евангелие и
Дух жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и
оживляющих людей. Из этого видно, что устрояющее все Слово (Христос),
восседающее на херувимах и все содержащее, открывшись человекам, дало им
Евангелие в четырех видах, но проникнутое одним Духом». В представлении св.
Иринея и херувимы, и четыре евангелиста сопоставимы с четырьмя ветрами. Это
перекликается с видением пророка Иезекииля «славы Божьей» в виде светозарного
облака, несомого ветром, вместе с четырьмя херувимами, стоящими на четырех
сторонах и служащими престолу Вседержителя (Иезек. I. I). Четыре херувима обычно
рассматриваются как предизображение четырех евангелистов. Поскольку евангелисты
сопоставляются с херувимами, которые поддерживают престол сидящего на нем
Вседержителя, то в «парусах» храма то пишутся одни херувимы (храм Софии в
Константинополе), то вместе с евангелистами (храмы Софии в Киеве и в Новгороде).
Во втором случае имеются в виду ветхозаветные херувимы, выступающие прообразами
или символами евангелистов. В целом пространственный символ середины храма
имеет следующую структуру: поскольку в христианском воззрении четырем главным
ветрам соответствуют четыре Евангелия, то в храме четыре евангелиста с
Евангелиями изображаются на углах в «парусах», над главными, срединными,
четырьмя столбами, чтобы показать, что в Церкви Вселенской с четырех сторон
света вместо стихийных четырех ветров веет Дух Божий, оживотворяющий события
священной истории, по выражению св. Германа, «перлы божественных догматов».
Поскольку
средняя часть храма символизирует преображенный тварный мир, новое небо и новую
землю и тем самым Церковь, то в куполе изображался Глава Церкви – Христос
Вседержитель. Над четырьмя стенами главной части храма возвышается свод, обычно
в виде полусферы, подобно тому, как над четырьмя сторонами света простирается
небесная твердь. Когда свода не было, молящиеся стояли под открытым небом,
мысленно созерцая в небесном куполе Бога. Это относится к языческим храмам
Востока, к скинии Моисея и к храму Соломона, к некоторым древним христианским
храмам Палестины и Сирии. По свидетельству русского паломника игумена Даниила,
в храме Воскресения в Иерусалиме покрытия его средней части не было: «Верх же
церковный не до конца сведен камением, но тако сперт досками и древнем тесаным,
плотничным образом, и тако есть без верха не покрыто ничим же. И внезапу прииде
туча от востока мало и ста над верхом непокрытым тоя церкве и дожди над Гробом
святым, и смочи нас добре, стоящих над Гробом Господним». Затем представление о
небесном своде было перенесено на купол храма, как подобие неба.
Соответственно, представление о Боге Вседержителе, как пребывающем, на небе,
было перенесено также на храмовый купол. Здесь оно получило свое наглядное
изображение. Вот что писал Дмитрий Мережковский о Софийском соборе в
Константинополе: «Когда входишь внутрь храма и видишь его весь сразу (в этом
его особенность, что видишь его сразу, с первого взора весь), душе понятным
делается его величие: душа хочет крыльев. Ничего, кроме светлого, безмерно
огромного, небу подобного свода. Чувствуешь, что здание построено для этого
свода. Все для него, все от него, все в нем. Он покрывает, соединяет, согласует,
просветляет все. Никогда на земле не было более совершенного образа вечности...
Кроме главного, среднего, есть другие, меньшие, своды. Три в глубине: один над
алтарем, два по бокам, прообразующие три неслиянные Ипостаси Св. Троицы – Отца,
Сына и Духа. Над этими тремя – один, больший, как бы объединяющий эти три; в
нем выражено нераздельное единство Ипостасей Троичных. И, наконец, над ними,
надо всеми – главный, средний, самый широкий, последнее соединение Св. Троицы с
миром, Бога с человечеством, последнее совершение времен и вечности, когда все
будет в Боге и Бог будет со всем.
Своды
подымаются без тамбуров, прямо от стен. В основании сводов расположены сплошным
рядом полукруглые окна, наполняющие свод ясным, тихим светом так, что, кажется,
купола реют в воздухе, сами воздушные, солнечно-золотистые, неимоверно высокие,
легкие-легкие и несокрушимо твердые, как твердь небесная, «плоть духовная»,
Святая Плоть» (Мережковский Д. Больная Россия. Л., 1991, с. 81-82).
В Ветхом
Завете небесная твердь есть создание Слова, Разума Божия, Премудрости Божией;
небесные же силы – созидание Духа Божия. «Словом Господа сотворены небеса, и
Духом уст Его – все воинство их» (Ис. 32. 6). Но уже в Ветхом Завете, по
свидетельству пророков, Бог открывался в подобии человеческом как Вседержитель.
В Новом Завете этот Логос, Разум Божий есть воплотившийся Сын Божий. Поэтому,
перенося представление о Вседержителе, пребывающем на небе, на купол храма,
христианский живописец уже имел в виду не Бога Иегову, но образ воплотившегося
Слова – Логоса – Лик Иисуса Христа как Вседержителя и Царя мира. Уже в первых
христианских храмах Лик Вседержителя вначале изображался на своде храма, а с
устроением купола – на куполе. Изображение Христа как Творца и Вседержителя
помещалось в куполе храма над его серединой, которая символизировала середину
всей земли. Во многих древних храмах и на древних иконах Христос Вседержитель
изображен со сложением перстов правой руки горстью. Это тоже символ силы и
власти Творца и Вседержителя мира, Царя и Главы созданной им Вселенской Церкви,
это своеобразное образное выражение пророчества Исайи: Господь «исчерпал воды
горстью Своею и пядью измерил» (Ис. 40. 12). «Я – Мои руки распростерли небеса»
(Ис. 45. 12). Народная легенда выдвинула свою версию изображения Вседержителя в
Софийском соборе Новгорода. Собранная в горсть рука Вседержителя в куполе храма
толковалась как держание Новгорода Самим Христом. «Когда рука Моя
распрострется, тогда будет граду кончание». Здесь Христос уподобляется
«местному» богу дохристианских времен. Символика же Новозаветной Церкви –
вселенская. Иногда образ Вседержителя помешается среди звезд – это тоже не
случайно: Бог создал не только землю, но и небо. Как сказано у пророка Исайи:
«Моя рука основала землю, Моя десница распростерла небеса; призову их, и они
предстанут вместе» (Ис. 48.13). Изображение Христа Вседержителя в куполе храма
как христианский символ имеет дополнительный смысловой оттенок. Изображение
Бога возможно не как некая аллегория или же продукт религиозно ориентированного
воображения, но как изображение реального Бога в человеческой истории. Бог же
Вседержитель был явлен миру в Вознесении Господнем, что засвидетельствовано
Богоматерью и апостолами. Поэтому Христос изображается с древних времен в
куполе вознесшимся, сидящим на тверди небесной среди звезд.
Христос в
куполе храма – еще и Глава Вселенской Церкви, образом которой выступают все
молящиеся в храме. Символическое выражение этой идеи требует обращения к
внешнему завершению храма. Глава храма, которая венчает купол с изображением
Христа, есть завершение символа Христа – Главы Вселенской Церкви. Если сам храм
символизирует тело Церкви, то его глава – вместилище Божественной премудрости.
Поэтому наиболее типичной формой главы храма, заключающей в себе глубокий
символический смысл, является не традиционная для Руси луковица, а
полусферическое шлемообразное покрытие, напоминающее череп – главу. С точки
зрения символики храма глава у него одна. Стоящие нередко на четырех углах
кубического корпуса храма главы символизируют четыре предела вселенной и
четырех евангелистов с Евангелиями, от которых со всех четырех сторон веет Дух
Божий, оживотворяющий всю Церковь – храм.
Итак,
православный храм – это символ Вселенской Церкви как предображения и
строительства Царства Божьего. Но храм – это еще и сам человек. В Послании к
Коринфянам апостол Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (I Коринф. 6. 19). В язычестве храм –
это только дом бога. В храме человек един с богом, но вне его пределов, в мире,
он отделен от Него, там все противоположно священному. Поэтому язычники, чтобы
не расставаться с богом, возили с собой идолов. В христианстве же Бог избрал
человека Своим храмом. В этом – основное благовестие христианства,
преодолевающего противоположность «профанного» и «священного». Христиане – Тело
Христово, храм – это они сами в целокупности и каждый в отдельности. И в
человеке, как в храме рукотворном, есть темная и светлая стороны, и в человеке
есть преграды, отделяющие зримое от незримого, есть стремление к вершинам Духа.
Человек освящается не рукотворным храмом, а Духом Святым, живущим в нем.
Церковь внешняя и Церковь внутренняя составляют единый символ движения
Вселенской Церкви к спасению.
3.1.2.2.
Бусева-Давыдова И.А. Символика
архитектуры по
древнерусским письменным источникам XI–XVII вв.
(Герменевтика древнерусской литературы XVI- нач. XVIII в.,М., 1989.)
Ирина Александровна
Бусева-Давыдова – доктор искусствоведения, сотрудник НИИТИИИ PAX.
...Вместе с
византийской архитектурой на Русь пришло и греческое толкование храма. Однако
следовало бы поставить вопрос, какие именно символические толкования и в каком
виде стали известны на русской почве, имели ли они какие-нибудь отличия от
греческих и претерпели ли дальнейшее развитие, в какой среде они бытовали. В
настоящей статье мы предпринимаем попытку хотя бы отчасти очертить круг
бытовавших на Руси источников по символике архитектуры.
Подобные
источники можно разделить на две группы. В первую из них войдут канонические
тексты, в свою очередь, делящиеся на две подгруппы. Одна подгруппа – это
главным образом толкования на литургию, где перед изъяснением церковной службы
приводились толкования храма и его частей, богослужебные одежд и утвари. Вторая
подгруппа тексты, дополняющие и разъясняющие литургические толкования
(постановления Соборов, указы патриархов и т.п.). Вторая группа источников –
нецерковные тексты (фольклорные, литературные, мемуарные и пр.).
Символический
способ изъяснения был органично присущ раннему христианству. Не случаен интерес
Климента Александрийского к египетским иероглифам: этот отец Церкви выделил у
египтян кирпологический (по подобию), тропический (по сходству одного предмета
с другим) и энигматический (посредством загадок) способы обозначения,
перечислив дозволенные христианам символические изображения – голубя, рыбу,
корабль, лиру, якорь. В дальнейшем христианская теория символов была развита
Дионисием Ареопагитом. На основе его классификации предметные, или вещественные
церковные символы принято делить на знамения (знаки) и образы. Знамения – это
такие предметы или изображения, которые передают духовное значение божественных
и небесных истин и явлений, не изображая их непосредственно... К знамениям
относятся ... внешние и внутренние архитектурные формы храма, его некоторые
части, жертвенник.
Тесная связь
храма с происходящим в нем действом привела к тому, что уже в раннехристианские
времена архитектурные формы подверглись определенной регламентации. В
«Постановлениях Апостольских» говорилось: «Да будет здание продолговато,
обращено на восток, с пастофориями (боковыми отделениями алтаря) по обеим
сторонам к востоку, подобно кораблю». Тертуллиан дал несколько иную
формулировку тех же требований: «Дом нашего голубя прост, всегда на возвышенном
и открытом месте и обращен к свету: образ Св. Духа любит Восток – образ
Христа». Заметим, что символическое уподобление храма кораблю (и маяку-башне)
устойчиво сохранялось и оказало влияние на архитектурные формы культовых
построек. Непосредственно с храмовой архитектурой могут быть соотнесены слова
Иринея Лионского: «Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или меньше,
чем сколько их есть. Ибо так как четыре стороны света... и четыре главных
ветра..., а столб и утверждение Церкви есть Евангелие..., то надлежит его иметь
четыре столпа». Немаловажны были и отдельные высказывания творцов литургии –
Иоанна Златоуста и Василия Великого (особенно примечательно уподобление церкви
Иерусалиму).
Первое
развернутое толкование церкви принадлежит Максиму Исповеднику, Согласно его
«Мистагории», храм, во-первых, есть образ мира в целом; алтарь в таком случае
обозначает горний мир, а помещение для молящихся – дольний. Во-вторых, храм
может служить символом только чувственного мира, тогда алтарь – небо, а сам
храм – земля. В-третьих, храм уподобляется человеку: алтарь есть душа,
жертвенник – ум, а храм – тело. В-четвертых, храм является образом души в ее
разумной и животной силе. Примечательна принципиальная установка автора на
тотальный символизм: «Весь мысленный мир таинственно в символических образах
представляется изображенным в мире чувственном... и весь мир чувственный, если
любознательно умом разбирать его в самых началах, заключается в мире
мысленном». Впрочем, у Максима Исповедника это положение остается во многом
декларативным: он не пытается составить некий тезаурус, установить соответствия
хотя бы между архитектурными формами и их сакральными прообразами.
Согласно
церковной традиции, такая попытка впервые была предпринята Софронием
Иерусалимским. Однако крупнейший знаток литургических толкований Н.Ф.
Красносельцев доказывал, что рукопись, приписываемая Софронию, в
действительности восходит к произведению малоизвестного церковного писателя
конца XI в. Федора Андидского. В таком случае наиболее ранним объяснением символики
архитектурных форм следует считать труд Германа Константинопольского. В нем
объясняется символика храма в целом, алтаря, престола, свода над жертвенником,
кивория, космита, амвона и т.д. Эти объяснения представляют собою как бы
напластование нескольких толкований, успешно разведенных Н.Ф. Крас-носельцевым.
По его словам, первое из толкований храма есть, так сказать, толкование
ветхозаветное, составленное применительно к понятию о ветхозаветном храме и
культе, как прообразе храма и культа новозаветного, христианского. По этому
толкованию, христианский храм устраивается наподобие скинии сведения, алтарь
есть святая святых, киворий – образ кивота Завета, космит – образ
ветхозаветного космия, одежда священника – образ подира Ааронова, также и
омофор и т.д. Это толкование должно быть самым древним. Следы его встречаются в
Постановлениях Апостольских, у Евсевия и у других древних отцов. Второе
толкование есть историко-топографическое. Оно составлено применительно к
понятию о литургии как о воспоминании страданий, смерти, погребения и
воскресения Иисуса Христа. По этому толкованию церковь изображает собою
Распятие и Гроб, и Воскресение, конха есть образ пещеры, где погребен Христос,
святая трапеза есть место, где положен во Гробе Христос, киворий изображает место,
где распят был Христос, решетки изображают решетки вокруг пещеры Гроба в храме
Воскресения, амвон изображает камень, отваленный от дверей Гроба, одежда
священника есть багряная хламида, бывшая на Христе во время страданий, полосы
на рукавах стихаря означают узы Христа, а на боках – Кровь, истекшую из ребра,
епитрахиль – веревка на шее Христа, илитон – плащаница, которою обернуто было
Тело Христа во Гробе, и т.д. Это толкование, в наиболее характеристичных своих
частях, могло явиться не ранее второй половины IV в., когда над местами распятия и
погребения Спасителя был воздвигнут Константином великолепный храм и когда
топография главнейших христианских святынь стала доступна и понятна всем.
Третье толкование можно назвать мистическим или апокалипсическим. Оно
составлено применительно к понятию о христианском богослужении, как образе
служения Богу небесных сил. По этому толкованию храм есть земное небо, в
котором обитает небесный Бог, било – трубы ангельские, жертвенник есть образ
пренебесного и мысленного жертвенника, при котором служащие иереи изображают
собою мысленную бесплотную иерархию вышних сил, алтарное возвышение (вима) есть
трон, на котором Царь всех Христос сидит со своими апостолами. Толкование это,
имеющее свои основы отчасти в Апокалипсисе, в довольно развитом виде
встречается у Евсевия Кесарийского (IV в.). Но с особой последовательностью это толкование
проведено в сочинениях Дионисия Ареопагита, сделавшихся известными в церкви с VI в. и в сочинениях св. Максима
Исповедника – писателя VII в., находившегося под сильным влиянием Дионисиевых творений. Наиболее
полное освещение символика храма получила в сочинениях Симеона Солун-ского в
первой половине XV в. В дальнейшем эта тема греческими авторами уже не разрабатывалась.
Вышеперечисленные
труды отцов Церкви VII–VIII вв. были известны на Руси еще в домонгольское время. «Изборник
Святослава» 1073 г. содержит статью «Максима черноризца чин образ держит
соборная церкви» с изложением соответствующего отрывка из Максима Исповедника,
а «Изборник» 1076 г. знакомил с пониманием церкви как Гроба Господня и земного
неба. Отрывки из Германа Константинопольского вошли в сборник XIII в. Толкование Максима Исповедника
(«Божия же церкви есть... (образ) разумного же мира, и чюв-ственного человека;
разумного ж мира притчя есть светительство (святилище), а чювствен-ного церкви,
человеку ж образ есть святительство убо души, церкви ж тело») нередко
встречается в рукописных сборниках XI–XVI вв., а в составе «Златой цепи» XIV в. под названием «Слово Василия Великого, толк
священнического чина» имелись сведения о символике храма, восходящие к Герману
Константинопольскому («Церкы есть храм Божий. Олтарь есть Гроб Господень.
Трапеза есть гробный затвор. Олтарный верх есть Плащаница юже купи Иосиф. Амбон
есть отваленный камень от Гроба»). Таким образом, наиболее общие представления
о символике архитектуры были достаточно известны русскому читателю в XI– XIV вв.
В XV в. на Руси получают распространение
довольно подробные толкования на литургию, описанные Н.Ф. Красносельцевым под
названием «Толк апостольстей соборней церкви» и «Служба толковая Иоанна
Златоуста, толк Сихиев». Эти сочинения разнятся друг от друга в первой, именно
архитектурной части. «Толк апостольстей церкви» начинается словами: «Церковь
есть земное небо и храме Божий, славят бо в ней Бога, яко на небеси. Верх
церковный есть глава Господня, олтарь есть престол Божий, или пакы олтарь есть
Гроб Господен. Трапеза есть перси Господни...».
«Толковая
служба» дает более полное изложение этого предмета. Вследствие большого
значения данного памятника для исследования символических представлений
человека Древней Руси мы воспроизведем его текст, касающийся символических
толкований храма, богослужебных и некоторых других предметов, по описку ОР ГБЛ,
так как в списке, частично опубликованном Н.Ф. Красносельцевым, довольно много
искажений.
Начало,
отсутствующее в списке ГБЛ, читается так: «Церковь есть небо земное и храм
Божий невеста Христова... Олтарь есть престол Божий». Далее в нашем списке
следует: «Олтарь образ есть вертепа, вдеже погребен бысть Христос... Жертвенник
есть место Креста, на нем же истоги кровь и воду... Трапеза есть перси Господня
о ней же Христос на Тайной вечери образ отвори... (л.1). Кивот над трапезою за
Кранию гору, на ней же распятся Христос. Близ бе место подольно идеже
погребоша. Есть же и по скринеи Завета Господня... Кивот есть скрина. Престол
есть за трапезою степеньское место, на нем же еще епископ сядет с прозви-теры.
Образ есть второго пришествия, егда приидет и сядет на престоле... Иисус
Христос с апостолы.., Антимис есть написанный тител на Кресте, или плат (л.1
об.) имже закрыша ему очи бивда... На немже написан привет (так!) Божий. Являя
я Божие имя аэ есмь они. Литон есть плащаница ею же обвит Иосиф Христа или пакы
литон есть егда посла Пилат мечника пояся звать на судище сънем ушев свой с
главы и простре ему по земли и рече господине сюду ступай. И прийде на судище
егда вни-де Исус к Пилату обаполы его беаху скипетри. И поклонистася скипетри
Иисусови недвижимы никим же. И того ради вход и выход с ри-пидиями. Дискос есть
и потырь очи Господни или пакы потирь (л.2) есть язва копийная... Сень есть
ребра Христова, а сударь в убруса место, идеже бе на главе его. Аер есть облак
небесный, иже над сенью перваго закона. Лжица есть святая Богородица, приимши
Небесный Хлеб Христа во чреве... Кадилница есть человечество, а огнь Божество,
темьян Дух Святый. Светиль-нице есть предтеча или вертящееся копие у породы.
Олтаря же малая обаполы разлучения ради праведных и грешных. Столпци олтарьнии
суть колена агня. Двери же небесный чин аггельскый. Амбон есть гора равна по
пророку рече Бог на горе равно вознесете знамение. Знамение же есть святое
Евангелие. Светильница (л.2об.) обаполу суть на аггела седившая у главы и у
ногу, в Гробе Господне. Или паки амбон есть отваленный камень от дверей Гроба.
Диакон же на амбоне аггел есть... Кандило суть воине стерегущей Гроба Господня.
Прибоженность есть по первому закону. Стояху бо в ни все, до искажения иерея, и
излазаху. Верх церковный есть Глава Господня. Главу убо церковную держит
Христос, а шию апостоли, а пазухи евангелисты. А пояс праэдници. Двери олтарю
образ Спасов (л.З). Овца бо образу есть верных кротость оунец благопокоривых
послушание... горлица же целомудрие, голубь безлобие коза же приносяще млеко
рекше учение книжное правыя веры. Крупы же добродетели. Масло помазание
крещения (л.З об.). Сапози на ногах ваших путника есть образ, пришествие от
смерти на живот. Чресла ваши препоясана, рекше препоясавшеся мыслею от земных
на небесная. Жезли в руках ваших, рекши вера твердая (л.4 об.)».
Н.Ф.
Красносельцев отмечал значительную оригинальность этого сочинения: по его
наблюдению, лишь объяснения амвона и кадильницы совпадают с толкованиями
Германа Константинопольского. Этот исследователь обоснованно считал, что
«сочинение Германа было известно в Древней Руси, но книжные люди не
довольствовались теми объяснениями, которые в нем заключались, переделывали
его, вводили в него свои объяснения, заимствуя их из различных источников, даже
апокрифических... Склонность к объяснениям последнего рода в Древней Руси была
очень велика».
Широкая
известность «Толковой службы» подтверждается ссылками на нее в «Стоглаве», в
любопытном тексте о жертвеннике и кутейнике. Собору был предложен вопрос
следующего содержания:
«Приносят
боголюбцы ко святым божиим церквам ладан, и фиглиан, и свечи, и просвиры: и то
во святой жертвенник и во святой олтарь вносится по уставу. Да те же христиане
приносят кутию и канон за здравие и за упокой, и на велик день пасху сыр, и
яйца, и рыбы печени, а во иные дни колачи, и пироги, и блины, и короваи, и
всякие овощи. А в Новегороде и во Пскове, на то устрояют кутейник во всякой
церкви, зде же убо та вся потребная вносят в жертвеник и во святой олтарь, а
правила святых апостол и святых отец о сем запрещают. И впредь како сему
достоит быти».
Авторы
соборного ответа обратились к авторитету «Толковой службы»: «В божественной
службе в толковой пишет: олтарь есть престол Божий и образ Вифлеемского
вертепа, идеже родися Христос. Паки: олтарь образ есть вертепа, идеже погребен
бысть Христос, якоже евангелист рече: и вертеп изсечен в камени, ту положит
Иисуса... Во олтари убо агнец жрется, принося тайную жертву, иже агнец
преобрази во Египте Моисеевом... Олтаря же малая, оба полы, разлучения ради
праведных и грешных. Жертвенник есть за Голгофу гору, на ней же источи Христос
Кровь свою..., и в него вносится священная токмо: просвиры и вино, и фимиян, и
божественная книги, и прочая священная, а от простого ничто же не вносится.
Другая же половина олтаря кутейник зовется, и в него вносится о здравии коливо,
и канун, и прочее брашно, и на самое Христово Воскресение пасхи, сыр и яйца, и
иныя яди, еже христианом поведено ясти».
В приведенном
тексте речь идет о дьяконнике (сосудохранительнице или предложении, пользуясь
терминологией литургических толкований). Из сочинений Симеона ясно, что и
сосудохранительница, и жертвенник могли совмещаться в едином пространстве
алтаря: «Сосудохранительница... изображает Вифлеем и пещеру; потому и бывает в
углублении и недалеко от жертвенника». В приведенной фразе явно описывается
алтарь с двумя боковыми нишами. Однако подобное совмещение функций было
неудобно с практической точки зрения. Поэтому в русской архитектуре утвердился
в качестве основного типа храм с троечастной апсидой, где слева от алтаря
находился жертвенник. Правое же помещение по московской традиции, очевидно,
использовалось для дополнительного престола (т.е. также функционировало как
алтарь). Стоглавый собор указал на необходимость использования этой зоны как
дьяконника (кутейника) и привел символическое обоснование такого использования
(«разлучение», т.е. разделение алтаря «ради праведных и грешных»).
Особый
интерес к символике архитектуры проявился в XVII столетии. В первую очередь это
объяснялось широким обращением к традициям греческой церкви. Патриарх Никон,
конечно, не мог пройти мимо целого корпуса греческих литургических толкований.
Очевидно, по его заказу некий монах Иоанн Нафанаил, близкий ко двору
константинопольского патриарха, составил в 1653 г. «Книгу о тайнах церковных»,
которая была прислана в Москву, переведена на русский язык Арсением Греком и
напечатана в 1656 г. под названием «Скрижаль». Она стала самым полным и
систематическим изложением символики храма, богослужебных предметов и одежд,
бытовавших в Древней Руси: это изложение занимало 65 глав из 122.
Тексту
предпослано обширное предисловие, в котором, в частности, объясняется
необходимость издания такого труда: «Мнози християне приходят в церковь с
великим желанием и благоговением, яко да слыша священная словеса св. литургии,
и да видят страшная таинства, яже совершаются в ней. Но обаче не разумевают
мест, в них же образуется познание единого коегождо таинства». Таким образом,
по мнению автора предисловия, его современники плохо представляют себе
символическую связь архитектуры с процессом богослужения. Отсюда понятно,
почему в русской «Скрижали» эти вопросы заняли непомерно большое место – около
половины всей книги, в то время как в греческих источниках они служат лишь
преамбулой к толкованию литургии.
Составитель
«Скрижали» пользовался в основном двумя святоотеческими трудами: «Изложением
церковных служб и обрядов» Германа Константинопольского, к тому времени уже
существовавшим в печатном виде, и «Разговором о св. священнодействиях и
таинствах церковных» Симеона Солунского. Второй труд Симеона – «Толкование о
божественном храме и о служащих (в нем) священниках... посланное вопрошавшим
благочестивым (христианам) Крита», как и сочинение Софрония Иерусалимского (или
Феодора Андидского), не нашел отражения в «Скрижали». Однако даже сочетание
двух авторов могло привести к противоречиям, не говоря уже о существовании
других сочинений вроде «Толковой службы», ставивших вопрос о соотношении старых
«Скрижалей» с «Книгой» Иоанна Нафанаила. Автор предисловия вышел из положения
предельно просто, написав: «Якоже аще кто обрел бы в сем смиренном исправлении
вещь именуемую инако от иных неких учителей, да не дивится, токмо да верует
оному. Еже обрел бы прилично быта в чем, якоже есть мысль святых апостол и
богоносных отец». Кроме того, он отметил принципиальную многозначность
символики: «Многажды едина от оных скрижалей приемлется за две и за три вещи
якоже богослов яве ныне покажет. Якоже святая и священная трапеза приемлется и
вместо горницы постланыя, идеже сотвори Христос Тайную вечерю, и вместо
погребения Христова..., и вместо горы Елеонския идеже вознесеся».
Впрочем, даже
принимая эти оговорки, следует признать, что «Скрижаль» скомпилирована
достаточно небрежно. Статьи одинакового содержания (о храме, об алтаре)
помещаются в ней в разных местах. Вначале, например, идет вопрос: «Что есть
церковь?» – и ответ: «Церковь есть храм Божий, место святое, и особный дом
молитвы, собрание людей, и тело Христово, имя его, невеста Христова, яже
призывает люди к покаянию и молитве... Церковь есть небо земное в него же
пренебесный Бог вселяется. Сия бо образует распятие, погребение, и воскресение
Христово. Освященная и прославленная паче скинии свидения Моисеева от
патриархов есть прообразованна, от апостолов основанна, в ней же есть очищение
и святая святых. От пророков пророчествована, от иерархов украшенна и от
мучеников совершенна. Зане мощами сих святых есть сопрестолствованна. И инако.
Церковь есть дом Божий, зане внутрь ея бывает всегда жертва живая, и внутрь ея
есть святилище, и св. вертеп, гроб, трапеза душепитательная и животворящая, и
верх ея бисери, сиречь божественные заповеди учения Господня ко учеником его».
Нетрудно
заметить, что этот текст почти дословно взят у Германа Константинопольского:
«Церковь есть храм Божий, место священное, дом молитвы, собрание народа, тело
Христово, имя Его, невеста Христа, призывающая людей к покаянию и молитве...
Иначе: церковь есть земное небо, в котором живет и пребывает пренебесный Бог.
Она служит напоминанием распятия, и погребения, и воскресения Христова, и
прославлена более Моисеевой скинии свидения: она предображена в патриархах,
основана на апостолах, – в ней – то истинное очистилище и святая святых, – она
предвозвещена пророками, благоукрашена иерархами, освящена мучениками и
утверждается престолом своим на их святых останках. Иначе: церковь есть
божественный дом, – где совершается таинственное животворящее жертвоприношение,
– где есть и внутреннейшее святилище, и священный вертеп, и гробница, и
душепитательная животворящая трапеза, где (нейдешь) перлы божественных
догматов, коим учил Господь учеников своих».
Следующие
тексты о храме заимствованы уже у Симеона Солунского: «Храм же (образ) мира
сего чювственного, горняя храма, сиречь верх знаменует небо, помост же, сиречь
дольняя, знаменует землю и рай. Зане яко же посреде рая есть древо жизни, тако
и посреде церкве есть древо жизни сиречь крест, иже носит плод жизни, сиречь
Христа. Внешняя церкве знаменуют токмо дольняя части земли, яже знаменуют оных
человеков, яже живут живот свой весь яко бессловесная животна, и ни едину вещь
высокую и небесную во ум приемлют». У Симеона сказано: «Храм образует этот
видимый мир; верхние части его – видимое небо, нижние – то, что находится на
земле и самый рай; внешние же части – самые низшие части земли и одну только
землю, по отношению к живущим неразумно и не знающим ничего высшего». Несколько
далее автор поясняет, что «внешние части» – это притворы и места для
оглашенных, «так как стоящие в них живут на земле еще подобно безсловесным
животным». В статье «Что убо храм образует» компилятор опять возвращается к
Симеону: «Храм убо Божий дом есть, аще и создан есть каменми и древесы, обаче
освящается благодатию Божиею... и несть общий дом, якоже и прочий доми, но есть
дом на земли посвященный Богу, или вкупе с ним и некоему от святых его. Сего
ради имать наименование святого, имже именовася..., ... глаголем по сему
образу, да пойдем к святей Троице, или ко Христу..., или Пречистой его
Матери... или некоему от святых. Что являет слово, являет яко посвятися Богу, и
есть дом Самого Бога, и Той обитает в нем, и раб Его, им же именовася, той
обитает в нем, яко во своем жилищи, и душей приходит тамо невещественно.
Многажды есть ту положен с мощми своими, и Божией силою и благодатию
действует». Следование первоисточнику здесь почти дословное: «Храм есть дом
Божий, хотя и устрояется из неодушевленных веществ: ибо освящается он
Божественной благодатию... И после этого уже не похож на другие домы, но от
земли освящен Богу... или вместе с тем кого-либо из святых Его. Посему он и носит
название того, в чье имя назван..., ... так и говорим: идем ко Св. Троице... ко
Христу... или к Пресвятой Его Матери... или какому-либо святому. Что значат эти
слова? То, что храм посвящен Богу и есть Его дом, и что Он пребывает здесь; что
и призываемый здесь слуга Его также пребывает в нем, как бы в своем жилище,
невещественно привитает в нем душею, а часто возлежит тут и останками, и
действует Божественной силою и благодатию».
Какие же
основные положения о символике храма должен был усвоить из «Скрижали» русский
читатель? Кроме вышеприведенного, ему сообщалось, что «храм разделяется на три,
зане и бог Троица есть. Убо сего храма, сиречь церкве, образоваше скиния
Моисеева, внегда бе разделяема на три, и храм Соломонов яко же глаголет
божественный Павел... На трое есть и церковь наша разделяема. Едино место
женам, второе мужем, и третие олтарь. В онь же входят токмо священницы». В
процитированном отрывке особенно важно предписание о раздельном стоянии во
храме, существовавшее и в монастырских соборах; «Стоят убо по чину в церкви
христиане. И первие убо священницы, таже второе монаси...паки по монасех,
чистейшие от мирских, зане тии частее... причащаются Божественных Тайн». Таким
образом, предельно наглядно для всех находящихся в храме реализовывалась сакральная
неравноценность отдельных зон интерьера и подчеркивалось возрастание святости
места по мере приближения к алтарю.
В «Скрижали»
объяснялось» что алтарь есть святая святых и престол Божий, он «образует умная,
и место еже есть превыше небес. Никто же не входит внутрь, токмо архиерей вкупе
со священники». Свод над алтарем знаменует вифлеемские «вертеп», где родился
Христос, и пещеру, где Он был погребен. Престол (трапеза) знаменует место
погребения Христа и престол Божий. Получает объяснение форма престола: «... со
четырми углы есть трапеза, зане от нея воспиташася концы, и всегда и присно
питаются, сиречь, душы и телеса человеческая. Высока есть трапеза яко небесная,
ибо таинство есть высокое возвышаемое, и прене-бесное, и отнюдь высочайшее всея
земли». «Киворий над престолом символизирует Голгофу («место, идеже распятся
Христос») и киот Завета. Горнее место (архиерейское седалище) обозначает
вознесение Христово, а его ступени – чины ангельские. Жертвенник – символ Гроба
Господня» а предложение (диаконник) – Вифлеем и вертеп; свод жертвенника –
перенесение Креста, а столбы, его поддерживающие, – чудеса. Столбы, отделяющие
алтарную часть от помещения для молящихся, «суть яко стена и твердь, яже
разлучает вещественная от умных» (т.е. материального от духовного). «Космит»
(иконостас) «являет союз любве и соединение и совокупление святых от земли со
Христом, вкупе с горними святыми ангелы». Амвон уподобляется камню, отваленному
от гроба, и местам проповеди Христовой. «Клепало» (доска с колотушкой, колокол)
есть образ гвоздей, которыми были прободены руки и ноги Христа (их «звяцание»
отозвалось во всех концах вселенной), и образ ангельских труб, зовущих на брань
с диаволом.
Нетрудно
заметить, что все содержащиеся в «Скрижали» толкования, кроме последнего,
относятся к внутренним формам храма. Это, безусловно, отвечает православному
пониманию архитектуры как материальной оболочки («создан есть каменмы и
древесы») происходящего в ней священного действа. Недаром греческое слово
«церковь» (экклесия) изначально обозначало собрание верующих и лишь
впоследствии перешло и на помещение для этого собрания.
Наружные
формы храма не получили никаких символических толкований ни в канонической
литературе, ни (скажем об этом, забегая вперед) в неофициальной. Однако в
литературе XIX в. и в расхожих представлениях нашего времени утвердилось представление о
символическом значении количества глав храма. В связи с этим нам придется
рассмотреть вопрос о символике чисел, доступной русскому читателю.
Выше мы
приводили слова Иринея Лионского о символическом значении числа 4 применительно
к количеству столпов храма. Второе символическое число столпов – 12 называет
Евсевий, связывая его с числом апостолов. Максим Исповедник предложил довольно
сложное соотношение чисел I, 4 и 10 по поводу четырех добродетелей и десяти
заповедей: «Четверица может составить десятицу, если постепенно слагать ее с
единицею; но она же, с другой стороны, есть и единица, поскольку единично
объемлет собою все добро и являет простоту и нераздельность божественного
действия». Но еще более сложной была интерпретация апокалиптической меры – 12
тысяч стадий в стенах Горнего Иерусалима в «Толковании на Апокалипсис» Андрея
Кесарийского, хорошо известном на Руси как в рукописном, так и в печатном
варианте. По мнению этого автора, «дванадесят же тисящий стадий, яже имать
град, негли убо знаменуют сего величество... Негли же и за число дванадесятн
Апостолов... И седморичное же число, таинственное сущее, некиим разрешением
представляется искомое. Речешшя бо тисяща стадий, тисяща семьсот четырнадесят
знамения, глаголемые мили, совершают. От них же тисяща убо являет безконочного
живота совершенство.
Седмьсот же,
совершеное в покои. Четырнадесят же, сугубое субботство, душа и телесе (дващи
бо седму, четырнадесят ест)».
Обиходная
символика чисел в Древней Руси, несомненно, была значительно более простой.
Применительно к храму она раскрывалась при описании престола и светильников.
Четыре столба, поддерживающие престол, символизировали евангелистов, один столб
– Христа. Дикирий («двусвещие») означал двойное естество Христа, трикирий –
Троицу, семисвечник – семь даров Св. Духа, двенадцать свечей паникадила были
«за число дванадесяти апостол». Из упоминания ангельских чинов и «степеней»
можно сделать заключение о символическом значении числа 9. Числа 5 и 13
выступают как производные от числа евангелистов и апостолов с добавлением
Христа.
Еще раз
следует подчеркнуть, что в источниках не только древнерусских но даже XVIII и первой половины XIX в. нет упоминаний о символике числа
глав храма. Патриарх Никон, упорно насаждавший «освященное пятиглавие», не
преминул бы сослаться на его символическое значение, если бы таковое
существовало, но ни в его сочинениях, ни в вопросах к патриарху
константинопольскому эта тема не фигурирует. Остается предположить, что
предпочтение пятиглавия объяснялось не символикой, а традицией, имевшей в
Средние века авторитет Священного Предания. Тексты XVIII в., хотя бы косвенно связанные с
исчислением глав храма, свидетельствуют явно не в пользу пятиглавия; согласно
«Катихизису» Лаврентия Зизания, «Бог-Отец Христа даде главу всей церкви... яко
единому телу нужда есть имети главу. Церковь же есть едино тело. Убо нужда есть
имети ей едину главу Христа. Другую же неимать, ибо двоглавна или треглавна
была бы, то некий позор был бы». А «Книга о вере», изданная в Москве и
прекрасно известная Никону, недвусмысленно утверждала, что многоглавие «змию...
свойственно есть, а не телу церковному». На этом основании Н.И. Троицкий даже
называл пятиглавые храмы «несообразными с православным догматическим учением о
Церкви». Однако приведенные тексты несомненно имеют церковно-политический
смысл; они направлены против папства и вряд ли могут быть экстраполированы на
архитектуру.
Мало развита
в «Скрижали» и символика цвета: белый стихарь означает свет Божества и чистоту,
красный – Кровь Христову. Более богатый материал предоставляли сочинения
Дионисия Ареопагита, где красный символизировал огонь, желтый – «златообразие»,
зеленый – юность и цветение. Белый цвет означал также искренность, а черный – сокровенные
тайны Божий. Некоторое представление о символике цвета вкупе с символикой
драгоценных камней русский читатель мог получить и у Андрея Кесарийского.
Символика
архитектуры вызывала огромный интерес у читателей XVII в. В 1685 г., например, в Яссах впервые
был издан на греческом языке до того мало известный даже в греческой Церкви
труд Симеона Солунского. В этом же году его книги были присланы патриарху
Иоакиму, а с 1686 по 1696 г. на Руси появилось сразу три перевода: Евфимия
Чудовского, митрополита Досифея и Николая Спафария. В 1689 г. Евфимий перевел
Германа Константинопольского, а в 1700 г. в предисловии к одному из списков
указывалось: «... писася многажды сия книга... в пользу служителем и таинником
Церкви Христовы». Однако русская богослужебная практика и тем более интерьеры
русских храмов XVII в. существенно отличались от принятых в Византии VII–VIII и даже XV вв. Это вызвало желание приспособить
древние толкования к новым условиям.
Далее в
«Скрижали» заметна забота о русском читателе: некоторые греческие слова, данные
в русской транскрипции, затем поясняются в тексте или на полях (катапетасма –
завеса, фимиатон – кадильница, кандила – лампады). Иногда вначале дается калька
– перевод (синфорион – сопрестолие), а затем добавляется соответствующий
русский термин (горний престол). В отдельных случаях можно говорить о переносе
значения греческого термина на русские реалии. Так, у Симеона Солунского
двустолпие (диастила) обозначает столбы, несущие космит: они «суть как бы
твердь, разделяющая духовное с чувственным». Автор же русского перевода под
двустолпием, очевидно, понимал восточные столбы храма, к которым крепился
иконостас и которые «суть яко стена и твердь, яже разлучает вещественная от
умных». Вероятно, случалось, что новые оттенки возникали при переводе
самопроизвольно. Скажем, местонахождение «перлов божественных догматов» у
Германа Константинопольского (судя по тексту, содержащихся в церкви или на
престоле), в «Скрижали» локализуется таким образом: «И верх ея бисери, сиречь
божественные заповеди». Данную фразу можно отнести как к индитии (сверху
престола), так и к завершению церкви. Последняя интерпретация открывала
возможности для символической трактовки архитектурного убранства.
Некоторые
моменты, имеющиеся в «Скрижали», дополнительно уточнялись: так, патриарх Никон
сообщал константинопольскому патриарху, что по русскому обычаю мужчины и
женщины во время богослужения стоят вместе, и интересовался, «аще есть
благословно, или законно сицевое дело». Паисий, сославшись на Григория
Богослова, предписал «особно быти пределом женским, от оных мужеских». Так как
в предписании говорится о «пределах», а не о расположении мужчин впереди
женщин, как в тексте «Скрижали», Паисий, вероятно, имел в виду не поперечное, а
продольное деление храма, известное по поздней богослужебной практике (мужчины
стоят справа, а женщины – слева, как то полагалось в XI в.).
Отдельные
толкования «Скрижали» казались русскому читателю недостаточными. Явно
обедненной выглядела символика колокола, отождествлявшегося с билом или клепалом.
Как известно, на Руси колокольный звон получил исключительное развитие и стал
важным элементом богослужения. Вероятно, это и побудило патриарха Никона
подробнейшим образом изложить символику колокола и звона в надписях на
Воскресенском и Всехсвятском колоколах Нового Иерусалима. Первая из них гласит:
«Приидите убо и вид ем и навыкнем, кии вещи и образу разум, и кая истина, к ней
же образ сей знаменует, не бо туне и яко же прилучися сию потребу узаконит
божественнии закони, но разум имуще, яко да ради знамени и образа к началом
образных истин вос-ходити возможем начальное коло, не имуще конца,
Безначального Отца собезначальное горнее кола от венца собезначальное рождение
Сына от Отца, а звукогласное исхождение от кола венца нахождение Св.Духа от Отца,
нераздельное Троицы всенераздельное бытие рещи, и несть ни един кроме инех, или
без инех глаголемому, или разумеваемому, ид еже аще именуется; четверо же
евангелисты, четыре столпа миру и четырех добродетелей от Евангелия научаемся:
мужеству, мудрости, целомудрию, правде, ибо четыре части миру суть: Восток,
Запад, Север и Полудние, и четверочастно круг лету венчается: весною, летом,
осенью, зимою, и четверочастно земля состоится: Европою, Азиею, Америкою,
Африкою». Здесь, кроме символики числа четыре, читателю надписи преподносится
весьма остроумное сравнение колокола с Троицей: круг, лежащий в основании
колокола, символизирует Бога-Отца, верхняя часть – Бога-Сына, а колокольный
звон – Св. Духа.
Вторая
надпись носит более церковно-исторический характер: «В древнем законе повеле
Моисею Господь Бог сотворити себе две трубы серебряные кованые Царю, да будут
тии на созвание сонму и составляти полки и да трубити има и да соберутся к тебе
весь сонм пред дверми храма свидения, и да трубите знамение... Еще и в Новом
Законе устрояная божественная благодать духовные трубы новому Израилю
доброгласные кинвалы, или рещи общим словом колокола, и елица слышав
доброгласные сия и духовные трубы в праздники Господские и на всяку молитву во
дни и в нощи усердно без лености собирания, не како пред храмом свидения
древнего сеяно-писанного закона, но внутрь храма Господня, и не на едины
чувственныя вополчахуся враги, и на невидимые...». Подобные надписи, конечно,
явление исключительное, но ярко свидетельствующее о том важном значении
колокола, которое потребовало его символической интерпретации.
Желание
пополнить свои представления о символике храма и согласовать их с русской
архитектурой обусловило популярность на Руси книги Феодосия Сафоновича «Выклад
о церкви и ея тайнах», изданной в Киеве в 1666 г., несмотря на то, что она была
осуждена православной церковью как еретическая из-за неверного указания времени
пресуществления Святых Даров. Этот автор опирался на сочинение Симеона
Солунского, не использованное Иоанном Нафанаилом, и внес в свою книгу некоторые
дополнения соответственно практике своего времени. Новым для русского читателя
было заимствованное из «Толкования» Симеона представление о двучастном делении
храма – на алтарь и собственно храм, когда алтарь обозначает тайну Пресвятой
Троицы, божественную природу Христа, человеческую душу и небо, а помещение для
молящихся – деяния Троицы, человеческое естество Христа, Тело и землю.
Однако важнее
было то, что вместо малопонятного греческого «космита» у Сафоновича появилось,
по существу, описание иконостаса. Он объяснил, почему перед алтарем изображают
Христа с двенадцатью апостолами (апостольский деисус, принятый в середине XVII в. и в русской Церкви), истолковал
название царских врат и написанные на них сюжеты. Функция «разделения видимых
от невидимых», в греческой традиции присущая столбикам космита, была перенесена
на царские врата. Уточнился и вопрос с киворием: в «Скрижали» под этим термином
явно понимается как надпрестольная сень, так и дарохранительница (на поля
вынесено пояснение – ковчежец, в то время как в тексте речь идет скорее о
сени). Феодосии Сафронович четко разъяснил, что «над престолом покрытие значит
небо, и малюют теж на том покрытии небо, а в том покрытии голуб, в котором
Пречистые Тайны ховают».
Украинские
писатели, безусловно, обогатили представления русских читателей. Лаврентий
Зизаний, например, углубился в этимологические изыскания, задавшись вопросом:
«Откуду имать имя свое церковь?» Впрочем, объяснение было достаточно курьезным:
«Мы убо русь от Царя именуем церковь, зале есть жилище Царя небесного, аки бы
глаголюще царственница. Грецы же ю нарицают своим их языком – екклисия...,
сиречь созвание или собрание... Ляхи же от кости нарицают костел, аки бы
рекуще, костница». А Кирилл Транк-вилион дал целую сводку различных символов
церкви: виноград, дщерь Сионская, стражница, вежа, колесница многоочитая, гора
тучная, скарбница, второй рай, Восток пресветлый, невеста Христова, дева,
страждущая жена, корабль, Царство Христово, овчарня, Сион, небесный Иерусалим.
Некоторые из них могли реально ассоциироваться с архитектурой (стражница, вежа,
скарбница, корабль). Не исключено, что «узорочье» русских храмов XVII в. связывалось у современников с
образом «невесты Христовой» с подвесками у ланит и ожерельем на шее (Песн.1.10,11).
Можно ли
судить о широте распространения символических представлений в народе? Очевидно,
рядовому прихожанину были известны только наиболее общие толкования о храме,
предельно кратко сформулированные протопопом Аввакумом: «Церковь бо есть небо,
церковь – Духу Святому жилище, херувимом владыка возлежит на престоле, Господь
серафимом почивает на дискосе». Иначе трудно понять просветительский пыл
патриарха Никона, поместившего внутри Воскресенского собора изразцовую надпись
об этих сюжетах: «Сказание о церковных таинствах, яко храм или церковь мир
есть, сие святое место, Божие селение и соборный дом молитвы, собрание людское;
святилище же тайны олтарь, в нем же служба совершается! трапеза же есть
Иерусалим, в нем же Господь водворися и седе, яко на престоле, и заклан бысть
нас ради едложеиде же Вифлеем есть, в нем же родися Господь..» . Если
надписания на иконах, форма крестов и даже «яйцо струфокамилово» вызывали
различные, иногда чисто фольклорные толкования, то символика архитектуры в
народной литературной традиции оказалась обойденной. Символика чисел
обыгрывается в форме загадок такого плана; «Что есть: четыре орлы едино яйцо
снесли?» (ответ - евангелисты и Евангелие); или: «Что есть: супруг волов
двенадцать, а сеятелей четире, а жателей сто пятьдесят, уторжеся нива, сотвори
три копы?» (ответ – 12 апостолов, 4 евангелиста, 150 жалмов во жалтири, нива –
Богородица, копы – Отец и Сын и Св. Дух). Единственная принадлежность культовой
архитектуры, встречающаяся в источниках такого рода, – колокол. В «Луцидариусе»
дается вполне каноническая его трактовка: «В ветхом завете бяху роги, Иерихон
бяше одолен единым рогом, зане и стены градные падоша на землю. В тех рог место
бяше у нас колоколы и звон». Напротив, совершенно фольклорно колокол
осмысляется в загадке: «Что есть: живый мертвого бияше, мертвый же кричаше, на
глас же его мнози народи стекошася?»
Итак, даже
краткий предварительный обзор древнерусских источников по символике архитектуры
позволяет заключить, что такая символика существовала и основывалась на
греческих источниках, незначительно дополняясь или корректируясь. Практически
все символические толкования касались внутренних форм храма. Таким образом, нет
никаких оснований объяснять те или иные особенности внешнего облика русских
церквей их символическим значением. Многообразие и высокие художественные
достоинства отечественного зодчества вызывались иными причинами. В нем
воплощались не единичные символические соответствия, но образ Бога как «образ
высочайшия красоты». По Симеону Солунскому, «красота храма означает, что
Пришедший к нам красен добротою... и что Он есть прекрасный жених, а Церковь –
прекрасная невеста Его». Поэтому строители Воскресенского собора в Новом
Иерусалиме позволили себе отступление от иерусалимского образца ради большего
благолепия храма: «Вкруг сделаны красоты ради, в прибавку света: росписи
Иерусалимской».
Изучение
символических представлений человека Древней Руси – безусловно, важная задача
для историков культуры, но для архитектуроведения она является периферийной.
Знание символики влияло на восприятие интерьера храма, но не на построение
конкретной архитектурной формы, развивавшейся по своим собственным законам. Но
тем не менее древнерусские источники по символике архитектуры должны занять
свое место в арсенале историка древнерусского зодчества.
3.1.2.3.
Вагнер Г. К. Византийский храм как образ мира
(Византийский временник, т. 47, М.: Наука, 1986, с. 163–181.)
Георгий Карлович
Вагнер (+1994) – доктор искусствознания, специалист в области теории и истории
архитектуры.
ИСТОКИ РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО ХРАМА.
РАННЕХРИСТИАНСКАЯ БАЗИЛИКА
Как бы
духовны ни были представления апостольских времен о храме, развитие нового
культа требовало своего «видимого посредства». Главное конфессиональное
суждение здесь таково; хотя свобода и духовность новой веры не имеют ничего
общего с телесностью и видимостью каждого из посредств и хотя воздействие на
человека есть вполне духовное воздействие, тем не менее таинственность,
прикровенность этого действия необходимо требует для себя некоторой видимости и
внешности, как средства и способа для воздействия на человека –
духовно-телесное существо. Проблема эта, вероятно, остро встала уже в
апостольские времена. Если иметь в виду Восток, то синагоги не могли быть таким
«видимым посредством». Эти функции не мог выполнять и Иерусалимский храм. К
тому же этот храм был в 70 г. разрушен. Если иметь в виду Запад, то в конце
концов перестали удовлетворять не только катакомбы, но даже языческие базилики,
хотя ранние христианские базилики строились в довольно схожих формах.
Восходящие к римской традиции небольшие центрические сооружения (в большинстве
– погребального характера, так называемые мемории) тоже не подходили для
общественного богослужения, хотя в более позднее время их архитектура и окажет
свое влияние на христианский храм. Вот здесь-то и возникает вопрос: в чем же
состояла сущность нового «видимого посредства», т.е. христианского храма?
Вряд ли можно
ответить на этот вопрос, обратившись, например, сразу к римской базилике
Сан-Паоло Фуори ле Мура (386), которую М. Дворжак считал «чистым воплощением
духа новой христианской архитектуры». Ведь нужна была сложнейшая творческая
работа этого духа, прежде чем он смог получить столь «чистое воплощение». К
сожалению, М. Дворжак, весьма чуткий именно к духовной стороне истории
искусства, в данном случае семантический аспект почему-то оставил в стороне.
Между тем именно новым пониманием храма и была обусловлена его образность. Дело
не столько в том, что христианская базилика как произведение искусства
«представляет собой всего лишь некую художественную среду, задача которой –
возбуждать в человеческой душе чувство благоговения и управлять этим
субъективным психологическим процессом, быть посредником в духовном контакте
человека с Богом и с мистериями божественного откровения», Здесь неясно, каким
же образом именно в христианской базилике получилось вышеупомянутое «чистое
воплощение» нового духа. Это легче уяснить, если мы будем исходить не из
какой-то одной особенности христианского храма (тем более произвольно
выделенной нами), а из тех его толкований, которые имели место в древности:
преобразовательного (ветхозаветного), исторического (топографического) и
символико-апокалипсического (литургического). Такое сложное толкование
сложилось не сразу, как не сразу определилась и архитектура христианского
храма, поэтому нам надо начать издалека.
Языческая
базилика («царские чертоги») римского времени сохранила многое из того, что
составляло сущность греческого периптера. Последний, как известно, считался
жилищем божества и хранилищем его имущества (эта функция была и у египетского
храма). Статуя божества находилась в конце целлы, но пространство целлы вовсе
не предназначалось для молящихся, они сюда даже не допускались, что в
корне отличает целлу от наоса христианского храма. Отлична и функция дальнего
восточного помещения, находящегося за статуей божества (опистодом). Это не
алтарь (он находился перед статуей), а хранилище богатств храма (т.е. в конце
концов – божества).
Как жилище божества, осознаваемого в Греции в
чувственно-гармонической антропоморфической форме, языческая базилика сама
насквозь чувственно антропоморфизирована и даже героизирована, насколько это
только возможно в архитектуре. Никто, как Н.И. Брунов, не прочувствовал и не
описал этот антропоморфизм и героизм греческого периптера, являющегося,
выражаясь словами М. Дворжака, «чистым воплощением духа» эллинской архитектуры.
Антропоморфизм его заключен не только в скульптуре, размещенной на фронтонах и
метопах, но и в самой скульптурности архитектуры, причем именно в антропоморфической
скульптурности, поскольку колонна ассоциируется с героизированной фигурой
человека, а все колонны, вместе взятые,– с героизированным коллективом. Между
прочим, последнее качество, т.е. «коллективизм» антропоморфизированного образа
периптера, лишает его того личностного характера, без которого будет немыслим
христианский храм, каким бы спиритуалистическим он ни рисовался. «Коллективизм»
периптера, проецируемый на коллективизм полиса и через полис – на гармонию
космоса, сообщал греческому храму космологическую символику, но скорее именно в
смысле внутренней гармонизации, а не в формальном отношении. Хотя, как увидим
ниже, прямоугольная форма могла пониматься и как наследственно-сакральная.
В языческой эллинистической базилике акцент перенесен с
внешней колоннады на внутреннюю, что при спорадически открытом центральном нефе
(Помпеи) делает такую базилику похожей на перистиль. При этом эллинистическая
базилика нередко замыкается колоннами со всех четырех сторон и не имеет апсиды,
что сближает ее не только с перистилем, но и с периптером.
Было бы ошибочно думать, что эллинистическая базилика не
отразила в себе общих представлений о мире, не была его символическим образом.
Эллинистическое мышление, унаследовавшее идею гармонизированного космоса (Пифагор,
Платон), именно в это время разрабатывало в эстетике категориальный аппарат для
понятийного выражения таких абстрактных предметов, как отражение одного явления
через другое. Например, у Плотина мы находим и учение о красоте космоса, и
понятие образа как подобие первообраза, и разработку символической функции
образности. Однако преимущественно гражданские функции эллинистической базилики
несомненно ослабляли ее символику. В этом отношении гораздо «семантичнее» были
сооружения центрического характера, идущие от мавзолея Августа через Пантеон к
мавзолею Констанцы в Риме. Их циркульные формы в какой-то степени можно
возводить к концентрической системе вселенной Платона и к той «одержимости
округленностью», которая характерна для ранних представлений о вселенной и
гармонии. Родственные архитектурные идеи будут не чужды создателям
раннехристианских баптистериев, мартириев, и они окажутся позднее воспринятыми
«большой архитектурой». Но во времена Константина главным типом христианского
храма стала все-таки базилика. Константин не только передал христианам
некоторые старые языческие базилики, но и строил им новые в духе старых. Здесь
главным является вопрос: воспринимали ли адепты новой религии прямоугольную
форму базилики как неизбежную необходимость или вкладывали в нее свой смысл?
Априорно, конечно, можно сказать, что одно не исключает другого. Но нам важна
не прагматическая, а именно принципиальная, смысловая сторона вопроса. И здесь
есть все основания считать, что в прямоугольную форму храма (базилику) уже на
заре христианства вкладывалось определенное содержание. Истоки его незачем
искать ни в символике древнего Востока, в которой числу 4 придавалось
мистическое значение, ни в аккадских, ассиро-вавилонских космографических
теориях о четырехъярусном строении вселенной. Путь ведет нас прямо к
«Апостольским Постановлениям» (III в.), в
которых при рекомендации строить христианский храм продолговатым образом
(«подобно кораблю») прямо «имелось в виду и ветхозаветное храмовое устройство».
Мало того. Основоположники «христианского гносиса» Климент Александрийский и
Ориген в своих учениях о строении мира в виде четвероугольного ковчега исходили
из древнеиудейской традиции. И это вполне естественно. Как бы ни был силен
гипноз эллинизма, нельзя не признать, что раннехристианские представления о
бытии, пространстве и времени развивали прежде всего ветхозаветную традицию. В
связи с протекающей в III в.
централизацией христианского культа и обрядности это коснулось и самых
сакральных областей. «...Структура всего христианского суточного богослужения,
начиная с вечерни и утрени, а также в значительной степени и литургии,
заимствована из синагогального обихода». Точно так же и «раннехристианская
гимнография выступает как органическое продолжение ветхозаветной», почти не
оставляя места для новых образцов. В силу этого и раннехристианское храмовое
устройство не могло пройти мимо ветхозаветного, что сказалось в понимании
языческой, а затем и собственно раннехристианской базилики как своего рода
новой скинии. На это до сих пор настолько мало обращалось внимания, что вопрос
достоин особого рассмотрения. Следует напомнить, как складывалось ветхозаветное
представление о святилище.
Долгое время после Исхода никакого стимула к
архитектурному оформлению богослужения у израильтян, по-видимому, не
существовало, если не считать временных жертвенников из земли и нетесаных
камней. И только с эпическим «повелением» (на горе Синай) устроить святилище
(скинию) мы впервые встречаемся с «проблемой храма».
Важно отметить, что святилище (скиния) мыслилось не как
жилище Бога, но лишь как место его «обитания» среди народа: «И устроят они Мне
святилище, и буду обитать посреди них». Обитание же надо понимать только как
место явления, которое указывалось очень конкретно: над золотой крышкой ковчега
Завета, посреди двух херувимов: «Там Я буду открываться тебе (Моисею) и
говорить с тобою». Ковчег Завета, как это хорошо известно из книги Исход,
«указан» в форме прямоугольного ящика (длиною два с половиной локтя и шириною
полтора локтя, т.е. в пропорции 3:5). Скиния же «задана» в виде легкого крытого
четвероугольного хранилища ковчега (в пропорции 1:3) и еще более широкого,
открытого ограждения (в пропорции 1:2), состоящего из драгоценных покрывал на
шестах и столбах. Вся скиния, таким образом, рассчитывалась на перенос, так как
Исход еще не достиг своего конечного пункта.
Вряд ли форма скинии родилась априорно как некий
юнговский «архетип». Вместе с тем символическое в ней неотделимо от
функционального и весьма затруднительно сказать, что здесь было определяющим.
Не будем искать этого «абсолютного вещественного центра», а, подразумевая
важность первого, начнем со второго. Скиния должна была вмещать всех. Для этого
требовался достаточно большой и не обязательно крытый двор («скиния собрания»).
Впоследствии он будет воспринят как символ Вселенской Христианской Церкви. Для
священнослужителей и ковчега Завета требовалось особое помещение, разделенное
надвое, в первую половину которого могли входить только священнослужители, а во
второй за завесой было место ковчегу Завета. Структура этого «святая святых»
требовала, таким образом, прямоугольно-вытянутой формы, что определило и
прямоугольность двора. Это – что касается функции. Но при этом учитывалась
прямоугольная (ящичная) форма Ноева ковчега. Не исключено, что оказало свое
воздействие на конструкцию скинии и представление египтян о «ящичной» форме
земли. В этом отношении показательно, что древнейшие (додинастические)
египетские храмы реконструируются в форме, очень близкой скинии. Этих
реконструкций ни Климент Александрийский, ни Ориген, конечно, не знали, но все
остальное им было хорошо известно, так как перевод книг Ветхого Завета
(Септуагинта) к этому времени уже был сделан и принят христианской Церковью.
Функционирование скинии имело свою специфику. Если
явление Бога связывалось с местом над крышкою ковчега (в «святая святых»), то
«слава Господня» в виде облака наполняла всю скинию. Как видим, это резко
отлично от антропоморфизма языческого храма. Там все чувственно материализовано
и конкретизировано, здесь все абстрактно спиритуализировано и символизировано.
Там божество, воплощенное в статуе, живет в целле, здесь только голос Бога или
Его слава в виде облака являются Моисею. Бытие и образ Бога остаются невидимыми
в «мировой мгле». С еще большей определенностью функция иудейского храма
выражена в «доме Господнем», который построил сын Давида царь Соломон.
Соломонов храм, несравненно превосходящий богатством и монументальностью
переносную скинию, тоже был не более как местом молитвенного обращения к Богу.
В уста Соломона вложены слова: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо
небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил».
Итак, в отличие от языческого храма, служившего жилищем
божества, иудейский храм был только местом молитвы Богу, остающемуся невидимым,
обитающим в мировом пространстве. Как же это отразилось на архитектуре
святилища?
Первое, что можно безошибочно констатировать, – это
переоформление семантики в более высокий космологический план. Уже не
эмпирический гармонический человек выступает мерой всех вещей (в том числе
храма и космоса), а представление о трансцендентном Боге, обитающем в
безграничном пространстве, в «небе небес». Естественно, что раз безграничное
пространство оказалось наиболее определительной онтологической чертой невидимого
Бога, то пространственная идея и должна была лечь в основу толкования как
скинии, так и Иерусалимского храма. Правда, книги самой Библии об этом ничего
прямо не говорят, здесь мы начинаем иметь дело с более поздними
представлениями. Но они имеют для нашей темы неменьшее значение.
Раннее толкование «земной (Моисеевой) скинии» как своего
рода «образа, показанного на горе», т.е. «скинии истинной, которую воздвиг
Господь, а не человек», дал апостол Павел. Он не уточняет своего понимания
образа. Во всяком случае, до ареопагитовской теории о сходных и несходных
образах было еще далеко. Последующие (за Павлом) высказывания (Климент
Александрийский, Ориген) развивают в основном понятие подобного (т.е.
изоморфного) образа, как это следует из книги Бытия:
«И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему (и) по
подобию нашему». Скорее всего, так понимал образ и апостол Павел. «Земная
скиния» (образ) существовала, согласно Павлу, поскольку «еще не открыт путь во
святилище», т.е. она «есть образ настоящего времени» по отношению к
нерукотворной «истинной скинии» (первообразу), которая есть Христос, вернее –
его крестная Жертва. Из сказанного вытекает, что Моисеева скиния уже в
апостольское время понималась диалектически и как образ первообраза, и как
прообраз христианской «небесной церкви». Поскольку скиния соотносилась с «самим
небом», с «домом Божьим», то она наделялась безграничным пространственным
содержанием, так что понятие «образ мира» к ней вполне приложимо. Во всяком
случае, еще задолго до того, как Козьма Индикоплов (VI в.) распространит это понятие на скинию, Ориген, Евсевий Памфил и Василий
Великий сравнивали мироздание с храмом, а храм (у Оригена – церковь) с
мирозданием. В этой связи интересно, что одна из построенных Константином
церквей носила название «церкви мира». Надо полагать, что это была та
грандиозная базилика, которую Константин построил в Иерусалиме. Вход в нее,
подобно скинии, был с востока. Однако только у Козьмы Индикоплова мы впервые
встречаемся с развернутым толкованием скинии как образа мира, и поэтому нам
надо на нем специально остановиться. При этом будем помнить, что Козьма
Индикоплов был очень архаичен в своих воззрениях и в космологических
представлениях не ушел дальше египтян.
Трактовка Козьмой скинии как образа земли и неба, т.е.
вселенной, отражена в его известном сочинении «Христианская топография».
Мы видели, что понятие образа как изоморфного изображения
первообраза имелось уже (через книгу Бытия) в лексиконе апостола Павла, значит
тем более конкретное содержание оно должно было получить у Козьмы Индикоплова.
К этому времени теория подобного и неподобного образа была уже подробно и
глубоко разработана у византийских мыслителей, особенно в «Ареопагитиках»
Дионисия Ареопагита. Исходя из ареопагитовс-кой теории, мы можем даже утверждать,
что в понятие «образ» (образ мира) Козьма Индикоплов вкладывал условие
изоморфизма (сходства), т.е. образ понимался им именно как «сходный» или
«подобный». Иначе говоря, Козьма считал, что, Моисеева скиния по своей
структуре воссоздавала структуру мира (вселенной).
Козьма Индикоплов отрицал шарообразность земли.
Прямоугольная форма скинии в пропорции 1:2 (вместе с двором) отражала именно
такую, по утверждению Козьмы, форму вселенной, «модель» которой в разных
позициях и представлена в его сочинении. Конечно, было бы очень интересно
установить, отправлялся ли Козьма только от библейского текста или и он, будучи
в Александрии, воспринял «ящичную» форму земли из египетской космологии. Но это
увело бы нас далеко в сторону. Вернемся к скинии.
Как земля при сотворении была разделена (посредством
тверди) на два пространства – собственно землю со «вторым небом» (твердью) и
собственно небо («первое небо»), так и скиния Моисея разделялась завесою на две
части: первая – «святая» (нынешний видимый мир) и вторая – «святая святых»
(будущий мир). Земля до потопа мыслилась Козьмой Индикопловом лежащей за
окружающим землю океаном. В восточной части этой заокеанской земли (в
библейском Эдеме) и размещен рай. Соответственно этому вход в скинию был с
востока, так что «святая святых» отодвигалась к западной части скинии. На это
следует обратить внимание, так как тем самым подготавливалось изображение рая в
христианском храме на его западной стене, в составе композиции Страшного суда.
Можем ли мы и скинию считать (в порядке «обратной связи»)
моделью вселенной? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Если
«построенный» Козьмой Индикопловом (в рисунках) «вид вселенной» мы условно
можем называть «моделью вселенной», то, конечно, не потому, что она являлась ее
копией, а только потому, что Козьма Индикоплов мыслил ее таковой. Он «научно»,
со своей точки зрения, «обосновывал» воспроизводимый вид, так что
гносеологически это скорее именно «модель», а не образ. Образом творение Козьмы
можно назвать только по материалу и технике воплощения, поскольку это не более
как рисунки. В этом отношении скинию можно считать символическим
предвосхищением «модели» вселенной, своего рода «порождающей моделью» (конечно,
при крайне условном значении этого современного термина). Здесь нет противоречия
с тем, что скиния была образом не иносказательным (не неподобным), а «сходным».
Сходность образа и его символизм соединялись, пронизывали друг друга, так как
понятие символа к этому времени тоже приобрело (у того же Дионисия Ареопагита)
двоякий смысл – реальный и умозрительный. «Реальные символы» – это, в сущности,
те же сходные образы. Они «одновременно и обозначают, и реально являют
обозначаемое». Таким символическим образом мира и выступала скиния, и в этом
символе проявлялась немаловажная ее функция.
После сказанного о скинии само собою разумеется, что и
христианский храм мыслился не жилищем Бога, а домом молитвы. «Не написано ли:
"Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов?"».
Преобразовательная функция скинии, конечно, не сводилась
к формальной стороне христианского храма. В последнем адаптировалась и
символика скинии. Но при этом решающую роль играла символика «святых мест» в
Иерусалиме, мимо которой не могла пройти ни одна христианская церковь. Речь
идет о топографическом толковании храма.
Выше уже говорилось, что открытый двор скинии
воспринимался в духе вселенского характера христианской церкви, (согласно Исх.
14. 1–3). Топографически эта ближайшая к входу часть соотносилась с атриумом
Иерусалимского храма, предваряющего собственно храм. Сюда тоже могли входить
все. Святая святых скинии (т.е. первое отделение собственно святилища)
сопоставима с Иерусалимским храмом, позднее – с наосом христианского храма,
который назовется «кораблем верных» (см. ниже). Святая святых (место хранения кивота
Завета), отделенная завесой, определит символику алтаря христианского храма как
Вифлеемской пещеры (пещера Св. Гроба в Иерусалимском храме). Символика самого
ковчега Завета перейдет на престол и т.д. вплоть до отдельных предметов
алтарного обихода.
Более углубленное осмысление символика получила в
эсхатологическом толковании храма. Наос базилики – это «наш мир». Алтарь и
верхние части стен – это «небесное Царство», куда Христос, вознесшись, первый
из всех вошел. Это представление о двух уровнях пространства храма полностью
отвечает раннесредневековому двухъярусному образу мира, в котором ветхозаветная
и платоновская традиции «смешивались друг с другом». Поскольку, однако, мир
трансценденции мыслился в виде бесконечного пространства, а «место обитания» Божества
– за пределами всякого пространства, то, естественно, это широкое
трансцендентное космологическое мироощущение погашало всякое побуждение к
определенно выраженному пластическому оформлению пространства. Чем менее
ощутимой, нейтральной была материальная оболочка храма, тем лучше храм, его
пространство (подобно деревянно-текстильной и открытой скинии) сливались с
беспредельностью мира. Если такие или подобные черты отмечаются даже в
некоторых эллинистических базиликах (причем Н.И. Брунов допускал в этом отзвук
египетских традиций), то тем более определенно они выражены в базиликах
раннехристианских. Никакого антропоморфизма здесь нет, нет и пластического
«чувства стены», тем более что ни катакомбы, ни пещерные храмы ранних христиан
не могли воспитать такого чувства.
Думается, что изложенное понимание дематериализации
архитектурных форм раннехристианской базилики достаточно объясняет ее
тектоническую сущность.
Второе, на чем тоже следует остановиться и что тоже
нуждается в уточнении, – это усиление продольного движения внутри христианской
базилики. Если в ряде базилик сохранялись характерные для скинии пропорции 1:2
(100 футов длины и 50 футов ширины), то постепенно продольные размеры
увеличиваются, и, например, в коринфской базилике Леонида (V–VI вв.)
пропорции выражаются в отношении 1:3 (без апсиды и вимы). На первый взгляд, это
отношение тоже можно возвести к скинии (см. выше) или же к храму Соломона,
который был длиною в 60 локтей, а шириною в 20 локтей, но это было бы крайне
искусственным.
Если действительно, как считают некоторые исследователи,
«перспектива храма (т.е. базилики), видимая из атриума через нартекс, часто
становилась предметом специального внимания зодчих» и «каждая часть здания
имела в глазах христиан определенную меру сакральной ценности, увеличивающейся
с приближением к алтарю», то в продольной акцентировке пространства базилик
нашло прекрасное отражение то мысленное «устремление вперед», вперед от
исчерпавшего себя Моисеева «закона», вперед к Новому Завету, которые
характеризовало новое чувство историзма.
Конечно, этот путь от Ветхого Завета к Новому мыслился в
символической форме. Он «начинался» с запада. Западная часть храма – это своего
рода место приуготовления. В раннехристианских храмах здесь перед входом
устраивались источники для омовения ног как «символы святого очищения». Далее в
нартексе отводилось место для оглашенных. Тут же иногда устраивались крещальни.
Еще далее к востоку (в наосе или ораториуме, главным образом в боковых нефах)
протянулось помещение для «верных». Именно протянулось, чтобы этот путь
спасения был реально, физически ощутим. Недаром продольный неф базилики
назывался кораблем (по латыни navis означает
корабль). «Форма церквей наподобие корабля внушает верующим, что через море
жизни может провести нас в небесное пристанище только Церковь». Как мы видели
выше, такая «метафоризация» идет с апостольских времен. Исследователи много
пишут о ритме длинных рядов колонн базилики, как о некоем самодовлеющем
стилистическом качестве. Этой ритмикой отсчитывался прежде всего путь спасения:
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется». По мере спасения молящиеся и
распределялись в базилике, кто «у лучших столпов», кто только у входа.
Выше приводилось мнение, что сакральная ценность частей
здания увеличивалась с приближением к алтарю. В этой градации выделяются три
главных членения: нартекс, наос, алтарь. Они соответствуют трем главным
членениям христианского общества: оглашенные, верные, пастыри. Подобная
иерархическая структура в переводе ее на культово-архитектурное оформление и
функционирование требовала продольной композиции храма.
Конечно, далеко не всюду и не сразу такого типа храм
получил полное признание. Отклонения от главной линии были в разные стороны. В
Грузии, например, центрическая композиция предпочиталась базиликальной, на что
были свои причины. Вернемся к главному.
Воплощая собой образ мира, христианский храм был прежде
всего храмом. Если в материальном своем качестве он служил «видимым
посредством» для проявления силы Божества и для общения с Ним, то в духовном
качестве это «видимое посредство» было «орудием и как бы проводником для
человека благодати Божией». Здесь мы вплотную подходим к литургическому
обоснованию христианского храма. Важность его осознается исследователями, но в
большинстве случаев, характеризующих отечественное искусствоведение, вопрос
либо ограничивается общими фразами о внимании к требованиям литургии, либо роль
последней признается только с V в. Ввиду
очень слабой разработки этого важного вопроса я не беру на себя смелости внести
в него полную ясность, но, во всяком случае, здесь надо принимать во внимание
следующее.
При соотнесении форм храма и его росписей с
литургическими требованиями нужно исходить из общественного богослужения в
целом, т.е. вечернего и утреннего, а не только из литургии как таковой. Если мы
будем иметь в виду только литургию, то никогда не поймем, почему при
относительной уставности ее структуры храмовые росписи структурно заметно
различаются. Это имеет отношение и к форме храма.
Говоря о функциональности продольной формы храма, не
следует забывать, что в сущности все богослужение представляло собою
«продольный», т.е. линейно-исторический процесс. Уже до III в. оно распадалось на утреннее и вечернее,
причем с III в. ночное предпраздничное (субботнее)
бдение стало таким же обязательным, как и литургия. Евхаристия, правда, сначала
включалась в вечернее богослужение, но вскоре заняла главное место в утреннем.
Литургия, в свою очередь, очень рано разделилась на литургию оглашенных и
литургию верных. Перед началом литургии верных оглашенные должны были покинуть
храм. Для удобства этого им и отводилась западная часть храма. Продольная форма
храма была здесь наиболее подходящей. Но этого мало. Поскольку все богослужение
носило линейно-исторический характер, то таким образом и развивалась служба.
Вечерня и утреня во всенощном бдении символизировали спасение человечества в
Ветхом Завете, явление Христа в мир и его проповедь.
Надо полагать, что именно поэтому вечерние службы,
согласно Типикону, ранее отправлялись в западном притворе или нартексе. К IV в. ход всенощного бдения уже сложился, что
очень важно для нашей темы.
При отправлении всенощной, на которой, естественно,
присутствовали и оглашенные, после вечернего входа и просительной ектений
наступал момент, когда священнослужителям надо было совершать общую (с
оглашенными) «усердную молитву», что получило название литии (введена Иоанном
Златоустом). Для совершения ее священнослужители шли из алтаря в нартекс (или
вообще в западную часть храма) к оглашенным, где и происходила лития (до IV в. функцию литии выполняло чтение Писания и
возложение рук на оглашенных).
На этом пути полагалось делать несколько остановок, места
которых отмечались цветными полосами (потемионами), идущими параллельно солее.
Они же обозначали места для различных категорий молящихся. Все сказанное
достаточно объясняет, почему византийцы предпочитали вытянутую по продольной
оси планировку храма.
В соответствии с развитием богослужения размещались и
росписи: от изображений ветхозаветных сцен в нартексе – к христологическому
циклу в наосе.
Литургия как таковая тоже предполагала продольное
пространство. В VI в. при
входе патриарха (или императора) в храм обряд встречи происходил в нартексе
перед царскими вратами. Здесь же совершалась короткая служба. Только после
этого весь синклит торжественно шествовал к алтарю.
Храмовые росписи раннего периода сохранились очень плохо,
но по тому, что нам известно, можно судить о подчинении их новому,
«историзированному» символизму христианского богослужения, в конечном счете воссоздающему
«историзированное мироздание». Так, уже во фресках синагоги Дура Европос
(Сирия, начало III в.),
несмотря на их иератический стиль с господством фронтальности, мы видим
расположенные в четыре ряда сцены ветхозаветной истории, вплоть до всемирного
потопа, а в росписи христианской капеллы – эпизоды от сотворения человека до
истории Давида. Переходя на римскую почву, развитый библейский цикл находим в
корабле Санта-Мария Маджоре (первая половина V в.), восходящий к IV в. и
отмеченный еще античными реминисценциями. Если в таких росписях на первый план
выдвигалась история мира, а с нею – исторический аспект богослужения, то в
росписях купольных храмов V в.,
естественно, акцентировалась пространственная структура мироздания. Уже в
мозаике мавзолея Галлы Плацидии (Равенна) крест на фоне звездного неба
производит впечатление безграничного космоса. В купольной мозаике равеннского
баптистерия изображение в центре крещения Христа, а вокруг – апостолов,
разнесших его благодать по всему миру, прямо связано с космологической
символикой подобных христианских концепций.
ИСТОКИ РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО ХРАМА.
ЦЕНТРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Само появление в V в. купольных храмов говорит о том, что даже «историзированные» базилики,
несмотря на их хорошую связь с ходом богослужения, недостаточно удовлетворяли
развивающееся мировоззрение и, скорее всего, именно потому, что далеко не
полностью («не изоморфно») выражали образ мира. Евсевий (263–340) считал храм
«объемлющим всю вселенную», «мысленным изображением того, что находится превыше
небесного свода». Можно сказать, что в своем восторженном описании храма он
жаждал свода. Вероятно, поэтому Евсевию казалось, что христианскому храму лучше
иметь многоугольное основание. Базилики же по античной традиции строились с
плоскими потолками. Даже та самая римская церковь Сан-Паоло Фуори ле Мура,
которую М. Дворжак считал «чистым воплощением духа новой христианской религии»,
не соответствовала полностью образу мира, так как вместо свода,
ассоциирующегося с небом, вверху открывались взору обнаженные стропильные
конструкции. Особенно это несоответствие между содержанием и формой архитектуры
ощущалось, вероятно, в центре храма, где находился амвон и зарождались
важнейшие литургические действия – «всенародно-зрительное» патриаршее или
архиерейское облачение, чтение Евангелия, благословение хлебов, елеепомазание и
т.д. Грандиозный символ неба – купол римского Пантеона, надо полагать, не давал
покоя творцам новой обрядности. Мысли не только Евсевия, но и Василия Великого
настолько были проникнуты «идеей свода», что современный исследователь мог
сказать: «Читая «Беседы на Шестоднев»... невольно представляешь себе купольные
храмы VI в.».
Наконец, нельзя не учитывать и того, что
центрально-купольная композиция таких памятных сооружений, как баптистерии и
мартирии (они известны с IV в. и даже
раньше), хотя и носила личностный характер, в конечном счете тоже считалась
«подражанием космосу, вселенной, пещерой мира». Крупнейший и священнейший из
таких ротондальных мартириев, купол которого в древности сравнивался с небом,
находился в Иерусалиме (храм Гроба) и, несомненно, притягивал к себе
архитектурную мысль всего христианского мира.
Все это создало противоречивую ситуацию: базилики не
удовлетворяли новым запросам потому, что были лишены такого яркого символа
мироздания, как свод. Чисто циркульные (или вообще центрические) композиции со
сводом не удовлетворяли потому, что их круговые параметры слишком явно
ассоциировались с античным циклизмом, не имеющим ни начала, ни конца. Напомним,
что на Западе Августин считал, что «по кругу блуждают нечестивцы», а на Востоке
Василий Великий вынужден был дать специальное разъяснение мнимой безначальности
и бесконечности круга и допускал его только с поправкой на то, что всякий круг
имеет «средоточие».
«НОВАЯ МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ» (ХРАМ-КОСМОС)
Наилучшим выходом из создавшегося положения было
соединение базилики с куполом, к чему вплотную и подошли византийцы. При этом
балочное перекрытие базилик только постепенно вытесняется сводчатым, сначала в
боковых нефах, а затем и в центральном.
Для возникновения купольной базилики требовалось
некоторое перемещение архитектурных акцентов, прежде всего увеличение
пространства перед алтарем, что привело к устройству трансепта, над которым и
стали водружать купол. Было ли это движение следованием «своим собственно
архитектурным закономерностям» или, что то же самое, закономерностям
«эстетическим»? Исследователи того и другого процессов не видят здесь
функционального момента, т.е. влияния богослужения, поскольку один и тот же
литургический канон вызывал к жизни различные плановые решения. Но если
функциональный фактор понимать не столь узко, то вряд ли можно отрицать тот
факт, что центрально-купольные здания, не будучи более удобными для
богослужения, прекрасно «работали» на сложение новой символической образности.
Исторический аспект приносился в жертву символическому, но приносился только
частично, так как базиликальная основа все же сохранялась. Она требовала только
купола, чтобы храм мог стать совершенным образом мира. Упорство и настойчивость,
с которыми, несмотря на множество неудач, совершались поиски наиболее прочного
возведения купола над базиликой, говорят о том, что в этой идее действительно
находила воплощение новая «модель мироздания».
Поиски ее уже в V в. дали
самые разнообразные результаты как в самой Византии, так и на западе и востоке
«византийской эйкумены», но рассматривать их было бы очень трудоемким делом,
тем более что далеко не во всех случаях можно быть уверенным в том, что
отражение в новых храмах купольного типа образа мира действительно осознавалось
как цель или одна из целей. Отметим лишь общую тенденцию.
Стремление к удлинению базилик по линии запад–восток
продержалось недолго и сменилось, наоборот, тенденцией к их укорочению.
Конечно, это отчасти обусловливалось поисками более прочного основания для
купольного перекрытия пространства, но свести все к этому было бы неверно. Дело
в том, что тот историзм, который раннехристианская мысль унаследовала от
ветхозаветной традиции, довольно рано если не исчерпал себя, то был подчинен
своеобразной реставрации «статических мыслительных схем метафизики и мифа».
«Каждый шаг навстречу более тонкой интеллектуальной культуре (т.е.
византийской) означал для христианства приближение к онтологии эллинского типа,
к платоновскому или аристотелевскому идеализму». Не будем касаться того, что
происходило в III в.
(космологизации истории Оригеном), но уже в IV–V вв. идеи вневременной вечности
богоустановленной небесной иерархии существенно трансформировали
раннехристианский историзм, о чем свидетельствуют не только «Ареопагитики», но
и настойчивые попытки создать архитектурное подобие упорядоченного космоса в
виде предшественницы юстиниановской Софии. Такой предшественницей была «Большая
церковь» Констанция, позднее названная Софией. Она имела пять нефов и массивный
купол, но в 404 г. обгорела, затем восстановлена Феодосией II и снова обгорела в 532 г. Наступившая «пора
для славословий» не могла с этим примириться.
Архитектурный образ вселенной и одновременно вселенского
величия Византии требовал осуществления.
Нельзя сказать, чтобы архитектурная мысль эпохи ничего не
могла предложить в этом направлении, кроме купольной базилики. В таких
интересных сооружениях, как Сан-Лоренцо в Милане, церковь в Афинской библиотеке
Адриана, Красная церковь около Перущицы во Фракии, наконец Сан-Витале в
Равенне, церковь Сергия и Вакха в самом Константинополе зодчие оказались
способными создать величественные пространственные композиции, легко
ассоциирующиеся с величием вселенной. И все же они, по-видимому, чем-то не
удовлетворяли. Но чем? Я думаю, прежде всего тем, что при явно выраженном
центризме архитектурных композиций ход богослужения не мог быть полностью
развернут в своем поступательном историзме. В церкви Сан-Витале, например,
ветхозаветные сюжеты оказались расположенными на боковых стенах, почему никак
не могло создаться впечатление о Ветхом Завете, как о пройденном этапе. Он все
время напоминал о своем существовании. Удовлетворение принес храм Софии
Константинопольской (532–537), который и следует рассматривать как «новую
модель мироздания», хотя слову «модель» я предпочитаю слово «образ».
Архитектурно-археологические исследования Юстиниановой
Софии позволяют считать, что если предшествующие ей храмы Софии и не вошли
частично в кладку, то все же Юстиниан, вернее, зодчие Анфимий и Исидор Старший,
возродили уже известную ранее форму купольной базилики. Юстиниану принадлежат
слова: «Церковное благоустройство есть опора империи». Можно, следовательно,
думать, что при постройке храма Софии императором руководило желание воплотить
в нем мировое величие Византии, т.е. через грандиозный храм как образ
грандиозного мира прославить грандиозность империи и своей власти. Об этом же
говорят и слова того же Юстиниана, будто бы сказанные им по окончании
постройки: «Я победил тебя, Соломон!». Для нашей темы очень важно, что
вселенское величие Софии Константинопольской осознавалось современниками. К
сожалению, мы не знаем, видел ли Козьма Индикоплов новый храм Юстиниана. Он
писал свою «Христианскую топографию» в Александрии, и окончание ее относят к
545–547 гг., т.е. ко времени, когда купол Софии еще не обрушился. «Модель
вселенной» Козьмы очень близка структуре Софии. Для поэта Кориппа (VI в.) купол Софии представлял «точное
изображение самого неба». О том же писал Евагрий Схоластик, у которого,
впрочем, встречаем важное «уточнение», что купол Софии «точно свод небесный на
земле». Это уже начало нового понимания купола, а вместе с ним и храма, о чем
будет речь тоже.
Обрушение купола Софии в 558 г. вызвало «по всей империи
всеобщее огорчение. Риторы того времени сочиняли заунывные одноголосные песни
(монодии) о падении знаменитого купола». В 560 г., когда восстановление
обрушившегося купола, видимо, близилось к концу, появилось известное сочинение
Прокопия «О постройках», в котором «великий» храм Софии описан еще до обрушения
купола, но уже с признаками близкой катастрофы. В этом сочинении Прокопий,
воспитанный на античных традициях, отдавая должное грандиозности храма, все же
отмечает его гармоническую пропорциональность. Вместе с тем примечательно, что
чуть ли не на полтора тысячелетия вперед он подмечает самые важные черты нового
византийского взгляда на храм, которыми теперь пестрят современные
исследования. Это – впечатление его несотворенности человеком («не человеческим
могуществом или искусством, но Божиим соизволением завершено такое дело»),
излучение света изнутри самим храмом, а не его внешним видом («место это не
извне освещается солнцем, но... блеск рождается в нем самом») и, что особенно
важно, тонкое восприятие купола как бы висящим в воздухе и опущенным с неба («И
кажется, что он покоится не на твердом сооружении вследствие легкости строения,
но золотым полушарием, спущенным с неба»). Это замечательно! Прокопий не
прибегает к сравнениям храма с образом мира, но этот образ рисуется сам собою
(несотворенность человеком, излучение света, спущенный с неба и «витающий над
всей землей» купол). И еще одно: «...зрители все-таки не могут постигнуть
искусства и всегда уходят оттуда, подавленные непостижимостью того, что они видят».
Можно сказать, что многовековым изучением Софии Константинопольской почти
ничего к этой тонкой характеристике Прокопия не добавлено.
Через три года после сочинения Прокопия, когда купол
Софии был восстановлен и в 563 г. состоялось вторичное освящение храма,
придворный поэт Юстиниана Павел Силенциарий посвятил этому торжественному акту
большое (1029 стихов!) поэтическое описание («Экфрасис храма Святой Софии»),
которое и было зачитано им сначала перед императором (первая часть), а потом
перед патриархом (вторая часть).
Павел Силенциарий не столь точен, как Прокопий, и у него
много метафор, что неудивительно, так как Павел был замечательным
эпиграммистом. Тем не менее он выразил такое же впечатление, которое было у
деловитого историка.
В «Экфрасисе» Павла Силенциария для нас наиболее важны и
интересны два момента: 1) композиционное построение его подобно храму Софии и
2) образное толкование храма дано в духе «всемирнообъединяющей миссии Второго
Рима».
Первое состоит в том, что Силенцарий, описывая храм, пользовался
центрально-купольным характером его композиции: сначала ямбами излагается
вступительная часть, затем гекзаметром идет собственно описание храма и наконец
ямбами же исполнено заключение. Л. А. Фрайберг, которой принадлежит это
интересное наблюдение, сравнивает кульминацию «Экфрасиса» с куполом храма
Софии, остальные части – с постепенно убывающими по объему частями здания.
Символом «всемирнообъединяющей миссии Второго Рима» в «Экфрасисе» выступают не
только «пестрые мраморные луга» его пола, но и ночное освещение храма,
сравниваемое со знаменитым фаросским маяком. Храм – грандиозный «корабль»
(Прокопий), храм – «маяк» (Силенциарий), эти уподобления Константинопольской
Софии достаточно ясно раскрывают всемирность его архитектурной образности. К
сказанному нужно добавить (а правильнее было бы с этого начать!), что само
посвящение главного храма империи именно Софии (Софии-Премудрости) указывает на
мирообразующий и мироупорядочивающий характер его глубинной и вместе с тем
возвышенной символики.
Без сомнения, храм Святой Софии как «новая модель
мироздания» удовлетворял самым разным функциям. Его грандиозное подкупольное
пространство при длине храма в 77 м, ширине 71,7 м, высоте в 55,6 м и диаметре
купола в 31,5 м действительно могло восприниматься и как вселенная
(птоломеевская, конечно), и как символ вселенского значения Византии,
Константинополя и самого Юстиниана. Храм способен был вмещать до десятка тысяч
людей, для разделения их на оглашенных и верных служил большой нартекс. Для
женщин предназначались хоры. Для развертывания самого богослужения, в котором
при патриархе и императоре участвовало двенадцать митрополитов с множеством
сослужащих, предоставлялось огромное подкупольное пространство.
Может возникнуть вопрос: если храм Софии
Константинопольской так полно и убедительно являл собою «новую модель
мироздания», то почему эта «модель» нигде более не воспроизводилась? Проще
всего, казалось бы, сказать, что нигде не повторилась та конкретно-историческая
ситуация, которая сложилась в Константинополе при Юстиниане Великом.
Действительно, многие средневековые правители любили сравнивать себя (или
сравнивались льстивыми современниками) с Юстинианом или с Соломоном. Но никто
из них, даже Карл Великий или Ярослав Мудрый, не обладал таким могуществом.
Просто исторические масштабы стали уже не те. Что же касается самой Византии,
то, естественно, архитектурный двойник храма Софии практически был не нужен.
Как хорошо сказал В. М. Полевой, «все достигнуто. Чего же искать больше, как не того, чтобы движение
застыло навечно...». Не следует к тому же забывать, что в X в. произошло второе обрушение купола
Софии, конструкция которой, таким образом, вовсе не выглядела идеальной.
Однако
история не была бы историей, если бы действительно хотя бы однажды все было
достигнуто. Если непомерно честолюбивый Юстиниан мог чувствовать себя «почившим
на лаврах» и «упиваться» «любовью к великолепию» созданного его волей восьмого
чуда света, то в других городах вовсе не думали отказываться от поиска таких
архитектурных композиций, которые при несравненно меньшем размере могли
удовлетворять манящему образу грандиозного мироздания. Примерно в это же время
возникают интереснейшие центрические сооружения, как, например, собор в Босре
(511–512), церковь Георгия в Эсре, ряд грузинских и армянских храмов. Большие
храмы крестообразного плана в самом Константинополе (церковь Апостолов), в
Эфесе (церковь Иоанна), на острове Тасосе и другие выражают ту же тенденцию.
Правда, нет точных данных, подтверждающих, что они действительно мыслились как
«модели мироздания». Мы можем только предполагать это. Зато в том же VI в. известны храмы, архитектурный
образ которых прямо связывается с мирозданием, а их купола – с небом. Таков
храм Софии в Эдессе, в отношении которого приведенное сравнение зафиксировано в
сирийском sugitha VI в. Вот этот текст: «...ее высоко воздвигнутый купол может быть сравнен с
небом небес, и она похожа на венец. Так же как звезды блещут на своде небес,
она источает сияние золотой мозаики. Ее своды похожи одновременно на углы
вселенной и на своды облаков». А.Н. Грабар считает, что строители храма Софии в
Эдессе были вдохновлены Софией Константинопольской, откуда появился
центрический план и купол. Для нашей темы все это имеет еще и то значение, что
Эдесса вместе с Нисибисом и Антиохией определяет границы того географического
треугольника, который особенно активно участвовал в разработке иконографических
программ, легших со временем «в основу всей христианской иконографии».
Весь VII, VIII и часть IX в. прошли в Византии под знаком
привязанности к центрально-купольной архитектуре в различных вариантах.
Параллельный процесс происходил в Грузии и Армении.
МОДИФИКАЦИЯ ХРАМА-КОСМОСА (ХРАМ -
«ЗЕМНОЕ НЕБО»)
До сих пор
остается еще недостаточно выясненным, как среди этого почти повсеместного в
восточно-христианском мире воспроизведения центрально-купольной архитектуры, в
которой столь выразительно нашла отражение христианская мироздательная
символика, одновременно происходило структурное переоформление
центрально-купольной системы в так называемую крестово-купольную. Если трудно
проследить логические ступени собственно конструктивной трансформации, то еще
труднее выявить семантическую ее подоплеку. Ведь не приходится думать, что
космологическая символика уступила место какой-то иной. Несомненно, она сохранялась.
Вместе с тем, имея дело с храмами «средневизантийского» периода, нельзя не
видеть, что какие-то элементы прежнего образа мира из него ушли. В сущности,
изменения начались уже с кризиса VII в., потрясшего всю империю. «На первый план
выходят традиции провинциального искусства, причем этот процесс сопровождается
резким возрастанием ценности чисто сакральных моментов, становящихся
доминирующими в новой системе ценностей». Архитектура этого времени
представлена в основном монастырскими храмами весьма небольшого размера,
поскольку конгрегации монастырей были малочисленными. Функции такого храма,
естественно, отличались от больших городских купольных базилик и
центрально-купольных сооружений. Теперь богословская мысль не обременена
антично-светскими реминисценциями имперского масштаба и больше «ушла в себя». С
углублением «философско-умозрительного» начала богослужения изменилось
понимание храма как «видимого посредства». У Максима Исповедника (582– 662)
церковь в общем плане хотя и выступает «образом и изображением Бога», в частном
плане она уже является «образом мысленного и чувственного мира, а также образом
человека и, кроме того, образом души».
Это очень
далеко от рационализирующей идеи космоса. Теперь «занебесный мир» предстает в
мистически трансформированном виде «обожения», т.е. «полного неслитного
соединения личностей Бога и человека» (кроме сущностного тождества), к чему и
направлен был ход литургии. Последняя понималась не только как реальное
приобщение к Божеству (через Евхаристию), но и как «небесная литургия», во
время которой, по словам патриарха Германа (715–722), «мы уже не на земле, а на
небе». «При этом считается, что и сами небесные силы реально находятся в
алтаре, принимая участие в богослужении». Это соединение неба с землею тонко выражено
в образах акафиста Богоматери (VII в.):
«Радуйся,
лестница небесная,
по ней же сошел к нам Бог,
Радуйся, цепь прекрасная,
сочетавшая
небеса земле...»
Сама литургия
с VI в. заметно
усложняется. Отсутствующие в ранневизантийское время малый и великий
входы теперь приобретают все большее значение, достигнув апогея, правда,
значительно позднее, в XII–XIII вв. В связи с этими входами становится
совершенно необходимым троечастие (и троедверие) алтаря. Иконоборцы не посягали
на богослужение, наоборот, в условиях борьбы за иконопочитание содержание его
углублялось. Введенная Иоанном Златоустом лития развилась в торжественное
ночное шествие с пением гимнов. С этим связано возрастание значения нартекса в
храме, в котором шествие ожидало открытия дверей и пелся тропарь: «Возьмите,
врата, князя ваша». В самой литургии утверждение антифонов, предвещающих
«пришествие Сына Божия от Девы на землю» и взывающих: «Бог наш на земли явился
и в лепоту облечеся», самым непосредственным образом способствовало укоренению представления
о храме как «небе на земле», с чем мы встречались уже у Евагрия.
Правда, у Иоанна Геометра (X в.) еще появляется уподобление храма вселенной, но это только подражание,
причем именно в земном храме осуществляется «снятие противоречия между духовным
и материальным, небом и землей». Отсюда произошло усиление символики различных
частей храма. Еще Н. И. Брунов заметил, что если в Константинопольской Софии
купол более изобразителен, то в храмах X–XII вв. он всецело символичен.
Подкупольные столбы сравниваются со святыми, на которых утверждается Церковь.
Естественно, символична и сама крестообразная система сводов, представляющая
широкое поле для священных изображений, что, в сущности, и было одним из
поводов назвать новый образ храма «земным небом».
Появление крестово-купольной системы вовсе не было
каким-либо шагом назад. Наоборот! Крестово-купольная система давала возможность
создания больших пространств с гарантией от статических ошибок или просчетов,
приведших к катастрофам с куполом Софии.
Существенно, что трансформация храма-космоса в храм –
«земное небо» происходила при неуклонном следовании прямоугольному плану,
дающему возможность сохранить нартекс (для оглашенных, для встречи высшего
духовенства, для литии, крещальни и пр.), устроить круговые обходы (для массы
молящихся), хоры (для женщин), троечастный алтарь (для малого и большого
входов), наконец увеличить число глав до трех и пяти, что тоже осмыслялось не
только функционально (освещение алтаря и хоров), но и символически. Известное
разнообразие в конкретных функциях храмов, а следовательно, и в композиционных
замыслах, обусловливало в одном случае предпочтение базиликальной вытянутости
здания (большие храмы Грузии «героического века» с их общегосударственным
значением), в другом – почти квадратного плана (небольшие храмы византийской
провинции), который сохраняется и в больших константинопольских памятниках
пятинефного типа.
Для крестово-купольного храма – «неба на земле», будь это
даже большое пятинефное здание, свойственно довольно-таки дробное расчленение
внутреннего пространства многочисленными опорами (столбы, колонны), что давало
человеку возможность овладеть этим пространством, не раствориться в нем, как
было в храме-космосе. В связи с этой особенностью Н.И. Брунов рассматривал
любовь к «карликовым пропорциям» (пропорции ниш, колонн, оконных проемов),
способствующим известной дематериализации образа храма, т.е. идеям аскетизма.
Значительной материализацией, впрочем, отличается восточная ветвь византийской
архитектуры, что немаловажно для нашей темы.
Главное же в крестово-купольной системе, благодаря чему
она стала оптимально адекватной средневековому сознанию и поэтому
всепроникающей, заключалось в идеальном пространственно-объемном выражении
сложной структуры земной и небесной иерархии. «Купол на барабане выявляет
основную вертикальную ось здания. Однако купол вырастает из пересечений двух
других пространственных координат, выявленных четырьмя цилиндрическими сводами
концов креста.
Вследствие этого композиционная основа крестово-купольного
здания представляет собой компактную завязку трех основных направлений
пространства». В этом компактном единстве все части связаны иерархически от
угловой ячейки до купола, и ни одну из них нельзя изъять без нарушения целого.
Такое единство, конечно, должно было казаться предельно закономерным и
гармоничным, почему оно было усвоено мировой архитектурой вплоть до XX в. В X в. с этим поразительным архитектурным явлением и соприкоснулась Русь.
3.1.2.4.
Вятчанина Т.Н. Проблемы тектоники храма
(Об иконографии и тектонике православного храма. – М., 1996, с. 62–65.)
Татьяна Николаевна
Вятчанина – научный сотрудник ВНИИТАГ, работающая в области теории и истории
архитектуры.
В методическом плане одной из важных исходных посылок
является опора на те подходы, которые разработал в области анализа
христианского искусства о. Павел Флоренский. Завоеванием ученого можно считать
создание своего рода аппарата анализа произведения церковного искусства, достаточно
универсального с точки зрения выявления выражаемого искусством высшего
«архитектонического» смысла бытия. Ни художественные формы, ни вещественные
среды «в организации культа не случайны», – утверждает о. П. Флоренский. «Ни
техника иконописи, ни применяемые тут материалы не могут быть случайными в
отношении культа, случайно подвернувшимися Церкви на ее историческом пути,
безболезненно, а тем более – с успехом могущими быть заменяемыми иными приемами
и иными материалами. То и другое в искусстве вообще существенно связано с
художественным замыслом и вообще никак не может считаться условным и
произвольным, попавшим в произведение по внешним в отношении его художественной
сущности причинам. Тем более... это же надо мыслить и говорить о том искусстве,
в котором как являющем духовную природу человечности, вообще не может быть
ничего случайного, субъективного, капризно произвольного. Область этого
искусства замкнута в себя несравненно более, нежели какого угодно другого, и
ничто чуждое, никакой «чуждый огонь» не может быть возложен на этот священный
жертвенник. В самих приемах иконописи, в технике ее, в применяемых веществах,
в... фактуре выражается метафизика, которою жива и существует икона. Ведь...
сами вещества, применяемые в том или другом роде и виде искусства, символичны,
и каждое имеет свою конкретно-метафизическую характеристику, через которую оно
сообщается с тем или иным духовным бытием. Этот выбор веществ, этот подбор
«материальных причин» произведения производится не индивидуальным произволом,
даже не внутренним разумением и чутьем отдельного художника, а разумом истории,
собирательным разумом народов и времен, который определяет и весь стиль
произведений эпохи».
Обращаясь к
нашей теме, можем сказать, что храмоздание, наряду с иконописью и другими
видами религиозного искусства в Средние века, было средством богопознания,
познания божественного устроения мира и одновременно воплощением этого знания.
С этим тесно связана принципиальная анонимность и «соборность» церковного
искусства (особенно строительства) как стремление к освобождению от всего
личностного, субъективного в пользу неискаженного «высшего знания».
(Мы отнесли
сказанное по преимуществу к Средним векам. В то же время нам представляется,
что основополагающая онтологическая концепция православного храма, в том числе
русского, была достаточно постоянна в своей философской основе, как неизменны и
сами изначальные постулаты христианской метафизики. Но степень адекватности ее
выражения в архитектурной форме в разные исторические периоды неодинакова. Это
зависит не только и даже не столько от состояния самой архитектуры и ее
имманентного художественного развития, сколько от состояния религиозного
сознания общества. Организация внутреннего пространства и тектоническое решение
фасадов представляются наиболее явными архитектурными носителями именно этих
исторических и национальных форм общего онтологического начала.)
И со стороны
практиков, и со стороны теоретиков храмовое искусство мыслилось носителем самой
активной «умозренческой» информации. Правда, его семантику принято
рассматривать в комплексе всех видов искусств, составляющих храмовое действо.
Но все же хотелось бы вычленить суть чисто архитектурной «партии» в этом
полифоническом синтезе.
Особенности
выразительных средств архитектуры очевидны. Архитектура, как никакое другое
искусство, связана своей строительно-технической стороной с природой: с
материалами и их свойствами, с естественными механическими законами. Это, с
одной стороны, лимитирует свободу ее художественного языка. С другой стороны,
это задает ей соответствующий уровень художественного осмысления – концептуального
выявления действующих в мире сил, т.е. непосредственно онтологического уровня.
Это сфера прежде всего тектоники сооружения. Не менее значим в этом отношении и
подбор строительного материала.
Если
представить себе, что на одной стороне мы имеем христианский догмат, на другой
– необработанные природные материалы, а между ними – храм (скажем, Троицкий
собор Троице-Сергиевой Лавры), то становится совершенно очевидным, что
храмоздатель имеет своей первейшей установкой одухотворить материю, реконструировать
ее идеальное бытие в Боге, т.е. организовать ее в соответствии с Божественным
законом бытия в том виде, как он его понимает. С другой стороны, храм – это
«кусок» мира горнего на земле, и зиждется он из земных материалов. Естественно
предположить, что избираются те из них, характеристики которых наиболее
соответствуют духовному строю культа. Например, камень – предпочтительный
материал храмоздания. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному,
но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный», – говорит апостол Петр (I Пет. 2. 4–5), сопрягая свойство
живого духа с физической (и даже метафизической) сущностью камня. Материальные
свойства камня свидетельствуют прежде всего о таких нематериальных качествах,
как незыблемость, устойчивость, вневременность. Эти характеристики камня
конкретизируются и закрепляются, с одной стороны, самой архитектурной формой
(столп, стена), с другой стороны, фресковой живописью, отражающей в своих
сюжетах вневременные духовные твердыни. Таким образом, природные свойства
данного материала приобретают еще и духовную значимость. С другой стороны,
первейшее свойство Божественной благодати – это сила нарушать естественные
законы. И это – «парящие» в вышине светоносные каменные купола, «кружевная»
резьба на фасадах, превращение непроницаемой каменной плоскости стены в
пространственную среду обитания священных персонажей фресковой живописи. Все
это как бы легкие, без следов усилия благодатные преодоления природной косности
каменной массы. (С тех же позиций можно проанализировать и деревянный храм).
Характерно, что православное (в частности русское) зодчество не пошло по пути
«дематериализации» храмовой формы. Православная художественная мысль идет
скорее в противоположном направлении – «интенсификации» жизни материи через
активизацию ее собственных метафизических свойств.
Другой яркий
пример – применение золота в храмовом искусстве. Символическая нагрузка золота
в христианском искусстве хорошо известна – это свет Божественной благодати.
Концепция Божественного Света как творческой первопричины всего сущего, как
носителя Божественной информации и Истины – один из фундаментальных постулатов
христианской византийской догматики. Существовала отдельная иерархия света,
который весь благо: солнечный свет – духовный свет – «Фаворский свет». Видимый
свет доступен чувственному восприятию, духовный – восприятию «умными очами».
«Фаворский свет» – «исходящий» от самого Бога, по св. Григорию Паламе,
«превосходит всякое чувство и всякий ум». Свет очищает, просвещает и приводит
человеческую душу к совершенству. «Я свет миру», – сказал Христос. Вся система
освещения храма: расположение световых отверстий, их масштаб, размер и
конструкция, позволяющие искусно направлять и концентрировать природный свет в наиболее
священно-значимых местах, иерархия более или менее освещенных пространств,
наконец, система различных световых источников (солнце, паникадила, свечи,
лампады) – все это в сущности наглядная метафизическая картина
религиозно-мистической концепции Божественного Света в отличие от мирского
понимания света как внешней физической энергии. «Все бо являемое свет есть».
(Еф. 5. 13). Но если внутрь храма основной «световой материал» – солнечный
свет, приходит уже преображенный различными архитектурными средствами, то
снаружи стихия природного света господствует. В виде золотого покрытия купола
ей противопоставляется свет иной, символической природы, свет, как бы
проступающий изнутри храма. Два света, разной онтологической природы,
взаимодействуют, но не смешиваются. Уже на этих достаточно случайно выхваченных
примерах можно ощутить непосредственное присутствие метафизического смысла
храмовой формы. Насколько же более она должна являться на уровне целостных
архитектурных систем!
3.1.2.5.
Гуляницкий Н.Ф. Крестово-купольный храм Древней Руси
и греко-античная
традиция
(Архитектура мира. Запад–Восток:
взаимодействие традиций в архитектуре. –
М.: ВНИИТАГ,
1993, с. 165-172.)
Николай Федорович Гуляницкий (1928–1994) – доктор искусствознания,
профессор, многолетний сотрудник ВНИИТАГ, написавший множество работ по истории
архитектуры, в том числе русской, православной. В предлагаемой работе акцент в
символике храма делается не на основном его содержании, что объясняется
приверженностью автора к античной теме.
Формирование
крестово-купольного храма шло параллельно со сложным процессом догматического
освоения Боговоплощения, утверждением истинности человечества Иисуса Христа
через признание Его человеческой воли и действий, а затем и возможности Его
изображения. Этим вопросам посвящались Вселенские церковные Соборы V–VIII вв., а окончательное утверждение этих
важнейших догматов во многом определило многие формы дальнейшей жизни
христианского учения.
Почему-то
этот догмат, определяющий человеческую природу Основателя Церкви, далеко не
всегда учитывается исследователями при осмыслении архитектуры храмов, в
частности, его крестово-купольной разновидности. В связи с этим прежде чем
приступить к конкретным вопросам заявленной темы, придется кратко остановиться
на некоторых общих вопросах самого понимания храма, важного для уяснения
дальнейшего материала и заложенной в его анализ идеи.
Первый вопрос
– это символика крестово-купольного храма. Главная трудность, с которой
приходится сталкиваться по этому вопросу, заключается в двух пунктах: с одной
стороны, чрезмерная пестрота символического толкования христианского храма
вообще; с другой – почти полное отсутствие среди этих толкований особенностей
купольных структур, что ставит перед исследователем задачу собственной
интерпретации.
Вызывает
вопросы и сам подход к теме: исследователи при определении главных ориентиров в
выборе символических значений храма (в последнее время возобладала идея «храм
как образ мироздания»: труды Вагнера Г.К., Комеча А.И., Брунова Н.И. и др.)
часто не разделяют по степени церковного авторитета источники толкований, не
всегда основываются на словах самого Христа в Евангелиях, где есть прямые
ответы на вопрос о храме. В целом их можно свести к четырем смыслам: 1) храм – дом
Богоотца и Христа (Мк. 11. 17; Ин. 2.15); 2) храм – дом молитвы (Мк. 11. 17);
3) храм – Тело Христово (Ин. 2. 18–20); 4) храм – образ обоженного человека
(Лк. 17. 21).
Эти идейные
смыслы положены в основу изъяснений храма Максима Исповедника (VI–VII вв.) в его «Мистагории»:
«Православный храм... изображает... процесс очищения и возрождения во Христе
человека и всего творения в целом... Храму с древнейших времен усваивается
символическое значение Христа... и значение человека, спасающегося... во
Христе. В любом же из этих значений... присутствует понятие о Царствие Божием».
В этом ряде
других изъяснений храма в качестве его символа, наиважнейшего и
основополагающего, принято евангельское объяснение: храм – это Христос как
идеал обоженного человека.
Идея
обоженного человека признана в Византии сущностью первообраза. Происходит
особая актуализация применительно к храму слов Христа: «Царство Божие внутри
вас есть» (Лк. 17.21). Этой образной метафоре сопутствует идея известного
уподобления храма и человека, тело которого, по апостолу Павлу, «суть живущего
(в нем) Святого Духа, которого имеете вы все от Бога» (Кор.1.6,19).
В «первой и
наибольшей» заповеди Христа прочитывается как бы иерархия внутреннего
устройства человека, его «контактных сущностей»: сердце – душа – разум –
крепость. Применительно к антропогенным истокам образа храма этот ряд может
метафорически интерпретироваться как символическая зависимость его важнейших
компонентов: сердце – алтарь с престолом; душа – основное внутреннее
пространство (земное небо); разум – купольный центр (небо небес); крепость –
сила духовная и физическая, формирующая оболочку храма.
Аналогия
внутреннего пространства храма с душой человека неоднократно фиксируется в
сочинениях святых отцов. Признанные «столпы церкви» IX в. Иоанн Дамаскин и Федор Студит
особенно настойчиво восстанавливают человека как категорию и субъект образной
структуры храма в своем учении об образе и первообразе. Федор Студит,
основываясь на плотинском учении о душе – эйдосе, иллюстрирует суть теории
своим видением души храма: «Внешний вид здания – пишет он – если удалить камни,
и есть его внутренний эйдос», как бы конкретизируя таким образом положение И.
Дамаскина: «Всякий образ есть выявление и познание скрытого». А еще ранее у
Максима Исповедника мы находим: «...святая церковь Божия подобна человеку, имея
святилищем душу, божественный жертвенник – ум и храм – тело, и служа как бы
образом и подобием человека... И наоборот, человек есть в таинственном смысле –
церковь...». Наконец, сам Христос, говоря, «Когда молишься, войди в комнату
твою...» (Мф.6.5–6), поучал прежде всего о «пространстве души» человека, хотя и
второй смысл – физического пространства храма, здесь также не исключен.
Из сказанного
очевидно – антропогенность форм византийского храма качественно отличается от
античной антропоморфности. Не красота тела, а совершенство его души, внутренняя
красота, определяемая христианскими добродетелями, могут быть взяты за образец
и как-то идентифицированы в формах и символах храма. Отсюда и поиск
антропогенности прежде всего внутри храма, признание его «пространства – души»
в качестве основного объекта духовного совершенствования и следовательно
важнейшего компонента образной структуры. Внутреннее пространство
рассматривается в связи с этим не просто как физическая среда, необходимая для
определенных действ, но и как важная духовная субстанция, «обожение» которой,
как и для человека, означает путь и движение к совершенству – от Церкви земной
к Церкви небесной, от «Тела Христова», подвергшегося земным страстям, к Его
бесплотным «Горним Чертогам», где для души обоженного человека «нет болезни и
печали, ни воздыхания...» «Пространство – душа», символически возведенная
внутри храма в ранг всеобъемлющего «образа мира», свидетельствует о
нераздельности в христианском понимании микро- и макроуровней, мира отдельной
«личности – храма» и в нем «живущего Святого Духа» и мира вселенной, всего
божественного мироздания.
В этих
условиях обрело особые качества само физическое пространство храма как главное
средство и материал его структурирования. Эти качества порождались
многоаспектностью свойств и функций пространства в храме, не только
организующего и оформляющего его структуру, но и активно участвующего в
богослужебном действе, взаимодействующего со светом и цветовой композицией
интерьера, обретающего в тех или иных его зонах различную степень сакральности
и, наконец, изменяющегося в своей семантике, в зависимости от значений самих
храмовых форм, покрывающих их живописных сюжетов, динамичной смены
богослужебной символики в процессе различных литургических действ. Пространство
физическое, но лишенное видимой телесности, оказалось особенно привлекательным
для символического выражения метафизических сущностей христианского
миростроения – души, духа, горнего мира и т.п. Само пространство, как
философская категория, было отмечено особой печатью «божественного
произволения»; его трехмерность иногда связывалась с идеей триипостасности
Всевышнего.
Крестово-купольный
храм – это прежде всего особая пространственная структура, сочетающая в себе
основополагающую форму пространственного креста и ее завершение – купол над
средокрестием. Идея центрической композиции купола в его сочетании с
пространственным крестом, по-видимому, изначально явилась фундаментальной
смысловой основой поисков формы, приведших к различным ее структурным типам и
конструктивным вариантам. Эта идея с самого начала обрела известную автономию
по отношению к идее глубинного развития пространств, следующих в основном
богослужебной логике. Но одновременно она вносила свои элементы в
пространственное оформление литургических процессов, которые складывались и
канонизировались практически синхронно с развитием архитектурной системы. При
этом идея пространственного креста, как и купола, в строении храма не
привлекала особого внимания толкователей храма в святоотеческой литературе,
что, по всей вероятности, объясняется необязательным характером данной
трактовки структуры храма, воспринимавшейся ими не как канонический императив,
а скорее как освященная временем и Преданием церковная традиция.
Канонизировались
в основном формы, непосредственно связанные с богослужебными канонами,
совершением священных действ, таинств. В соответствии с «мерой сакрализации»
тех или иных зон храма устанавливалась строгость канона во внутреннем его
пространстве. В этом смысле особенно строго каноничен в храме алтарь с
престолом («святая святых») и жертвенником – главный пункт сакрального
притяжения. К нему идет путь «горнего восхождения» от западного (основного)
входа по глубинной оси развития храмового действа.
В
противоположность динамике этой оси ось купола статична: купол – центр
внутреннего пространства, являющий собой своего рода статический противовес
динамике действа. Отсюда два качества пространства: пространство «деятельное»
(в постоянном соприкосновении с человеком, ритуальным действом),
«созерцательное» пространство, «сверхпространство». Купол и крест становятся
образом, в котором, по выражению патриарха Фотия (IX в.), «преодолевается антитеза». Путь
«горнего восхождения», осуществляемый по горизонтали, получает новую
пространственную координату – вертикаль, символически связывающую храмовое
действо с реально видимым в действительности небом.
Но этот путь
восхождения и обожения – символ «страстного пути», искупительной жертвы
Спасителя, а для каждого верного христианина – это путь его собственного
просвещения, очищения и спасения посредством причастия к Телу Христову и как бы
повторения его жертвы в душе. Крест Распятия – идеальный образ Христа для
выражения этого «страстного (крестного) пути» в пространстве храма в процессе
его основного богослужебного действа – литургии. Предельная слитность формы с
идеей Христа и реальным храмовым действом, символизирующим таинственное
приобщение человека к Богу, – главное, что было достигнуто зодчими
крестово-купольных храмов в аспекте их максимального приближения формы к
содержательному идеалу.
Купол и его
подкупольное пространство в этой системе имеют свои задачи, которые следует
рассматривать двуедино: и как статический противовес динамике действ со своей
постоянной символикой, характером образа; и как существенный компонент этого
действа или во всяком случае как его дополнительное оформление и символическое
утверждение.
Первая его
«ипостась» обращена в сторону традиционной символики. Образ небесной сферы
издревле связывался с формой купола, и эта форма в основном сохранила подобное
же значение в христианском храме. Правда, уже не реально воспринимаемое, «небо
небес», т.е. невидимое Царство Божие прообразуется сферой купола, а его видимая
изнутри поверхность как бы показывает в миниатюре его обобщенный символический
образ. Христос-Вседержитель, обычно изображаемый в куполе, свидетельствует о
слиянии двух пространств – «неба небес» (в божественном небосводе) и «неба
земного» (в храме). Пространство, нанизанное на ось и предельно «сжатое» в
куполе, зрительно «опускается» в храм, как бы аккумулируясь в средокрестии и
рукавах креста.
Это
пространственное ядро, являя собой статичную центрическую структуру, обрело в
обшей системе храма определенную автономию. Его смысловая основа, освобожденная
до известной степени от непосредственной подчиненности закономерностям,
диктуемым особенностями богослужебной динамики, приобрела свой особый смысл
«иконы-символа», воспринимаемого и в литургическом действе, и в состоянии
статического покоя вне ритуальных функций. В нем ясно прочитываются
наиглавнейшие образы христианской символики, призванные к утверждению в
зрительном восприятии храма основополагающих догматов вероучения.
Связь купола
с храмовой литургикой с ранних пор основывалась на особенностях богослужебной
топографии. Все выходы на амвон, как правило, связывались с подкупольным
пространством, и уже в Софии Константинопольской амвон был далеко отодвинут от
алтаря в сторону подкупольной зоны. Среди различных богослужебных выходов
священства в храме особое литургическое значение имеет чтение Евангелия на
амвоне – кульминационный пункт средней части литургии («литургии оглашенных»).
Ее основной смысл заключается прежде всего в молитвенном очищении души через
евангельское просвещение, в умственном усвоении проповеди Христовой, ибо, по
словам Симеона Солунского, «Христос через проповедь победил мир». И если
вершиной всего литургического действа, осуществляемого в его основной части
(«литургии верных), является таинство Евхаристии в алтаре, то подкупольное
пространство как бы создает и по-своему оформляет храмовую среду по
вертикальной оси, в зоне произнесения Слова Божьего; действа, символизирующего
выход Христа и апостолов, проповедовавших Евангелие, в мир, к народам.
«Пространственный
столп» средокрестия образует своего рода «сень» над амвоном, а само
пространство здесь заряжено световой энергией, проникающей внутрь храма через
проемы купола или барабана. Световая среда подкупольной зоны придает особые
качества пространству: напитанное световой энергией, оно обретает и новые
содержательные смыслы, имеющие в христианской символике глубокую основу.
В
евангельском слове Христа «Я есть свет миру» (Ин. 9.5) подразумевается «Свет –
Истина»; высшее понимание мудрости на пути познания Света – Слова, просвещение
божественным Фаворским светом – энергией Триединого Божества. В последовании
литургии эти идеи буквально пронизывают весь богослужебный чин. «Идея Света
благодатного – одна из немногих основных идей всего богослужения...» –
свидетельствует П. Флоренский, имея в виду не только чин литургии, но и другие
церковные службы. Помимо чтения Евангелия, других выходов на амвон, проповедей,
произносимых с амвона, последний служит тем местом, где перед самым
евхаристическим каноном на литургии происходит через диакона особое духовное единение
всех присутствующих в храме (и прихожан, и духовенства) в их общем молитвенном
выражении гимна Премудрости – совместном пении Символа Веры после произносимого
диаконом на амвоне возгласа «премудростию вонмем». Итак, главный смысл Символа
Веры есть выражение догмата единосущия Троицы, «единосущие» и единомыслие всех
и в Боге и есть – по словам П. Флоренского – «премудрость».
Сам собой
напрашивается ответ на вопрос о ведущей символике купола и подкупольного
пространства в процессе храмового богослужения. Имея в виду последовательность
действ литургии и соответствующую им символику обожения человека в храме во
времени – «просвещение – очищение и спасение через причастие», достаточно
очевидно, что основной акцент делается на первом, просветительском аспекте –
таинственном выражении Премудрости Божьей в ее устремлении к Слову – Истине,
соборном единстве Церкви, основанном на единосущности Пресвятой Троицы. Видимый
в обрамлении круга свет – пространство создает образ Фаворского света
божественного просвещения и преображения, лучи которого ниспадают на молящихся.
Души людей должны быть встречно устремлены к молитвенному очищению от греха и к
преображению. И не зря в этой части храма преобладает и в живописной сюжетике
идея, связанная с евангельским просвещением (Евангелие в руках Вседержителя в
куполе, изображения апостолов в купольном барабане и четырех евангелистов – на
парусах и т. п.). Однако, как видно из вышесказанного, реальная символика
купола и подкупольного пространства значительно шире возможностей живописных
образов.
В связи со
сказанным возникает и еще один важный аспект содержательного истолкования
крестово-купольного храма, имевший большое значение и в становлении зодчества
Византии, и в период строительства первых древнерусских храмов, преемственно
развивавших византийские традиции. Речь идет о влиянии на символику и образ
храма культа Софии, которой был посвящен, как известно, и главный храм Византии
в Константинополе, и первые каменные соборы Древней Руси (в Киеве, Новгороде и
Полоцке).
Уже коснувшись
Премудрости как философского идеала во Христе, важного для понимания сущности
крестово-купольного храма, следует отметить укорененность этого идеала в
греческую античность; в Логос, божественно-образным выражением которого была
Афина. Значение восточно-христианской Софии – олицетворения Христа –
Премудрости отражено в патристике. Однако в дальнейшем в русской интерпретации
эта идея-культ претерпела существенные изменения, приобретая в сравнении с
Византией более «социальный» и более «женственный» характер. Владимир Соловьев,
исследовавший суть и развитие культа Софии, установивший, что «русский народ
дал этой идее иное новое выражение» трех воплощений – «Святой Девы, Христа и
Церкви», отметил и новое качество софистического видения обоженного мира: «совершенная
женщина или обоготворенная природа, совершенный муж или человеко-Бог и
совершенное общество, как совершенное общение Бога с людьми – вот окончательное
воплощение вечной Премудрости».
Предельно
расширив значение Софии в богостроительном творчестве, он уподобил ее высшим
сущностям и энергиям: София, по В. Соловьеву, не только идеальная личность
твари, но и «Субстанция Пресвятой Троицы», покрывающая и все совершенствующееся
человечество. «Это великое, царственное и женственное существо, которое не будучи
Богом, ни вечным Сыном Божиим, ни ангелом, ни святым человеком, принимает
почитание и от завершителя Ветхого Завета и от родоначальницы Нового; кто же
оно, как не самое истинное, чистое и полное человечество, высшая и
всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во
временном процессе соединяющая с Божеством и соединяющая с Ним все, что есть».
«София – это
Память Божия», – отвечает на этот же вопрос П. Флоренский, который также отдал
дань проблеме софийности, посвятив ей один из разделов своего главного
богословского труда. «София, – по убеждению П. Флоренского, – эта истинная
тварь или тварь во Истине, – является предварительно как намек на
преображенный, одухотворенный мир, как незримое для других явление горнего в
дольнем». Подчеркивая синкретический характер культа Софии, ученый особенно
отметил его многоаспектность: «В то время как для одних исследователей София
есть Слово Божие или даже Пресв. Троица, другие видят в Ней Богородицу, третьи
– олицетворение Девства Ее, четвертые – Церковь и святые– совокупное
человечество...». Как основные аспекты, вслед за В. Соловьевым, он выделил три:
Слово (Христос), «Приснодевство» (Богородица) и Церковь земную в ее
неотъемлемости от Церкви Небесной, проиллюстрировав свою концепцию на историческом
(литературном и иконографическом) материале и показав при этом историчность
развития самого культа. «София в понимании греков, – по преимуществу предмет
созерцания (Слова. – Н.Г.). – Наши же предки, восприняв от Византии готовые
догматические формулы, прилепились душою к подвигу и к непорочности, возлюбили
чистоту и святость отдельной души. И тогда София повернулась к их сознанию
другой своей гранью – аспектом целомудрия и девственности, аспектом духовного
совершенства и внутренней красоты». Идеалом всех этих совершенств в тварном
мире была «приснодевственность» Богородицы. Но Ее следует считать и
олицетворением Церкви земной, главой ее апостольского служения после Христова
Вознесения. В христианской иконографии уже в раннем периоде Византии существовал
образ «Оранты» в виде Марии с воздетыми вверх руками, который, как и образ Ее в
сценах Вознесения, символизировал Церковь на земле, что можно считать, хотя и
неполной, но вполне убедительной зрительной реализацией этого важнейшего
символа.
Все это надо
учитывать при осмыслении образа крестово-купольных храмов, пришедших на Русь из
Византии и получивших здесь новую интерпретацию. Особенно важно прочувствовать
преломление этих идей в главном соборе – Софии Киевской, «матери» и,
безусловно, важнейшего образца древнерусского храмостроения, как и всего
устроения христианской Церкви в недавно обретших ее землях Киевской Руси. И как
невозможно представить себе Парфенон (да, пожалуй, и всю древнегреческую
ордерную классику) без идеи – образа Афины, ее «премудрой воли», ведущей к
высотам гармонии и красоты, так и Премудрость – София явилась божественной
созидательной силой храмостроительного творчества, воплощением в его эндосе
Совершенного на основе пространственных форм, испытанных и освященных традиций.
Образ Софии
Киевской, столь непохожий на все, что ему предшествовало в византийском
зодчестве, отмечен и новыми символами в композиции, раскрывающими, помимо
прочего, «триипостасность» русского варианта Софии: Христос – Церковь –
Богородица. Центричность и ярусность общей структуры подчеркивают (особенно во
внешних объемах) главенствующую в ней роль большого купола – символа
воплотившегося в Христе Слова, а окружающие большой купол двенадцать средних и
малых глав свидетельствуют о первейшей проповеди земной Церкви в лице Христа и
его ближайших апостолов. Четкая иерархичность объемной композиции указывает
также на основополагающий структурный принцип Церкви, построенной на
канонически четкой соподчиненности небесных сил и земных степеней священства.
Наконец, пять апсид – алтарей, посвященных, помимо Софии, Петру-апостолу
(«камню веры»), святым прародителям Иоакиму и Анне, а также христианским
патронам строителей храма Ярослава и его жены, также по-своему символизируют
земную Церковь в диапазоне ее утвердителей от отца и матери Богородицы,
апостола Петра до великих князей Киевских.
Что же
касается «приснодевства» Богородицы, то этот символ Софии – Премудрости
наглядно раскрывается в интерьере Киевского собора, в главной апсиде, конха
которой занята крупным изображением Богоматери – Оранты. Этот образ несет в
себе и символ Церкви на земле, и покровительство неба, и при-снодевственную
чистоту Марии, возглавившей земную Церковь (см. выше). В главном же это
изображение охарактеризовано как всеобъемлющий «образ Церкви, конкретно данный
в образе Марии». А по мнению ряда исследователей (Крыжановского и др.),
«Нерушимая стена» (Оранта) в Киеве – есть «изображение невещественного дома
Софии Премудрости Божией».
Став
безусловным центром монументальных мозаичных изображений, Оранта внесла новый
смысл и акценты в композицию пространств. Ее форма с самой крупной по высоте
фигурой на внутренней сфере апсиды-полукупола, замыкающего глубинную ось, стала
и смысловым, и композиционным продолжением центрального купола: их роднят и общая
сферическая форма поверхностей, и близкие размеры сфер в диаметре, и
«светоносность» золотой мозаики, и ключевое расположение в структуре
пространств. Однако в общем строе мозаичной живописи и ее сюжетике очевидно
стремление визуально подчинить ее изображению Оранты, сосредоточить на
Богоматери главное внимание. Характерно «дробление» полусферы купола почти
равными по величине изображениями Вседержителя и четырех херувимов, а также
включение в пространственное окружение Оранты многочисленных малых изображений,
подчеркивающих своим размером крупный масштаб и величие Богоматери. Круглая
форма многих из них повторяет кольцо купола и круг обрамления Вседержителя; и
при этом, они как бы вторят форме главного изображения, контур которого
(особенно при восприятии Оранты снизу) также тяготеет к центричности, очертанию
круга. В общем прочтении мозаической живописи средокрестия наблюдается своего
рода «иконный» строй, развивающийся, однако, не в плоскости, а в пространстве,
и многим напоминающий композицию древних икон софийского цикла, включающего ряд
схожих иконографических типов (ангела, креста и др.), в том числе и развившийся
в Киеве тип Софии – Богородицы.
В
пространственной «иконе» Софии Киевской Приснодевственная Мария молитвенно
предстоит в сиянии золотого света перед Всевышним в заступничестве за христиан;
воздетые руки Ее направлены в сторону главной высотной оси, Вседержителя, и эта
тема поддержана Деисусом трех медальонов, расположенных над головой Богородицы.
Оранта как образ Церкви земной разработана наиболее представительно.
Богородица,
как бы все видящая и объединяющая, одновременно соединяет в пространстве два
главных иконографических комплекса, символизирующих две основные части литургии
– просвещение (преображение) и Евхаристию. Соответственно размещены и «столпы
Церкви» в куполе и на парусах – апостолы; в нижнем ряду апсиды – святительский
чин.
Наконец,
Оранта с фланкирующими Ее по сторонам двумя фигурами Благовещения составляет
еще один, но уже чисто «богородичный» аспект разработки софийной темы, являвшийся
в этом храме едва ли не определяющим в идейном и литургическом плане. Если в
Софии Константинопольской храмовым праздником было, видимо, Рождество Христово,
то в главном соборе Киева София праздновалась в день Рождества Богородицы; в
последующем на Руси стало традицией в храмах Софии, строившихся в разных
городах, отмечать храмовый праздник в день Рождества или Успения Богоматери. В
богослужебный канон праздника Софии вошло многое из богородичных, особенно из
Успенской, служб. С развитием культа Софии связано, безусловно, и столь часто
встречавшееся с древних пор на Руси освящение храмов во имя Богородицы,
особенно Ее Успения, синтезировавшего в себе важнейшие идеи богородичного
культа.
Культ Покрова
Богородицы во Владимире, особенно внедрявшийся Андреем Боголюб-ским в XII в., неотъемлем от этого общего нового
восприятия идеи Софии на Руси, что подтверждают древние богослужебные тексты к
празднику Покрова (особенно стихира) развитие русской иконографии праздника, да
и «икона – образ» самой церкви, построенной на Руси впервые в честь Покрова
Богородицы. Наличие женственного начала в этом образе особенно ощущается при
сравнении с аналогичным (построенным через 30 лет во Владимире) Дмитровским
храмом, так же как и с возведенными всего лишь за несколько лет храмами
Спаса-Преображения в Переславле-Залесском и Бориса и Глеба в Кидекше.
Главное же –
синкретический культ Софии на Руси безусловно способствовал, как и в Византии,
стремлению к гармонической завершенности композиции на основе
крестово-купольной структуры, к ее центричности и развитию «пространственного
столпа» как структурной основы. Преодоление «антитезы» осей – глубинной и
высотной – идет путем все большего сосредоточения в подкупольной зоне
сакральных действ, включения в них пространства средокрестия.
Византия и
Русь XI–XII вв. идут в этом направлении и сходными и различными путями. Сходный путь
– главным образом в развитии канонического богослужения, усиливающего
значимость подкупольной зоны как пространства Слова. К этому времени относится:
окончательное сложение средней части литургии («оглашенных») с акцентом на
просветительной сути действа с чтением Евангелия под куполом на амвоне, с
установлением здесь архиерейского места для одевания (пришествие Христа на
проповедь в мир), с отметкой по оси купола «меры среди храма» и т.п.
Различия в
путях Византии и Руси проявились более всего в пространственном истолковании
сакральных связей храма с его символикой и каноническим богослужением. Самые
существенные из них сказались и в структурных изменениях.
В отличие от
Византии, где притвор (символ земли) остается важной составной частью храма, на
Руси все более дает о себе знать тенденция к отказу от него и перенесению
соответствующих богослужебных процедур в западную часть храма, в пространство
под хорами. Трудность преодоления базиликальности (строительство во Владимире –
Успенский собор и церковь Покрова на Нерли) во многом связана именно с этим. С
литургической и символической «нагрузкой» на западный поперечный неф
увеличивается и роль центральной зоны.
Хотя купол и
в Византии, и на Руси всячески выявлен как символ небесного Света с
соответствующей организацией светового пространства, в русском храмостроении –
сильнее, чем в Византии, чувствуется тенденция к сакрализации купола и более
активному использованию этой формы как символа многозначного. В этом же можно
видеть все большее утверждение в его пространственном восприятии идеи
«первосвета», описанного Дионисием «светодаяния», как посредника между
трансцендентным и имманентным.
В Византии
главнейший символ Слова и Тела Христова (купол и крест) в основной тенденции
получил предельно прямое выражение в объемно-пространственной структуре.
Введение внутри четырех колонн обеспечило еще большую интеграцию пространства
креста; снаружи – выявленные в объемах крест с куполом также максимально
интегрированы и обобщены в членениях. На Руси возобладала иная концепция,
антропогенная, суть которой была предвосхищена словами Максима Исповедника:
«Храм – образ Божества и как таковой соединяет в себе множественность человеческих
существ». Отсюда множественность пространственных ячеек и их дифференциация; не
столь контрастно выраженная иерархия; большее внимание храму в целом, а не
только пространственному кресту с куполом. Это, естественно, отразилось и на
структуре пластического образа внутри и снаружи.
В конкретном
своем преломлении на Руси идея человека достаточно очевидна также в поиске
идеальных структур и наряду с этим – в придании им определенных черт
индивидуальности, но в строгих пределах видения только возвышенного, поиска
совершенной гармонии.
Здесь
безусловно также есть определенное сходство с древними греческими идеалами.
Аналогичное родство можно усмотреть и в особой заботе русских о рационализации
архитектурного канона, предельной ясности структуры и максимальной
прочитываемости ее во внутренних и внешних формах.
В отличие от
византийских ведущих систем – храма-купола на 4 колоннах и купола, опирающегося
на 8 точек, – русская крестово-купольная структура – это система пересекающихся
стен с пучками пилястр, окружающих столп, и выступами-пилястрами на внешних
стенах. Подпружные арки – это по существу проемы, как бы вырезанные в стенах, а
кресчатые в сечении столбы – повторение в миниатюре основного пространственного
символа. При всем этом внутри почти полная «оголенность» конструкций. Особой
заботой зодчих XI–XII вв. всегда было как бы продолжение наружу стен и запечатление на фасадах
их образов в пластике (подобно тому, как это делалось в деревянных срубах).
Такими же
образами внутренних сводчатых конструкций стали закомары, которые в русских
храмах чаще всего отражали на всех фасадах примерно равновеликую по высоте
систему аркад на основе периптерального принципа. Это стремление к целостности
всего блока храма с выделением в нем уширенных арок пространственного креста
«на равных» с другими особенно отличало русский храм от византийского.
В этом
сказалось и характерно русское выражение в пластике идеала разумного или, лучше
сказать, премудрости как идеи формы «окрыленной кругом» (выражение А.
Палладио); формы, приближающейся по своим качествам к символу премудрости –
ротонде купола, пространственная энергия которого как бы распространяется на
все здание.
Конкретные
пути древнерусской интерпретации византийских идей и форм проявились
по-разному, как в самом Киеве, так и особенно в местных школах Киевской Руси.
Все они заслуживают специального анализа. Мы же коснемся лишь зодчества
владимиро-суздальского княжества, наиболее перспективного наследника киевских
традиций, сосредоточив главное внимание на его лучшем памятнике – церкви
Покрова на Нерли. Все вышесказанное о символике и основных свойствах
древнерусского крестово-купольного храма в полной мере воплотила Покровская
церковь, и уже одно это дает основание говорить о ней как об образе обобщения
опыта и традиций.
Главное ее
скульптурное изображение царя Давида-псалмопевца, повторенное на трех фасадах,
– характерный в этом отношении символ и напоминание. Как известно, псалмы
Давида (псалтирь) – наиглавнейшая книга премудрости дохристианского времени,
связавшая воедино Ветхий и Новый Заветы. И будучи рано канонизированной, она
составила важнейшую часть и православного и католического богослужений. Пророк
Христа, Богоматери и Триединства Бога, праотец Христа по «роду Адамову», Давид
в христианском сознании стал поистине поэтической душой Церкви в ее
историческом и вселенском понимании. Женские маски в основании барельефных
композиций, опоясывающие храм по периметру, можно вполне трактовать как символы
женственного начала Премудрости, ее богородичного воплощения в храме, воспеваемого
первоверховным сладкопевцем «во имя языцы и вся времена».
Эта идея
вселенского единения Церкви была особенно актуальна в XII в., когда христианский мир вдруг
осознал и реально почувствовал роковые для Церкви последствия ее раскола на
Западную и Восточную (при догматической ее неделимости как Тела Христова);
раскола, зревшего несколько веков, но происшедшего окончательно и оформившегося
лишь во второй половине XI в. Центральная Русь, имевшая связи и с Византией, и с Европой, являла
собой культурное поле, где сталкивались идеи греков и латинян.
Говорить о
влияниях романской архитектуры на владимиро-суздальские постройки давно стало
общим местом исследований, хотя еще мало кто глубоко вник в эту тему и тем
более привел что-нибудь близкое на романском Западе русским храмам по общей
образной структуре. Сходство некоторых деталей и приемов очевидно. Но очевидно
и то, что в том же храме Покрова почти нет деталей, которые не имели бы и в
византийском зодчестве своих корней. А главное, по-видимому, дело не в самих
деталях, а в их конкретном контексте образной выразительности, в их особой
построенности в целое, заключающее в себе (помимо прочего) и определенные
ассоциации с латино-христианской образностью. Не менее важен и временной аспект
в самой логике подбора деталей и приемов.
Если
внимательно всмотреться в набор примененных здесь аркатур, порталов, колонок и
другой пластики, то можно заметить своего рода выставку наиболее характерных
форм пластического декора, исторически развивавшегося из античной ордерной
структуры – аркады на колоннах. Сама же аркада здесь представлена в подчеркнуто
декоративном исполнении, но в почти полном составе, как выставленный на показ
аркатурный пояс, как убедительный символ и образ первоисточника. Весь остальной
пластический декор – производное от этой темы, сформированное в долгом процессе
постантичного приспособления ордера к стеновой тектонике, возобладавшей в эпоху
Средневековья.
Но
историческая углубленность в традицию здесь измеряется не столько декором и не
на основе только романских аналогий, а прежде всего соотносимостью памятника с
греческими образцами – византийскими и более древними. Но сначала сравним его с
непосредственными предшественниками во Владимиро-Суздальской земле.
Построенные
за несколько лет до Покровской церкви храмы в Переяславле и Кидекше
предвосхищают ее буквально во всем, кроме относительного богатства ее
декоративной пластики. Если все стены церкви Покрова освободить от этой
«накладной» и «вставной» пластики, то можно увидеть храм, очень схожий с ними.
Получим тот тип образа, в котором особенно очевиден рационализм метода,
подчеркнуто чуждого конструктивно не оправданному декору (ср. с Нередицкой
церковью в Новгороде).
Обращаясь
теперь к храмам Греции XI– XII вв., мы часто также можем наблюдать аналогичное стремление к выражению
внешнего образа рациональным способом, т.е. средствами тектонических форм и
«структурной» пластики, в основном без привлечения декора; исключение обычно
составляют главы (церкви в Афинах – Апостолов (нач. XI в.), Феодоров (сер. XI в.), Капникарея (сер. XI в.). Выраженный в объемах снаружи
основной крест храмов ограничен плоскими стенами без лопаток и заглублений,
отвечающих внутренним сводам.
Одновременно
в Греции существует и другая линия – тенденция относительно богатого насыщения
фасадов пластикой, но не путем накладного декора, а почти исключительно за счет
утонения стен и устройства в них арочных уступов, – прием, вполне
соответствующий языку форм, выражающих тектонику стены. В церкви Богородицы в
Салониках (1028) плоские грани объемов афинских храмов превращаются в
многоплоскостную и динамичную поверхность. Но динамика здесь локализована и
направлена в глубь стены в пределах исходного структурообразующего элемента,
определяемого арочным проемом или торцом свода основного креста. В пластическом
образе здесь по существу вся динамика направлена внутрь храма, но организована
на основе строго упорядоченной системы сводов и проемов. Метафорически
уподобляя структуру некоему организму, можно представить себе внутри храма
«энергетический магнит», который затягивает пространство, а уступчатые арки
дают наглядный образ этого движения как бы сквозь стены, через проемы.
Возвращаясь
теперь к храмам в Переяславле, Кидекше, а также к Покровской церкви (обнаженной
от декора), видим развитие этого же принципа, но уже применительно к
древнерусскому типу закомарного храма, – с уступчатыми арками во всю высоту
здания, с более точно выверенной структурой фасадов по отношению к
конструктивной основе. В сравнении с храмами Переяславля и Кидекши этот пластически
конструктивный арочный рельеф церкви Покрова выражен еще более ярко и
многогранно. Пластический образ храма (даже если его представить себе без
декора) выглядит, хотя и сурово, но тектонически безукоризненно. В его
пуритански чистом рационализме основной формы уже просматриваются черты
гармонии и одухотворенности, приближающие этот образ к его древнейшему
первоисточнику – греческой классике.
Но прежде чем
укорениться в образы античности, важно, хотя бы бегло, посмотреть, как в самой
Греции XII в. интерпретировался образ своей классики. Так, в афинской Малой
Митрополии, построенной целиком из мраморных квадров, эта связь проявилась
особенно характерно и очевидно. При всей последовательности выражения в этом
небольшом храмике традиций крестово-купольной композиции, общий строй и
характер ее форм безусловно укоренены в античную эпоху с их четкостью и
выверенностью стен, с любовно обыгранной в типично древней манере системой
мраморных блоков, некоторые из которых покрыты скульптурной пластикой, с их целостностью
объемов и зримо ощутимой ордерностью, хотя последняя и не представлена здесь в
своем классическом обличье. Чтобы наглядно прочувствовать эту связь храма с
греко-античной традицией достаточно вспомнить хотя бы такой классический
образец, как Башню Ветров в Афинах с ее господствующим в композиции стеновым
объемом. Преемственность очевидна не в типе композиции, а в ее образном
ощущении, в ассоциации средств достижения пластического образа при качественно
различных порою структурных принципах, типах формы.
В этом же
смысле возможна и аналогия с греческой классикой древнерусских
крестово-купольных структур и образов, в частности пластического образа
рассматриваемой нами церкви Покрова на Нерли.
Редкая на
Руси кладка владимирских храмов из тесаных квадров белого камня сама по себе
уже определенным образом сблизила Покровскую церковь с античными примерами,
способствовала ощущению материи, допускающей сочетание геометрически точно
смоделированной структуры с утонченной пластикой. Но главную общность материально-формального
свойства следует все же видеть в работе над универсальными храмовыми
структурами, в стремлении, пусть по-разному, но отразить в относительно схожих
формах и структурах образ и содержание человека; в поиске в каждом случае
своего ордера, соотносимого с человеком и соответственно структурирующего
образный строй храма в целом.
Прежде всего,
надо сказать об ордере стены, который в нашем случае является основополагающим
для образной структуры.
Н.И. Брунову
принадлежит мысль о макро- и микроуровнях «периптерального» мышления греческих
зодчих, благодаря которому обеспечивается исключительное единство периптера.
Речь идет о подобии образа дорической колонны образу всей периптеральной
структуры с их неким энергетическим центром внутри того и другого тела, от
которого «токи» идут вовне, образуя на макроуровне – саму круговую колоннаду, а
на микроуровне – вертикали ребер и каннелюр колонн, взаимодействующих с
окружающим пространством, наподобие колоннады в периптере. При этом образно
выраженная устойчивость колонны неотделима от устойчивости и покоя всего
периптера, а голова колонны – капитель метафорически уподобляется всей
покоящейся на колоннах верхней части периптера.
Эта мысль о
своего рода ступенчатом образном подобии, идущем от целого внутрь системы (в
соответствии с известным принципом матрешки), важна и для понимания образной
структуры нашего храма при всех его внешних и внутренних отличиях от античного.
Особенность
нашей ступенчатой, концентрической структуры, в отличие от античной, – прежде
всего в ее органическом внедрении в саму стену, слиянии с ней. Арочные уступы
как бы наращивают массу пилястр, архивольта, соответственно облегчая стену, на
которой арочные членения, будучи «вставленными» одно в другое, уподобляются
друг другу. При этом их формы не замыкаются внизу: они все воспринимаются как
арки, а не как рамки. Таким образом, внутренняя конструктивная структура,
отображенная в тектоническом строе здания на фасадах, порождает и в самой стене
определенный порядок (ордер), характер зависимости друг от друга членений по
принципу «арка в арке», при определяющей роли в ней основных подзакомарных
арок.
Эта система
столь же логична для здания, в котором внутренний энергетический центр
«стягивает» к себе пространственные токи, как и логична в Греции свободно
стоящая на периферии ордерная колоннада для структуры периптера, в котором
статуя божества и внутренние архитектурные объемы – по словам Н.И. Брунова –
как бы излучают во все стороны пространственные оси, в котором «вектор энергии»
божества неотделим от массовости и открытости образа, с антропогенным слиянием
в нем очеловеченных в плоти образов скульптуры и архитектуры.
Иной поворот
антропологии в архитектурных формах оказался возможным для христианского храма,
где главное – его божественная душа (земное небо) внутри церкви. И именно к
этой особо сакральной субстанции – оформленному пространству устремлена
окружающая здание стихия, в образе храма преображающаяся в плод божественного
разума, высшим земным созданием которого явился не только храм, но и человек,
постоянно стремящийся к Свету, к храму. И вот этот причастный к Свету
«обоженный» человек (в идеале Богочеловек) только и может быть в принципе
прообразом «телесного храма» (а следовательно, и храма реального),
неотъемлемого от основополагающей идеи христианской антропологии: «Царство
Божие внутри вас есть» (Лк. 17. 21).
В церкви
Покрова на Нерли эта «телесная крепость» обозначается вполне античными
методами, если иметь в виду все сказанное о внутреннем центре притяжения храма
и христианском понимании антропоморфизма. К тому же предельная собранность
периптерального строя вокруг оси купола придает последнему особое значение в
композиции. Это ее как бы просветленная глава, в которой материализован разум
обоженного человека, а сказанное ранее о символическом воплощении в зоне купола
софистического ядра образа «земного неба» невольно также напоминает о Греции, о
подспудном стремлении в древнегреческой архитектуре идейно осмыслить и
активизировать форму круглого периптера (фолоса); стремлении, нашедшем свое
разрешение лишь в эллинистический период и римской античности.
Здесь же эта
извечная идея сочетать форму периптера с круглой ротондой в единой центрической
композиции (с объединяющей их вертикальной осью) получила впервые в
восточноевропейском Средневековье столь яркое и столь осмысленное воплощение. А
подготавливалось это достижение всем ходом развития на Руси в XI–XII вв. крестово-купольного храма.
Качественное
отличие Покровской церкви от ее предшественниц на Руси заключается прежде всего
в углублении и обогащении пластического образа храма средствами, во многом
созвучными античности. И образ периптера, как «живое чувство материи» и
идеального порядка, и образ его колонны, как ощущение силы
устойчиво-напряженного человеческого организма, и образ особой целостности и
разумной законченности форм как тонкого проникновения в структурообразующие
законы самой природы – все это явственно просматривается в храме, хотя и не все
эти «языческие» приметы созвучны нормам ортодоксальной средневековой эстетики. Поистине
по-античному здесь выражена в пластике «больших форм» устойчивость основного
тела здания с его облегчением кверху, как за счет зримого реального утонения
стен в верхней части, так и путем подчеркнутого контраста гладкого и массивного
низа богато профилированному верху объема. Не менее по-античному проведена
здесь гармонизация основных и нюансовых соотношений, причем во всем
чувствуется, что главной заботой зодчего было стремление придать зданию в целом
необходимую однородность, стройность и напряженность, выразив вертикализм
«столпа», но не нарушив при этом общей гармонии и изящества композиции (близкая
задача стояла перед авторами Парфенона).
Впрочем, о
напряженности в образе храма здесь можно говорить с большой условностью, так
как одно из главных отличий образной системы храма с его арочными формами от
системы греческого периптера как раз и состоит в том, что она бесконфликтна.
Все вертикали фасадов мягко переходят друг в друга благодаря арочным
завершениям, в то время как в греческом ордере напряженное столкновение несущих
и несомых частей, вертикалей и горизонталей составляет суть его образного
драматизма. В русском храме запечатлелись идеи, связанные с особенностями
христианской эстетики, идеалы которой не допускают «борьбы страстей», но,
напротив, нацелены на их преодоление.
Анализ
декоративного материала церкви показывает, что он исключительно однороден по
своей тектонической природе: в основе его лежит структура колончатой арки с
особенно трансформированной колонной, вытянутой порою в своих пропорциях до
формы «жгута-тяги», – то ограниченной по высоте базой и капителью, то
изгибающейся по дуге и затем ниспадающей вниз двумя вертикалями. В целом же
весь этот (ордерный) декор представляет собой открытую систему, развивающуюся
по своим масштабно тектоническим закономерностям на основе принципа: чем
крупнее по своим размерам форма, тем она более дифференцирована сама по себе и
удалена от прототипа, если принять за последний полный состав форм аркады на
колоннах.
В наиболее
полном и относительно законченном виде этот ордерный прототип представлен, как
уже говорилось, в аркатурном поясе барабана и основного объема, т.е. в самом
малом по величине декоративном воспроизведении арочно-колончатой системы. Новый
тип конструирования декора этой системы представлен в порталах входных проемов.
Здесь над каждой из пар колонок уже не стена опирается на капители, а круглая в
сечении арка – тяга, вполне автономная по отношению к стене и конструкции
портала. Она является продолжением колонок, а их полному слиянию препятствуют
лишь капители.
В следующем
типе системы это препятствие (как и опорный элемент – база) преодолевается;
появляется тот однородный по своему составу вид арки – «жгута», которая
заполняет внутренние углы уступов стен, а также включена в состав уступчатых
обрамлений и окон. Здесь, как мы видим, уже не осталось и следа от классической
ордерности с ее обязательным делением на опору и несомую часть; но эта форма –
логическое звено в выявляемой нами новой «ордерности», характерной для данной
церкви Покрова и построек ее круга.
Пластика
апсид, отличающаяся повышенной интенсивностью, сочетает в себе черты всех трех
типов системы декорирования с преобладанием вытянутых колонок – тяг во всю
высоту их объемов.
Наконец, в
основных и самых крупных по величине членениях храма колонка апсид (с базой и
капителью) как бы освобождается из плена связывающего ее аркатурного пояса. Она
заявляет о себе как об особой форме, метафоре, независимой от традиционной
ордерности декора, символизируя полное его подчинение структурообразующей
основе данной кресто-во-купольной композиции. Обогащая пластику
основополагающих конструктивных устоев, колонны всем своим видом показывают
собственную непричастность к утилитарному обеспечению структуры, подчеркнуто
демонстрируют неспособность взять на себя какие-либо функции в этом отношении.
Но они вместе с тем – существенные знаки; точнее – образные метафоры,
говорящие, как о заложенных в данное здание конструктивных принципах, так и о
природе новой ордерности декора. И что особенно примечательно, они в
совокупности со всей пластической системой храма служат важным и постоянным
напоминанием об античности в ее последующем качественном развитии, исторически
преображавшейся по мере внедрения ордерной системы в иные тектонические
структуры – стену и арочно-сводчатые конструкции.
Особенно
интересны в этой связи вынесенные вперед (по отношению ко всему зданию)
свободно стоящие колонны с упругой базой и тонко вырезанными капителями. В
контексте развития всей тектонической логики формирования внешней пластики
изнутри – это ее образная кульминация. Тема классической колонны, хотя и
трактованная здесь чисто изобразительно, символична как образ, ассоциирующийся
с древностью, временем, когда колонна была объектом особого внимания и
почитания. Вместе с тем это не вновь придуманный прием: это логическое развитие
и обобщение широко известных в Средневековье колончатых форм. Но в данной
структуре ему приданы особая роль и значимость, собственная символика и
характерное тектоническое истолкование. Помимо собственного знакового смысла
она вместе с другими колоннами, в совокупности всей композиции, подчеркивает и
лишний раз символически утверждает периптериальную основу храма.
Колоннами и
аркатурами по существу исчерпывается накладной декор, так как арочные формы
декора в пряслах стен, окнах и порталах правильнее называть вставными,
поскольку они как бы вставлены во внутренние углы ступенчатых профилей стен.
Они призваны пластически подтвердить и приумножить качества, приданные форме в
процессе ее рационального упорядочения, исходящего почти исключительно из
функционально-типологических и тектонических условий. Художественный эффект
вставных арок трудно переоценить, хотя их профиль отличается простотой и
повторяемостью. И при этом они ни в какой мере не нарушают изначальные
качества, заложенные в конструктивном строении. Они придают очертаниям форм
более сложную фигуру, мягкость и изящество, а стене динамику и пространственную
глубину. Они позволяют зрительно облегчить стену, разнообразя ее пропорции и
пластический строй. Посредством их вся материя храма динамически оживляется,
усиливаются, где необходимо, пластические акценты, а объем в целом приобретает
черты скульптурности. И конструктивно значимые формы, и декоративная пластика,
и рельефы – все сливается воедино, все нашло свое место, друг с другом
соединено, органично и неразъемлемо.
И это ли не
подтверждение нитей, связывающих наш храм с древнегреческой традицией, где
всегда господствовало пластическое видение формы, умение добиваться многого в
рамках канона, не жертвуя тектонической правдой, при постоянном чувстве живого,
законченного, и в основе своей антропогенного организма?
3.1.2.6.
Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры
(М.: Искусствознание, 2000, с.
104-107; 142-148; 262-269.)
Василий Павлович
Зубов (1900–1963) ученый-энциклопедист, труды по истории науки и архитектуры
которого получили мировое признание. В.П. Зубов известен и как блистательный
переводчик и комментатор архитектурных и других трактатов Византии, Западного
Средневековья и Ренессанса. Монографии сопровождают тексты византийских и
западноевропейских писателей и архитекторов.
Павел Силенциарий и его стихотворное описание
Константинопольской Софии
Ко времени
Юстиниана относится описание Константинопольской Софии. Оно написано
гекзаметром и принадлежит Павлу Силенциарию.
Павел
описывает строительство храма, обвал первого купола и особенно подробно –
окончательный вид Софии ко времени ее вторичного освящения в 563 году. Как и у
Прокопия, в стихотворении мы встречаемся с геометрическими схемами, своего рода
слагаемыми, образующими целое: «четвертая часть сферы», «полуцилиндр» и т.д. Но
эта геометрия, как и у Прокопия, соединена с описанием конструкции и с
раскрытием конструктивной логики.
Всмотримся в
текст, относящийся к центральной части храма. Описав, подобно Про-копию, мощные
пилоны, поэт переходит к необъятным аркам, которые он уподобляет дугам
многоцветных радуг. Каждая из них находит опору в общей точке, где она
соединяется с соседней аркой для того, чтобы потом опять с ней разлучиться и подняться
ввысь, по плавному пути, все дальше уходя от той, с которой она была раньше
близка. Промежутки между арками украшены дивными произведениями, ибо там, где
арки, по предписанию искусства, разлучаясь друг с другом, образовали бы пустое
пространство, – там в виде треугольника склоняется стена, насколько нужно для
того, чтобы соединить эти арки, здесь и там, в единый круг – в виде венка.
Арки сложены
из обожженного кирпича. Верхний венец – из твердого камня. В швах проложены
пластинки более мягкого свинца, чтобы камень, располагаясь твердыми рядами, не
треснул от сочетания твердого с твердым и от нагруженности тяжелого тяжелым, –
на свинце он покоится как на более мягкой постели, давя на основание. Кругом –
там, где все арки полушария своими пятами прикасаются к последнему из кругов, –
проходит каменный карниз. Этот карниз образует узкую стезю, по которой проходит
носитель света, возжигая огни священных лампад. Высоко над ним в безграничный
воздух вздымается шлем божественного храма, круглясь подобно небесному своду,
полному света. В вершине свода – «крест, осеняющий города».
«Поистине
дивно смотреть, как плавно увеличивается объем книзу, уменьшается кверху, ибо
купол подъемлется ввысь, не заостряясь, а уподобясь своду неба».
Высокий,
пространный купол кажется блуждающему взору досягающим высоко до небесных
кругов. Уподобление купола небу – обычное уподобление, часто встречающееся в
позднейшей византийской литературе. И не только в византийской. Посланцы
Владимира, вернувшись к нему из Царьграда, рассказывали о Св. Софии: «И пришли
мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали
– на небе или на земле мы...».
...Много
строк поэт посвящает вечернему освещению Св. Софии, когда вверху под кольцом
окон купола и по всему храму зажигаются лампады. «Можно было бы сказать, что в
хра-
ме светит
ночной Фаэтон», – говорит Павел, обращаясь к образам античной мифологии.
«Как внизу,
утверждаясь на основании цоколя, фессалийский камень твердо стоит, так и вверху
поддерживается он другою каменною связью. И самые бока у четырехгранных столпов
скрепляются связью, которая непоколебимо водружает их на твердом помосте. Так
иногда кто-нибудь нашивает повсюду кругом по краям разноцветного тирского
пеплоса свитые из золота нити и по всему его подолу и по прекрасному его верху
проводит изящные украшения и у обоих рукавов увенчивает ими концы, так что
блестящий повсюду цветник рассыпается по зеленой ткани и цвет золотой нити,
соединяясь с другим цветом, возвышает красоту красотою. Так-то изобретательный
муж, приложив к мраморам зеленого цвета золотистый цвет священного камня, умел
придать обоим прелестнейший блеск. Все (золоченые) капители, красиво поднятые,
увенчаны сверху круглым карнизом из дерева, которым колонны связаны, словно
одним поясом, хотя каждая из них отделена от другой».
Обилие
образов, взятых из мира природы, заставляет почти забыть, что мы находимся в
храме: море, солнце в горах, в облаках, луг и пестрота цветов, розы и фиалки –
все эти сравнения служат для того, чтобы оттенить его красочное богатство.
Прокопий Кесарийский
Отрывки из описания Константинопольской
Софии
На русском языке
существуют переводы сочинений Прокопия Кесарийского «О постройках» и «Тайной
истории», сделанные С.П.Кондратьевым (Вестник древней истории. 1939. № 4, с.
203–298; 1938. №4, с. 273–356). Что же касается помещаемого ниже отрывка («О
постройках». 1,11, 24–25, 27–49, 59–60), текст перевода переработан довольно
значительно, чтобы по возможности максимально уточнить описание архитектурных
подробностей. При этом мы пользовались изданиями Прокопия в «Corpus Scriptorum historiae byzantinae» (Procopius ex recensione Guil.Dindortii. Vol. 111. Bonnae,1838) и Хаури (Procopii
Caesariensis Opera orrmia. Vol.111.2.Lipsiae, 1913).
<...> Анфимий из Тралл, в искусстве механики и
строительства самый знаменитый не только из числа своих современников, но даже
из тех, кто жил задолго до него, служил рвению императора, организуя порядок
работ мастеров, заранее подготовляя нужные в будущем изображения. Вместе с ним
работал другой архитектор, по имени Исидор, родом из Милета, во всех отношениях
человек знающий и подходящий...
Этот храм
сделался чудесным зрелищем: для смотрящих на него он кажется все превосходящим,
для слышащих о нем – совершенно невероятным. В высоту он поднимается как будто
до неба и словно в открытом море, склоняясь над другими строениями, стоит выше
остального города, украшает его как составная его часть и сам становится от
него наряднее.
Его длина и
ширина столь искусно согласованы, что его вообще нельзя назвать ни слишком длинным,
ни сверх меры широким. Несказанной красотой он прославлен, ибо выделяется и
своей массой, и гармонией своих размеров; нет в нем ничего излишнего и ничего
недостаточного, так как он более пышен, чем все обыденное, и более строен, чем
можно было бы ожидать от такой громады. С преизбытком наполнен он светом и
блистанием солнца. Ты сказал бы, что место это озаряется солнцем не извне, но
что блеск рождается в нем самом: такое изобилие света разливается кругом по
всему святилищу.
Лик храма – а
это есть та часть его, которая обращена к восходящему солнцу для совершения
неизреченных священнодействий в честь Божества, – лик храма был создан так.
Некое сооружение возносится с земли, будучи выстроено не по прямой линии, но
несколько отступая от боковых с небольшим изгибом и на середине вновь
поворачивая обратно. И проходя в виде полукруга – мудрые в подобных делах
называют это полуцилиндром, – круто вознеслось оно вверх. Крыша строения была
решена как четвертая часть сферы; выше над ней, на прилегающих частях здания, в
виде полумесяца повисло в вышине другое сооружение, удивительное по красоте, но
из-за опасности такого сочетания кажущееся в целом чем-то страшным. Ведь
кажется, будто держится оно не на прочном основании и возносится в небо с
угрозою для тех, кто находится внутри, а между тем утверждено оно во всех
отношениях надежно и безопасно.
По обе
стороны, на полу – колонны, также не проходящие прямыми рядами, но
поворачивающие внутрь в виде полукруга и словно в хороводе встающие одна перед
другой. На них-то и легло сверху это лунообразное сооружение. Прямо лицом к
востоку возведена стена с входами в храм, а по обеим ее сторонам расставлены
полукругом колонны, и на них сверху точно так же, как было сказано, покоится
сооружение.
Посреди храма
высятся четыре созданных человеческими руками утеса, называемых пилонами: два
из них обращены к северу, два других – к югу. Они стоят друг против друга и во
всем похожи один на другой. В промежутке между каждой парой находится по четыре
колонны. Эти утесы сложены из огромных каменных глыб, великолепно подобранных и
искусно пригнанных друг к другу каменотесами. Можно подумать, что это отвесные
утесы – горы. На них возносятся четыре арки по сторонам четырехугольника; пять
арок сходятся по двое и крепко утверждены на вершинах утесов, прочая же часть
их, гордо поднявшись кверху, витает в беспредельной высоте. Из этих арок две,
обращенные к востоку и к западу, висят прямо в воздухе, остальные же две имеют
снизу стену с маленькими колоннами. Над ними поднимается по кругу кольцевидное
сооружение, откуда всегда появляется первая улыбка дня, ибо оно, думается мне,
вознеслось превыше всей земли. И сооружение это прерывается через короткие
промежутки, нарочно сохраняемые лишь настолько, чтобы те места, где оно,
казалось бы, отделяется от здания, служили проводниками вполне достаточного
количества лучей света. И никаким языком, как бы он ни был многословен и
красноречив, нельзя будет всего этого описать.
Так как
сочетание арок образует четырехугольник, то промежутки между ними получаются в
виде четырех треугольников. Нижняя часть каждого из этих треугольников, зажатая
вхождением арок друг в друга, образует внизу острый угол, а затем, поднимаясь
кверху и расширяя заключенное посредине пространство, она заканчивается кругом,
который лежит на ней и здесь образует остальные углы треугольника. Огромный
сфероидальный купол, поднимающийся на этом круге, придает ему прекраснейший
вид. И вследствие легкости барабана кажется, что купол не покоится на твердом
строении, но, словно золотая сфера, спущенная с неба, прикрывает это место. Все
это, сверх всякого вероятия искусно соединенное в высоте, сочетаясь друг с
другом, поддерживаемое только ближайшим к себе, в целом представляет
замечательнейшую единую гармонию всего творения. Оно не позволяет любующимся
надолго приковывать свой взор к чему-либо одному, но каждая деталь влечет к
себе взор и очень легко заставляет переходить от одного к другому. При
рассматривании всегда приходится быстро переводить свой взгляд с одного
предмета на другой, так как рассматривающий никак не может остановиться и
решить, чем из всей этой красоты он более всего восхищается. Но даже и так,
оглядываясь повсюду, [от изумления] сдвигая брови перед всем, люди все-таки не
могут постигнуть искусства и всегда уходят оттуда потрясенные непостижимостью
того, что они видят...
Кто исчислил
бы великолепие колонн и мраморов, которыми украшен храм? Можно было бы
подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами. В самом деле, как
не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному; одни показывают багряный
цвет, у других, как солнце, сияет белый; а некоторые из них, сразу являясь
разноцветными, показывают различные окраски, как будто бы природа была их
художником.
Константин Родосский
Отрывок из описания Константинопольского храма
Двенадцати апостолов
Поэма Константина Родосского, созданная в период между 931 и 944 годами,
является одним из наиболее важных византийских текстов, интересных не только
для археолога, но и для историка архитектурных воззрений.
Поэма написана ямбическим триметром. Текст ее был издан почти одновременно
(в 1896 г.) Леграном (с комментариями Теодора Рейнака) и Г.П. Беглери в Одессе.
В те же годы (1896–1898) ряд важных соображений высказал об этом литературном
источнике О. Вульф, давший графическую реконструкцию описанного храма. Позднее
(1908) А. Гейзенберг предложил ряд поправок к изданному тексту и дал его
частичный немецкий перевод. В своей монографии он поместил и новую
реконструкцию памятника, отличную от реконструкции Вульфа.
<...>
Зодчий, воздвигший премудро сей храм, будь то Анфимий или Младший Исидор – ведь
все историки-бытописатели говорят, что это великолепное произведение, –
начинает постройку преславного здания с того, что начертывает линейную фигуру
куба. Куб же есть четырехсоставная фигура, имеющая повсюду равные измерения,
будь то в числах или в линиях. Вычертив этот куб и врыв его кубическую фигуру в
землю, мастер делает внизу на земле четыре прямые угла, наподобие корабельных
носов, расположенных друг против друга, двучастные, все двуликие, хорошо
приноровленные. Утверждает он также четверочис-ленные камни, четверобедренные,
четырехсоставные, которые должны нести среднюю сферу и своды, надежно
основанные. И противопоставив друг другу эти камни на стольких же сторонах,
исходя из одного средоточия, расположив их попарно по кресту и обратив эту
небывалую схему к востоку, западу, югу и северу, он вывел пятисложное здание,
имеющее досточтимый образ Креста, покрывая столькими куполами крышу, сколько
расположил он по кругу сфендонов1, сочетая ими обоими [т.е. куполом
и сфендоном] свод со сводом и далее цилиндр с цилиндром, соединяя столб со
столбом, один с другим, и согласуя одну сферу, словно получастный холм, с
другой в шаровидном сочетании. Внизу же он поставил равным образом друг рядом с
другом камни, искусно и премудро приладив для них прочные основания, наделив их
мощными базами, дабы они, отъединившись друг от друга от налегающей тяжести, не
обрушили верхние круги сводов и не дали разбиться на земле куполу. Сладив таким
образом строение храма, как ни одно другое здание до того, он поставил в
четырехугольнике четыре основания, равные четверочисленным столпобашням2,
всюду соблюдая меру четверицы, так что получилось шестнадцать столпобашен,
четверобедренных и четверочастных по составу, которые все образовали столько же
сводов, за исключением тех, которые стояли на краях и занимали последнее место.
Ведь одни из них стояли на юге, другие – на севере, третьи – в свою очередь на
западе, а четвертые – на розоцветном востоке. Ибо так должна быть вычерчиваема
кубическая схема, в четверочисленном сочетании имея равные площади в
соответствии со сторонами. Другие же четверосоставные столбы, четверобедренные
и четверочастные по составу, спускаясь словно из нездешнего пустого
пространства на расположенные внизу, подъемлют ввысь высочайшие своды,
принимающие на себя куполообразное покрытие. Затем они поворачивают на запад,
проходя по тому же пути, что и нижние, а затем, идя к северу, образуют
надежнейший строй, подобно полководцам и военачальникам, построившим свои фаланги
крестообразно. И когда они, словно гиганты, достигли высоты и простерли руки в
воздух, протянув один другому правую руку и переплетя друг с другом пальцы, то,
уподобляясь хорошо округленным, многократно обточенным цилиндрам, они образуют
сочетающиеся по кругу своды и, натягивая при помощи этих сводов четыре хорошо
прилаженных круга, называемых у строителей сфендонами, они равномерно держат
пятичисленные купола. Притом мастер благочестивым образом расположил средний
купол так, чтобы он господствовал над всем, ибо он должен был служить великим
престолом Господа и сенью пречестного изображения, написанного в середине
великолепного дома. Ты сказал бы, что зодчий сделал эти купола неким небом из
бронзовых плиток, раскаленных в огне, и там, где они ниспадают, привел их
благолепным и доселе неизвестным образом в согласие с плечами сводов, как главы
закованных в бронзу столпобашен.
Путем
таких-то и столь великих ухищрений и начертаний линейной теории соорудил все
целое пресветлого дома мудрых апостолов этот мастер, кто б он ни был – Анфимий
или Младший Исидор. <...>
Влияние символики на архитектурную
практику Средневековья
Романтическая
школа археологии и истории искусства в начале XIX века и символисты в конце столетия
всячески подчеркивали «символизм» средневековой архитектуры и склонны были
преувеличивать степень его влияния на практику. Романтическая школа как будто
забывала, что строители романских или готических соборов были реальными людьми,
чья деятельность определялась реальными нуждами, зависела от реальных свойств
материалов, технических и экономических условий строительства, условий
местности, окружения и т.д. Едва ли не вся практика средневекового строителя
определялась в глазах романтиков одними символическими намерениями, задачами
символотворчества. Никто не будет отрицать широкую распространенность
символического мышления в Средние века – вопрос не в этом. Вопрос в том, какое
место принадлежит символике в ряду факторов, определявших реальное поведение
средневекового человека. Французский медиевист В. Мортэ остроумно различил то,
что можно назвать символизмом «априорным», от символизма «апостериорного».
Нередко символический смысл вкладывался в уже сложившиеся формы людьми,
далекими от архитектурной деятельности, представителями схоластического богословия.
Символика Средневековья гораздо чаще, чем принято было думать, шла за
практикой, а не определяла ее. Она была символикой a posteriori, т.е. задним числом, postfactum, истолковывала архитектурные формы,
возникавшие без символических намерений.
Настоящая
глава не претендует рассматривать подобную апостериорную символику во всем
объеме. Эта «стихийная» символика является предметом скорее фольклора, чем
истории теоретических учений. Пусть реальный животный мир символически
перетолкован, например, в средневековых бестиариях или животном эпосе. За этими
символами нетрудно разглядеть средневековое общество во всем его разнообразии,
человеческие характеры и социальные оценки (лисица, волк, пеликан, кукушка и
т.д.). Однако в этом стихийном символическом мышлении еще нет никакой теории.
Так и в случае символических толкований архитектуры. Предметом нашего изучения
могут быть лишь наукообразные системы символики и проблема их влияния на
архитектурную практику. Но сначала следует удостовериться в преобладающем «апостериорном»
характере средневекового архитектурного символизма на отдельных примерах.
Об этом
прежде всего свидетельствует множественность толкований одного и того же
явления – хотя бы, скажем, у историков или авторов житий. Так, Гислемар в
первой половине IX столетия писал о парижской церкви мученика Винцентия, относящейся к VI веку, что король Хильдеберт «порешил
соорудить ее в виде креста ради животворящего Креста Господня». Невозможно
установить, был ли выбор продиктован единственно символическими намерениями. Но
показательно, что здесь налицо необычная для того времени форма (крестообразные
в плане базилики для VI в. были исключением). Эта новизна и нетрадиционность требовали от
строителя или еще чаще от позднее жившего историка какого-то оправдания и обоснования.
Вот почему символические объяснения появлялись преимущественно именно в
подобных, исключительных случаях нового и непривычного. Такую же роль
«идеологического образования» играли в житиях ссылки на чудеса и видения.
Аббатиса Берта (ум. ок.725 г.) построила церковь в виде креста в Бланжи. Живший
тремя столетиями позже (в X в.) анонимный составитель ее жития счел нужным
обосновать эту форму ссылкой, согласно которой план базилики был указан
«ангельским изволением» – у реки были найдены четыре камня, лежавшие в виде
креста, и «как бы посохом, по обычаю, означены фундаменты» (ср.: спор о
постройке Св. Софии между зодчими и императором, разрешенный вмешательством
ангела).
Интересным
примером символической интерпретации является повествование в «Житии епископа
Драузия» о постройке женского монастыря в Суассоне. И здесь – разрыв в три
столетия между самим событием и временем написания рассказа о нем: VII и X века. Апсида базилики была включена в
стену города. По мнению анонимного автора, строители вложили в это «красивый
смысл», ибо «при виде церкви, как бы выступавшей по обе стороны городских стен,
казалось, что она, как мать, охраняет обе части города». Из контекста, однако,
видно, что не одна символика определила такое решение, а невозможность поступить
иначе – монастырю было некуда расшириться, между тем «сама земля возопияла, что
не может вместить всех».
Разумеется, в
клерикальной среде, особенно в среде строителей-монахов, соображения символики
играли известную роль. Например, наличие таких соображений можно признать при
постройке круглой кладбищенской церкви Св. Михаила в аббатстве Фульда. В
«Каталоге аббатов Фульдских» говорится, что Эйгиль (аббат в 817–822 гг.)
построил ее в виде символа (typice): «один камень лежал подо всем
зданием внизу, одним камнем покрывался дом и сверху». «Житие Эйгиля» (гл. 20)
дополнительно разъясняет: всякое наше действие начинается с Бога и Богом
кончается, 8 колонн – 8 блаженств, круг символизирует «Царство нескончаемого
величия и надежду жизни вечной» и т.д. Редким случаем чисто преднамеренной
символики является постройка графиней Жанной церкви с 12 колоннами в Валансьене
(1225–1233) – эти колонны, по свидетельству современника, Жакаде Гиза
(«Хроника»), должны были знаменовать 12 апостолов3.
В «Хронике»
дижонского монастыря Сен-Бенинь есть довольно подробное описание аббатской
церкви, построенной в 1001–1031 годах в виде ротонды с криптой в виде буквы Г.
Руководил постройкой сам аббат Гильом. Автор «Хроники» отмечает, что не
напрасно описаны здесь «форма и тонкость искусного сооружения», ибо «многое,
очевидно, сделано здесь символически (mystiko sensu) и должно быть приписано в большей
мере божественному вдохновению, чем опытности какого-либо мастера». В чем
заключается этот «мистический смысл», автор прямо не говорит, указывая кое-где
размеры и почти всюду число колонн, окон и входов. В конце описания он полагает
даже нужным дать их общий итог: 371 колонна, не считая тех, что находятся в
башнях и алтарях; 120 окон, 8 башен, 3 входа, 24 двери.
Едва ли
возможно выяснить по описанию, где кончается «опытность мастера», т.е. реальное
проектирование, и где начинается «божественное вдохновение», т.е. символическое
истолкование. Символические объяснения привлекались post factum, что видно и из той геометрической
схематизации, которой подвергался реальный план или реальное здание в описаниях
хронистов и агиографов. В «Житии св. Адальгарда» (каролингского времени)
рассказывается, что основанный им монастырь был расположен в долине,
представляющей форму треугольника, и что сделано это было «недаром»
(треугольник как символ троичности). Гариульф в «Хронике монастыря Сен-Рикье»
(или «Центулы») сходным образом повествует, что «обитель монахов устроена
треугольником». Сохранилось старинное изображение этого монастыря, из которого,
однако, видно, что «треугольность» монастыря следует понимать в весьма
растяжимом смысле и, конечно, не она явилась определяющей при его планировке.
Систематические трактаты по символике
Производный
характер символики еще отчетливее проступает в символических толкованиях,
вышедших из-под пера профессиональных богословов.
К этому
разряду относятся произведения нескольких типов. Одну группу образуют
толкования Библии и библейских описаний Иерусалимского храма. Примером может
служить «Книга о храме Соломона» англичанина Беды Достопочтенного (637–735).
Она наполнена богословско-арифметическими выкладками вроде следующих:
«Правильно
упоминается, что обе колонны имели 18 локтей высоты. Ведь трижды шесть
составляет восемнадцать. Три относится к вере, знаменуя Святую Троицу, а шесть
– к делам, ибо во столько дней был создан мир. Это яснее ясного».
Далее сходным
образом развивается, что высота капителей в 5 локтей соответствует 5 книгам
Моисеева «Пятикнижия» и т.д. Другую группу образуют позднейшие сочинения типа
энциклопедий – например, «Сокровище души» Гонория Отенского (по-латыни – Augustoduns). Здесь даны символические толкования
окон (гл.130), колонн (гл. 131), полов, крипт (гл.134), колоколов, башен и
колоколен (гл. 142–144), северной и южной стороны храма (гл. 145), монастырского
двора (гл. 148) и т.д. По мнению автора, церкви в виде креста показывают, что
«люди церкви должны быть пригвождены ко кресту мира», тогда как круглые
показывают, что «церковь по всему кругу мира строится любовью, как круглый
венец вечности» (гл. 147).
В XIII веке подобные толкования отливаются в
новую форму: трактатов о символике культа. Таков «Rationale divinorum officiprum» Гильома Дюрана (Вильгельма
Дурандуса), написанный в 1286–1295 годах. Цель его – дать ratio (объяснение или обоснование) обрядовых
действий (divina officia). Отсюда, на первый взгляд, странное название трактата. Такова же цель
одноименного трактата Иоанна Белета (Belethus, ум. в 1190 г.). Таков же, наконец, и
более ранний (кон. XII–1-я чет. XIII в.) трактат Пьера де Руасси, каноника (chancellier) Шартрской церкви. По толкованию
последнего, стеклянные окна, например, означают Священное Писание – они шире
внутри и уже снаружи, потому что внутренний смысл шире и глубже внешнего, и мы
должны по возможности ограничивать деятельность внешних чувств, источника
«смерти и суеты»; наконец, окна бывают прямые внизу и закругленные вверху –
указание на то, что прелаты должны быть «выравнены» добродетелями и вечно
служить Богу.
Приведенные
примеры показывают, с одной стороны, цену подобных толкований, с другой
свидетельствуют о стремлении ученых клириков превратить самые архитектурные
формы в своего рода «поучительную книгу», в средство «назидания верующих»,
вложить в архитектуру назидательный смысл. При всей ограниченности их влияния
на строительную практику названные трактаты оказываются в отдельных случаях
полезными для историка архитектуры, позволяя судить о бытовании тех или иных
форм и деталей (например, довольно подробные толкования флюгеров с петухами
или, как в приведенном примере, формы окон).
Символика человеческого тела в
архитектуре
О символике
человеческого тела следует сказать особо. У только что упомянутого Ду-рандуса
читаем, что «план церкви материальной» повторяет фигуру человека: алтарная
часть соответствует голове, ветви трансепта – распростертым рукам, западная
часть – остальной части человеческого тела. Та же аналогия базилики и
человеческого тела встречается и раньше – в XII веке, в «Деяниях аббатов
Сен-Тронских». Здесь говорится о церкви, перестроенной аббатом в 1055–1082 годах
(Сен-Трон – аббатство около Льежа):
«И в его
времена настолько расширено было вновь здание старой церкви, что к ней уместно
применить слова ученых (doctores) о вполне законченных (bene consummates) церквах, а именно, что она была
сооружена по образу человеческого тела. Ибо она имела и поныне имеет, как можно
в том убедиться, алтарь и святилище в качестве головы и шеи, хор с сиденьями в
качестве груди, трансепт, простирающийся по обе стороны этого хора в виде
рукавов или крыльев, – в качестве рук и дланей, а неф церкви – в качестве
чрева, нижний же трансепт, также простертый в виде двух крыльев к югу и северу,
– в качестве бедер и ног».
Эта аналогия
дала повод отдельным исследователям усмотреть сознательную символику в
отклонении алтарной части некоторых соборов от главной оси – такое отклонение
должно было, по их словам, символизировать склоненную набок голову распятого
Христа. Но французский археолог Ластери убедительно показал, что это отклонение
было вызвано техническими причинами и особенно часто наблюдается в тех соборах,
которые строились на протяжении долгого времени, в несколько приемов,
вследствие чего было затруднительным точно выверять направление и предотвратить
отклонение от главной оси. Наиболее показательно свидетельство хроники о
зодчем, построившем церковь целестинцев в Меце: «...он умер от скорби и печали,
стыдясь, что сделал свое произведение таким кособоким (honteux d»avoir fait son oeuvre ainsi tortue, il en mourut de deuil et de tristesse)». Из этого текста следует, что
отклонение от оси не было преднамеренным.
В этой же
связи нельзя не сказать несколько слов еще об одном символе. Уже у ранних
церковных писателей, св. Амвросия Медиоланского (340–397) и Блаженного
Августина (354–430), встречается сближение пропорций человеческого тела с
пропорциями Ноева ковчега: у св. Амвросия – в сочинении «О Ное и ковчеге» (гл.
6,13), у Блаженного Августина – в сочинении «О Граде Божием» (XV, 26). Более выразителен текст
Амвросия. Если пристальнее вглядеться, гласит он, то окажется, что в построении
ковчега начертана форма человеческого тела. В книге Бытия (Быт. 6. 14)
говорится: «...сотвори убо себе ковчег от древ чет-вероугольных – de lignis quadratis». Quadratum – по толкованию св. Амвросия – то,
что хорошо сложено из всех частей и находится в согласии с самим собой (quod omnibus bene consistat partibus et conveniat sibi). Члены человеческого тела могут быть
названы quadrata – таковы грудь и живот, «равной меры в длину и ширину, если только
естественная мера не нарушается наслаждениями и переполнением чрева яствами».
Руки и ноги хотя и имеют разную длину или ширину, тем не менее, сохраняют
соответствие (analogiam) так, что в них равным образом соблюдается подобающая мера и пропорция (mensura ratioque), ибо длина больше ширины, ширина
больше толщины. Ковчег имел 300 локтей в длину, 50 в ширину, 30 в вышину. Так и
в человеческом теле. Эта мысль св. Амвросия яснее выражена у Блаженного
Августина: рост человека, его ширина и толщина относятся друг к другу как
300:50:30 (т.е. 30:5:3).
Св. Амвросий
заключает:
«И тем не
менее [т.е. несмотря на разницу в длине, ширине и толщине. – В.З.] все тело,
составленное из отдельных членов, – квадратно. Ибо в обиходе мы называем quadrati тех, кто не слишком высок и худ или
коренаст и толст».
В «Толковании
на книгу Бытия» (кн. II, ч. 6), написанном в 819 году, Рабан Мавр повторил августиновскую
параллель между пропорциями человеческого тела и ковчега: высота (рост)
человека в шесть раз больше ширины и в десять раз больше толщины.
Здесь
приходится вспомнить многое: и «квадратные статуи» Поликлета, и схему
Вит-рувия. Но главное, следует заметить, что мы имеем дело с «совершенными
числами 6 и 10», лежащими в основе шестиричной и десятиричной системы счисления
и всех старых систем мер. Как бы ни интерпретировалось символически соотношение
1:1/6:1/10, оно неизбежно должно было возвращаться при распространенности счета
по дюжинам и десяткам. «Человеческое тело – ковчег» является как бы
символическим воплощением или олицетворением очень привычных и распространенных
соотношений, а потому его следует принципиально отличать от других, более
произвольных и условных спекуляций числовой символикой. Несмотря на свою
вторичность, «надстроечность», от него есть мост к практике, и этим, быть
может, объясняется его живучесть. С теми же пропорциями и с тою же аналогией
человеческого тела и ковчега мы встретимся и в XV веке у Джанаццо Манетти, описывающего
проект базилики Св. Петра, принадлежащий Л.Б. Альберта, который, кстати
сказать, приводит те же пропорции ковчега в трактате «О зодчестве» (IX, 7), и это, заметим, при тщательной
стилизации всего трактата «под античность».
Сказанное уясняется при сравнении с гораздо более
прихотливыми и лишенными всякого практического значения аналогиями между
человеческим телом и растительным организмом, встречающимися у ученых книжников
Средневековья. Для Александра Неккама (1157–1217), сочинение которого – две
книги «О природах вещей» – стало очень популярно к концу XII столетия, человек есть «перевернутое
дерево», корни которого, волосы, находятся вверху (аналогия восходит к
Аристотелю, для которого корни, питающие растение, соответствуют рту). Эта
аналогия встречается и в других средневековых трактатах, не являясь,
следовательно, индивидуальным капризом того или иного философа.
1 Под термином «сфендоны»,
обычно обозначающим «паруса», «ненарушенные своды», Вульф предлагал понимать
нижний край купола, т.е. барабан, расположенный над парусами.
2 Столпобашни – пилоны.
3 Евсевий Кесарийский
(«Церковная история») толкует 12 колонн в апсиде Иерусалимского храма над Гробом
Господним как символ 12 апостолов. Однако нет никаких указаний на то, что в
этом случае таков был замысел строителя. Аббат Сугерий («Об освящении церкви
Св. Дионисия»), имевший возможность как инициатор строительства значительно
влиять на выбор архитектурных форм, говорит, что средние 12 колонн знаменовали
12 апостолов, а 12 колонн в нефах (alae) –
12 пророков
3.1.2.7.
Кеслер М.Ю. Развитие храмостроительства на Руси с IX по XX в.
(Рукопись)
М.Ю. Кеслер (род.
1942 г.) – гл. специалист архитектурно-художественного центра «Арххрам»
Московской Патриархии. Рукопись готовилась по заказу Издательского отдела МП к
празднованию 1000-летия Крещения Руси. Печатается с некоторыми дополнениями.
1. Храмостроительство в объединенной
Руси IX – XI веков
Первые храмы Киевской Руси IX – первой половины XI века
По преданию,
первый христианский храм на территории нашего Отечества был основан в Корсуни
(Херсонесе) за много веков до крещения Руси святым апостолом Андреем
Первозванным (+62), посетившим в I веке по Рождестве Христовом Причерноморье для проповеди
Слова Божия сарматам и тавро-скифам. По свидетельству древнерусских летописей,
апостол Андрей, поднявшись по Днепру, у подножия Киевских гор сказал своим
ученикам: «На этих горах воссияет благодать Божия, будет град великий, и
воздвижет Бог много церквей».
История
строительства православных храмов в древнерусском государстве начинается в IX веке, когда около 865 года состоялось
первое массовое крещение Киевской Руси. Киевский князь Аскольд (+882), приняв
святое крещение с именем Николай и крестив свою дружину с частью населения
Киева, построил церковь во имя Пророка Илии на Подоле. К 882 году относится
летописное упоминание о киевских храмах во имя Святителя Николая и во имя
святой Ирины. Великая княгиня Киевская Ольга (+969), крестившись в 957 году в
Царь-граде, построила для многочисленных тогда уже христиан в Киеве, Витебске и
других городах Древней Руси несколько храмов, в том числе церковь во имя Святой
Троицы в Пскове (957–965) и, возможно, храм в честь Преображения Господня в
Новгороде.
После
крещения внука святой равноапостольной княгини Ольги великого князя Владимира
(+1015), совершившегося в 987 году в Корсуни, святой князь построил там
церковь, а вернувшись домой с первым Митрополитом Руси греком святым Михаилом
(+992) и повелев крестить киевлян, по свидетельству «Повести временных лет»:
«приказал рубить церкви... и поставил церковь во имя святого Василия на
холме... и по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов и
приводить людей на крещение по всем городам и селам». По летописному
свидетельству Мниха Иакова (XI век), святой князь: «Крестил всю землю Русскую от конца
и до конца..., всю землю Русскую исторг из уст диавола и привел к Богу..., всю
землю Русскую и все грады ея украсил святыми церквями..., и всюду раскопал
идольские храмы и требища, всюду сокрушил идолов».
Везде, где
распространялось христианство, на местах древних капищ и кумиров возникали
христианские храмы. Эти первые храмы на Руси стали как бы маяками во мраке
язычества, которые распространили Свет Христового учения по всей русской земле.
Несмотря на отсутствие достаточных письменных свидетельств о том, каковы были
эти храмы, можно предположить, что имея богатейший опыт строительства из
дерева, постройке христианских церквей новообращенные русские мастера учились у
своих западных соседей – славян, приобщенных к Христовой Церкви благодаря
просветительным трудам святых равноапостольных братьев Кирилла (+869) и Мефодия
(+885) учителей Словенских.
Древнейшей
формой деревянного храма был так называемый «клетский храм», состоящий из
покрытой двускатной кровлей клети – избы с прирубленными к ней с востока
алтарем, а с запада трапезой или папертью. Храмы большого размера строились
путем комбинации нескольких срубов. Храмы более сложного типа строились
возможно уже тогда в виде пирамиды из поставленных друг на друга квадратных
клетей уменьшавшихся кверху. Иногда строились многогранные храмы, покрывавшиеся
высокой шатровой кровлей. Эти древнейшие типы деревянных храмов до сих пор
сохранились на русском Севере, покоряя нас совершенством выверенных веками форм
и свидетельствуя о той необыкновенной духовности творчества русских мастеров,
которую они получали с принятием христианства.
Первым
обетным обыденным храмом была деревянная церковь в честь Преображения Господня
в городе Васильеве, поставленная святым князем Владимиром в один день в память
спасения от набега печенегов в день праздника Преображения. Первый монастырь на
Руси был основан святым митрополитом Михаилом на одной из киевских гор, где он
поставил и деревянную церковь во имя святого ангела Архистратига Михаила.
Иноки, прибывшие из Византии вместе с Митрополитом, основали близ Вышгорода
Спасский монастырь.
После Киева
святой верой были просвещены вначале земли Новгородская (989), Ростовская и
Суздальская (991). В конце X века были учреждены епископские кафедры в Новгороде,
Владимире Волынском, Ростове Великом, Белгороде, Чернигове, Переславле.
Никоновская
летопись сообщает: «...иде Михаил, митрополит Киевский и всея Руси, в Новгород
Великий... и идолы сокруши, и многие люди крести, и церкви воздвигше, и
пресвитеры постави по градом и по селам». В 992 году первым Новгородским
епископом святым Иоакимом Корсунянином (+1030) был возведен первый Софийский
собор на Руси – грандиозный дубовый собор со своеобразным завершением «о
тринадцати верхах», посвященным Софии Премудрости Божией. В Ростове епископом
Феодором в 992 году была построена небывалая «соборная дивная великая церковь
святой Богородицы, какой не было и никогда не будет».
Основание
первого известного каменного храма на Руси, построенного из плоского
кирпича-плинфы, относится к 989 году, когда святой князь Владимир на месте
убиения первых мучеников на Руси варягов Феодора и Иоанна «задумал создать
церковь Пресвятой Богородице, и послал привести мастеров из Греческой земли. И
начал ее строить, и, когда кончил строить, украсил ее иконами, дав ей все, что
взял перед этим в Корсуни: иконы, сосуды и кресты». Собор в честь Успения
Божией Матери (Десятинная церковь – 996 г.), возведенный и расписанный
греческими мастерами, представлял собой типичный византийский трехнефный,
крестово-купольный храм, украшенный мозаиками и фресками. Промыслом Божиим Русь
вместе с принятием христианства получила и самый совершенный тип храма,
способный языком своих архитектурных форм, наделенных глубоким символическим
смыслом, выражать самый сокровенный смысл православного вероучения, быть
своеобразной проповедью в камне. И хотя толкования о храме достаточно широко
распространились на Руси лишь в XVII веке, архитектура храма говорила сама
за себя.
Композиция
храма крестово-купольного типа с центральным куполом, символизирующим небо, над
кубическим объемом, символизирующим землю, воплощала основную мысль
христианского вероучения о единении небесного (духовного) и земного (материального),
ставшего возможным благодаря пришествию на землю и крестной жертве Христа. Эта
идеально найденная композиция стала каноничной для Восточной (Православной)
Церкви.
Один из самых
авторитетных исследователей церковного искусства Л.А. Успенский писал: «Если в
римо-католичестве архитектура храма и его оформление отличаются большим
разнообразием и, в зависимости от духовного направления, изменяется, часто
коренным образом характер архитектуры, то в православном мире руководствовались
последовательными поисками наиболее точного архитектурного и художественного
выражения смысла храма в соответствии с его пониманием как образа Церкви и
символического образа мироздания. В противоположность римо-католичеству, при
богатом разнообразии архитектурных решений, раз найденное, наиболее верное
выражение в своих основных чертах устанавливалось окончательно. Храм
крестово-купольного типа вместе с росписью позволяет наиболее наглядно и ясно
выявить его символическое значение и, в пределах возможного, наиболее полно
выразить православное учение о Церкви. Эта система постройки храма была принята
в качестве основы во всем православном мире. В разных странах она
видоизменялась, перерабатывалась в соответствии с местными художественными
вкусами и получала новое художественное выражение...».
Основу
крестово-купольной системы византийского храма составляет равноконечный
греческий крест, образуемый пересечением центральных широких нефов, над центром
которого высится поднятый на круглом барабане купол. Барабан опирается через
так называемые «паруса» на арки, перекинутые между четырьмя центральными
опорами. Восточная часть креста заканчивается полукруглой алтарной апсидой,
часто замыкающей и угловые ячейки храма. Нефы перекрывались полуциркульными или
коробовыми сводами. Боковые нефы были более узкими, низкими и менее
освещенными. Помимо центрального купола над угловыми ячейками часто ставились
купола меньшего размера, образуя трех- и пятику-польное завершение храма.
Интерьер
крестово-купольного храма представляет собой целостную систему иерархически
упорядоченных пространств, развивающихся от затемненных боковых нефов, где
размещается основная часть молящихся, к центральному светлому подкупольному
пространству с амвоном в центре, где происходит богослужение, и дальше вверх, к
куполу, на котором находится наполненное светом изображение Главы Церкви –
Христа Вседержителя. Такая гармоничная пространственная система наглядно
представляет символическую сущность храма как начала будущего Царства Божия, а
также идею «лествицы» – восхождения от «дольнего» к «горнему». Первое
развернутое толкование храма принадлежало Патриарху Константинопольскому
святому Герману (715-730).
Во второй половине IX века в Византии при Патриархе Константинопольском святом Фотии (+886)
окончательно складывается иконографический канон, определяющий расположение
основных композиций на потолке и стенах храма, который был перенесен на Русь
греческими мастерами, украшавшими построенные храмы мозаиками и фресками.
Красота византийских храмов, по свидетельству летописи,
явилась одним из факторов, способствовавших принятию православного христианства
на Руси. Послы князя Владимира, ездившие «к немцам, болгарам и грекам»,
рассказали, что попав в храм Св. Софии в Константинополе, «не знали – на небе
или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем,
как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и
служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той».
После кончины святого князя Владимира его сыновья князья
Мстислав и Ярослав ведут храмостроительство каждый в своей части страны. Князь
Мстислав (1024–1036) в своем стольном городе Чернигове строит с привлечением
византийских мастеров пятикупольный собор в честь Спаса Преображения (1034–1036)
по подобию киевской Десятинной церкви, с хорами и некоторыми чертами
константинопольских купольных базилик.
Ярослав Мудрый (1019–1054), став после кончины Мстислава
державным князем всей русской земли, осуществляет в Киеве большое
строительство: «заложил церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь на
Золотых воротах – святой Богородицы Благовещения, затем монастырь святого
Георгия и святой Ирины и иные, многие церкви поставил и монастыри умножил. И
стала при нем вера христианская плодиться и расширяться и черноризцы стали
умножаться и монастыри появляться».
Великолепный каменный собор во имя Софии Премудрости
Божией был заложен около 1037 года в память победы над печенегами. По словам
пресвитера (а с 1051 года – первого русского митрополита) Иллариона, постройка
собора была завершением дела, начатого еще святым князем Владимиром: «сын твой
Георгий, которого Бог сделал наследником твоему владычеству, завершает не
доконченное тобою, как Соломон дела Давидовы: и дом Божий великий и святой Его
Премудрости создал на святость, на освящение города твоего, изукрасил его
всякой красотой, золотом и серебром, дорогими каменьями и священными сосудами;
чудесна и прославляема во всех соседних странах эта церковь, потому что не
найдется другой такой во всех полунощных странах от востока до запада».
Грандиозный пятинефный крестово-купольный
тринадцатиглавый Софийский собор, украшенный мозаичными изображениями и
фресками, мраморными колоннами и плитами пола, становится центром Православия
на Руси – Русской Митрополией. Он служит также местом летописания и
торжественного посажения на великокняжеский стол киевских князей и местом их
погребения. Летопись XVII века
повествует о том, что прототипом при создании Софии Киевской служила София
Константинопольская – главный храм Византийского Патриархата: «Укрепився же на
княжении (Святослав) обнови град Киев и созда церковь велику и предивну святыя
Софии, сиречь Премудрости Божия, от камени по подобию Константинопольская,
точию меньшую от нея». Однако связь с прототипом состоит здесь не в копировании
его форм и внешнего облика, а скорее идейно – символическая, отражающая
преемственную связь и сопоставление Киева с Византией.
Митрополит Илларион повествует, что вслед за киевским
Софийским собором Ярослав «создал и церковь на великих вратах в честь первого
праздника Господня святого Благовещения, так что приветствие архангела Деве
можно приложить к сему городу». Деве было сказано: «радуйся, Благодатная,
Господь с тобою» (Лк.1.28). А граду можно сказать: «радуйся, благоверный граде,
Господь с тобою».
В 1045–1050 годах по благословению архиепископа
Новгородского Луки (+50-е годы XI века)
«Свершена быть святая Софея в Новгороде повелением князя Ярослава и сына его
Володимира». Собор стал главной святыней и символом города. «Где Святая София,
там и Новгород» – говорили новгородцы. В соборе решали государственные вопросы,
хоронили новгородских владык, князей и посадников, держали казну. Библиотека
собора была крупнейшим собранием древних рукописей и книг, а в соборной ризнице
хранилась богослужебная утварь, выполненная лучшими мастерами, –
серебрянниками, златокузнецами и вышивальщицами. Для росписи собора князь
Владимир «приведоша иконных писцев из Царяграда и начаша подписывати во главе,
и написаше образ Иисуса Христа со благословящею рукою». В XIV – XVI веках
алтарь был отделен пятиярусным иконостасом – одним из древнейших на Руси. Облик
могучего пятинефного шестиглавого собора, возведенного из известняка и
булыжника, фасады которого членятся лишь мощными выступами, отличается суровой
простотой и величием, выражая мысль о нерушимости Церкви Христовой, которую «не
одолеют врата ада».
По сравнению с Софией киевской новгородский собор
отличается меньшими габаритами и количеством глав, что соответствовало
иерархической подчиненности Новгородской епархии Киевской митрополии. Сохраняя
связь с образцом, новый собор приобрел самобытные черты, связанные со
спецификой заказа и местными условиями строительства. Эта тенденция проявляется
и во всей последующей истории храмостроительства на Руси.
В 50-х годах XI века князем
Всеславом (+1101) был построен еще один собор во имя Софии Премудрости Божией в
Полоцке – большой пятинефный храм с тремя полукруглыми апсидами и семью
главами.
Строителями Софийских соборов были константинопольские
зодчие, однако их архитектура не имеет прямых аналогий с византийскими храмами
ввиду иных условий строительства, а возможно и иных традиций, предопределивших
совершенно другой образ соборов, принявших чисто русские черты, получившие в
дальнейшем блестящее развитие.
Вслед за крещением Руси по свидетельству Митрополита
Иллариона «монастыреве на горах сташа, черноризцы явишася».
Святой князь Владимир в 996 году основал в Киеве при
Десятинной церкви монастырь во имя Пресвятой Богородицы и монастырь во имя
Святой Софии, сгоревший в 1017 году. Ярославом Мудрым, который любил
черноризцев до «излиха», были основаны в Киеве два княжеских монастыря: мужской
во имя святого ангела Георгия и женский во имя ангела святой супруги – Ирины.
В Новгороде святой епископ Иоаким по свидетельству
летописи «уради себе монастырь десятинный». При истоке Волхова из Ильменского
озера, где на холме стоял свергнутый истукан Перун, им был основан мужской
монастырь с храмом в честь Рождества Богородицы, называвшийся в народе
Перынским.
В конце X века была
устроена обитель на Валааме. Приняв в ней пострижение от игумена Феогноста,
святой Авраамий пришел в Ростов и по благословению епископа ростовского Федора
«поставил на том месте, где явился ему святой Иоанн Богослов, церковь во имя
этого евангелиста, а там, где стоял прежде Велес, возградил церковь малую во
имя Богоявления и при ней келий и общежительную обитель» (~1000).
Преподобный Ефрем новоторжский чудотворец (+1053) после
того, как был убит его брат одновременно со святым князем Борисом (+1015),
удалился в уединенное место неподалеку от города Торжка и на берегу реки Тверцы
создал в 1038 году каменную церковь во имя святых мучеников Бориса и Глеба и
при ней монастырь.
Русская Церковь Киевского периода, будучи одной из самых
обширных митрополий Константинопольского патриархата, обычно управлялась
греческими Митрополитами и считала Царьград своим духовным центром и источником
культуры. С другой стороны, являясь нераздельной частью всей христианской
Европы, Киевская Русь, в которой благодаря ее географическому положению
перекрещивались торговые пути между Югом и Севером, Западом и Востоком, была
связана со своими соседями обширными торговыми и культурными связями, благодаря
которым храмостроительная практика Древней Руси получила дополнительный
творческий импульс.
Монастырские храмы второй половины XI века
Во второй половине XI века широкое распространение получает строительство монастырей. Сыновья
Ярослава Мудрого возводят в Киеве родовые монастыри: Изяслав (1054– 1068) –
Дмитриевский (1057), Святослав (1073–1076) – Симеоновский (1075), Всеволод
(1078–1093) – Андреевский (1086) и Выдубицкий (1070). До настоящего времени
сохранился лишь храм Выдубицкого монастыря, в котором в 1070 году «заложена
бысть церки святого Михаила». Это был восьмистолпный одноглавый храм с обширными
княжескими хорами, близкий по типу Спасо-Преображенскому собору в Чернигове, но
с расположением лестницы на хоры и крещальни внутри основного объема здания и
значительно меньшего размера.
В патерике Киево-Печерского монастыря, основанного в 1051
году преподобным Антонием (+1073), говорится о том, «как Самого Господа
промыслом и волею и Его Пречистой Матери молитвой и благоволеньям создалась и
свершилась Боголепная, небу подобная Великая Печерская церковь Богородицы
архимандрития всей Русской земли». К основателям монастыря – святым Антонию и
Феодосию (+1074) «пришли из Царьграда четыре мастера церковных... и спросили
они: Где хотите ставить церковь?». Те же им ответили: «Там, где Господь место
обозначит». Греки же клятвенно говорили: «...Спрашивали мы Царицу (Богородицу)
о величине церкви, и Она сказала мне: "Я меру послала – пояс Сына Моего –
по Его повелению"».
Мерой стал «золотой пояс», украшавший крест с
изображением Христа, который был отдан варягом Шимоном блаженному Антонию по
Божьей воле.
О событиях, связанных со строительством Печерской церкви,
патерик повествует следующее: «Основана же была сия божественная церковь
Богородицы в 1073 году. В дни княжения благоверного князя Святослава, сына
Ярослава была заложена церковь эта и сам он своими руками начал ров копать...
Этой же церкви создатель, и устроитель, и художник, и творец – Сам Бог...
Разумейте, братья, основание и начало ее: Бог-Отец свыше благословил росой, и
столпом огненным, и облаком светлым, Бог-Сын меру дал Своим поясом: хотя и
деревянный был крест, но Божею силой облечен: Святой же Дух огнем
невещественным ров ископал, где положить основание, и на том камне создал
Господь церковь эту, что и врата адовы не одолеют ее. Так же и Богородица: на
три года золота дала строителям, и Своего Пречистого образа икону даровала и ее
поместной поставила – от иконы этой чудеса многие совершаются».
В 1077 году церковь была закончена вчерне приемником
Феодосия преподобным Стефаном (+1094), а внутренняя отделка была выполнена
греческими иконописцами с помощью русского иконописца преподобного Алипия
(+1114) в период 1083–1089 годов.
Митрополит Московский Макарий (Булгаков) (1816–1882) в
своей «Истории Русской Церкви» пишет, что: «Печерская обитель с самого начала
посвящена была Пресвятой Богородице, что и первый храм, находившийся в пещере,
и второй, воздвигнутый над пещерою, и третий – более обширный деревянный, и
четвертый – великолепный, каменный, – все устроены были в честь Пресвятой
Богородицы».
Архитектура Печерской церкви (1073– 1089) близка таким
византийским храмам X – XI веков, как монастырские церкви Афона, Дафни,
Фокиды и другим. Это был шестистолпный крестово-купольный одноглавый
трехапсидный храм с П-образными хорами, украшенный мозаикой и фресками.
Архитектура Великой Успенской Печерской церкви определила черты последующего
этапа древнерусского зодчества, стала эталоном для многих других храмов и в том
числе созданных Владимиром Мономахом (1113–1125) соборов в Ростове и Суздале, о
чем говорится в Киево-Печерском патерике: «И во время своего княжения
христолюбец Владимир взял размеры той божественной церкви Печерской и создал во
всем подобную церковь в городе Ростове такой же вышины, широты и длины и на
хартии записал, где и на каком месте церкви какой праздник изображен... Сын же
его Георгий – князь... построил в городе церковь в ту же меру». Понятие меры не
понималось буквально: гораздо важнее было духовное родство с образцом.
В Переяславле – резиденции Киевских Митрополитов
интенсивное строительство храмов в конце XI века велось Митрополитом Киевским Ефремом (1072–1079). По словам
летописи: «Много он тогда зданий воздвиг: докончил церковь святого Михаила,
заложил церковь на воротах во имя святого мученика Федора, и затем церковь
святого Андрея у ворот... и украсил город Переяславльский зданиями церковными».
2. Храмостроительство в удельных
княжествах XII – XV веков
После кончины Ярослава Мудрого (+1054) происходит
дробление централизованного Киевского государства на отдельные княжества и
Церковь является единственным объединяющим началом во всей стране. Верховная
власть над Русской Церковью принадлежала «Митрополиту Киевскому и всея Руси»,
назначавшемуся до середины XV века
Константинопольским Патриархом, а позднее – Собором русских епископов. Помимо
существовавших в конце XIII века
Ростовской, Новгородской, Тверской, Рязанской и Сарайской епархий, в XIV веке появились новые епархии: Суздальская,
Коломенская, Пермская. Владимирская епархия, в состав которой входила и Москва,
с начала XIV века перешла в ведение самого
Митрополита. К началу XV века 9 из
18 русских православных епархий: Брянская (бывшая Черниговская), Полоцкая,
Смоленская, Галицкая, Перемышльская, Владимир-Волынская, Холмская, Туровская,
Луцкая находились во владениях польского короля и великого князя Литовского. Во
второй половине XV века эти
епархии окончательно вышли из ведения Митрополита Московского.
Храмостроительство в каждом княжестве приобретает свои
специфические черты, обусловленные историческими, региональными условиями,
деятельностью различных строительных артелей, спецификой заказов и
свидетельствующие о формировании национального направления в храмовом
зодчестве. В период с XI по XV век выделяют зодчество трех регионов:
юго-западного (Приднепровье, Галицко-Волынская земля, Западная Русь),
северо-восточного (Владимиро-Суздальское княжество), северо-западного (Новгород
и Псков).
Монголо-татарское нашествие на Русь (1237–1240),
продолжавшееся два с половиной века, нанесло огромный урон древнерусской
культуре. Оно отразилось не только на областях, разоренных ханом Батыем
(1208–1255), но и на землях Новгорода и Пскова, которым пришлось в XIII веке выдержать еще и нападение шведов (1240)
и ордена меченосцев (1242), начавших крестовый поход на православную Русь по
призыву папы Григория IX
(1227–1241). В период золотоордынского ига особое значение приобретает
деятельность Церкви. По словам С. Масье, «Церковь была Россией, а Россия была
Церковью».
С XII века
размеры храмов, служащих теперь монастырскими, дворцовыми (княжескими) или
посадскими церквями в удельных княжествах, значительно уменьшаются по сравнению
с крупными многоглавыми храмами предыдущего периода времен великого княжения
Владимира и Ярослава, выражающими своим обликом соборность и величие
объединенной Руси. С уменьшением размеров растет число храмов и многообразие
вариантов их архитектурных решений. В основном строятся трехнефные
четырехстолпные храмы с одним куполом на высоком барабане, часто с притворами
по трем сторонам.
К концу XV века
количество монастырей значительно увеличилось. Если в конце XIII века было известно около 100 монастырей, то
в течение XIV – XV веков возникло еще 168 новых монастырей.
Храмостроительство в юго-западной Руси
В столице Древней Руси - Киеве в XII веке продолжается интенсивное строительство княжеских храмов. Князь
Святополк Изяславович (1093–1113), заняв великокняжеский «стол», строит в 1108
году в Киево-Михайловском (Златоверхом) монастыре великолепную каменную церковь
с пятнадцатью позолоченными главами во имя святого ангела Архистратига Михаила,
которая является, за исключением некоторых деталей, уменьшенной копией
Печерского Успенского собора. Внутри храм был украшен замечательными мозаиками
и фресками, выполненными русскими мастерами.
В том же году в Киево-Печерском монастыре на средства
Черниговского князя Святослава (в иночестве Николая Святоши +1143) – первого
князя, принявшего монашество (1106), возводится надвратная больничная церковь
во имя Святой Троицы: четырехстолпная, одноглавая, квадратная в плане, с
апсидами, врезанными в толщу стены.
В Вышгороде близ Киева черниговский князь Олег
Святославович (+1115) достраивает по типу черниговского Спасского собора
начатый Святославом и Всеволодом грандиозный храм – мавзолей (1073–1112) во имя
святых мучеников Бориса (+1115) и Глеба (+1115), в который в 1115 году по
освящении храма были перенесены их мощи из сгоревшей в 1020 году церкви святого
Василия. Одноименную церковь заложил в 1117 году великий князь Владимир Мономах
на реке Льте, на том месте, где был убит святой князь Борис (нынешний Борисполь
под Киевом).
На княжеском дворе в селе Берестово Владимир Мономах во
время своего княжения (1113–1125) строит церковь во имя Спаса, служащую
усыпальницей рода Мономахов, где в 1158 году был погребен занявший
великокняжеский «стол» Юрий Долгорукий (1155–1157). Здесь была применена
оригинальная композиция трехнефного храма, окруженного тремя притворами,
создающими благодаря ступенчатому построению объема, впечатление стремления
масс храма ввысь. Эта композиция была использована в ряде последующих построек,
в том числе в Чернигове, Полоцке, Суздале, Владимире, Юрьеве-Польском и Пскове.
В 1113 году князь Мстислав Владимирович перестроил
древний Никольский монастырь, в котором в 1054 году постриглась мать
преподобного Феодосия Печерского. Став великим князем, Мстислав Владимирович
(1125–1132) построил в 1129 году в Киеве каменную церковь во имя святого Федора
и при ней учредил мужской монастырь, который дети Мстислава в память
погребенного здесь отца назвали «вотчим». В 1131 он построил в Киеве церковь во
имя Пресвятой Богородицы называемой Пирогощей, где находилась чудотворная икона
Богоматери, привезенная из Царьграда.
Как усыпальницу династии князей Ольговичей в Кирилловском
«отнем» монастыре строит собор после кончины князя Всеволода (1139–1146) его
вдова Мария Мстиславна. Здесь в 1194 году был погребен и киевский князь
Святослав (1176–1194) – герой «Слова о полку Игореве». В Кирилловской церкви до
наших дней сохранилась фресковая живопись XII века. В центральной аспиде размещены изображения Евхаристии и
святительского чина, на предалтарных столбах – Благовещения и Сретения, на
южной и северной стенах – Рождества Христова и Успения Пресвятой Богородицы.
Все пространство притвора, в стенах которого устроены аркосолии – ниши для
установки саркофагов, занимает изображение Страшного суда – одно из наиболее ранних
в росписи русских храмов.
В Киеве в середине XII века насчитывалось тринадцать монастырей, а во время пожара 1124 года
сгорело шестьсот церквей.
В Черниговском княжестве князем Святославом Ярославовичем
(1054–1097) по случаю чудесного явления на ели иконы Богородицы в 1060 году на
Болдиной горе был основан Успенский – Елецкий монастырь. В 1069 году им был
основан неподалеку Ильинский – Троицкий монастырь близ пещеры, которую выкопал
себе здесь преподобный Антоний Печерский, когда находился в Чернигове.
Сын Святослава черниговский князь Давид (1097–1123)
строит в Елецком монастыре храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
(1110–1120), близкий по типу Берестовскому храму Владимира Мономаха, а в
детинце рядом с древним Спасо-Преображенским собором возводит в 1123 году
«отний» собор во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, ставший усыпальницей
рода Святославичей. В этих храмах элементы романской архитектуры в виде
аркатурного пояса и полуколонн с капителями творчески переосмыслены
применительно к крестово-купольному храму, приобретя самобытные черты.
Киевским князем Святославом (1176–1194) возводится в
Чернигове грандиозный пятиглавый храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
(1183–1186). Композиция трехнефного ядра, окруженного галереей, восходит к
традициям монументальных киевских храмов времен объединенной Руси.
На рубеже XIII века в
Чернигове на торжище возводится посадская церковь во имя святой Параскевы
Пятницы, имеющая небывалую до той поры динамичную композицию с полукружиями
закомар, уступами вздымающимися к главе храма. Все линии и формы храма, не
имеющие аналогов в византийском и западноевропейском зодчестве, устремлены
вверх, фасады обогащены кирпичными орнаментально-пластическими деталями и
росписями ниш. Возвышенный, одухотворенный образ храма отразил народную любовь
к одной из самых почитаемых на Руси святой – Параскеве Пятнице.
Аналогичную композицию, но усложненную устройством у
западных стен двух цилиндрических башен, имел, видимо, храм во имя Василия
Великого в Овруче (1192), построенный соправителем Святослава киевского –
князем Рюриком Ростиславичем (1184–1194), и церковь во имя Святых Апостолов в
Белгороде (1197).
Собор Спасского монастыря в Новгороде-Северском (начало XIII века) в отличие от всех предыдущих
киево-черниговских храмов имел с запада притвор, а с севера, и юга –
полукруглые выступы, что сближает его с церквями Афона и Сербии. Обращает
внимание изысканная профилировка наружных поверхностей церкви, приобретшая
здесь чрезвычайно усложненный характер. Ту же плановую схему имела и
построенная в самые предмонгольские годы церковь в Путивле.
Полоцкая земля, очень рано выделившаяся в самостоятельное
княжество, создала свою оригинальную архитектурную школу, предвосхитив развитие
храмостроения всей Руси конца XII века. Заняв
в 1139 году киевский «стол», черниговский князь Всеволод Ольгович (1139– 1146)
установил с Полоцким княжеством дружеские отношения и послал туда киевских
строителей, построивших в Полоцке собор Бельчицкого монастыря, взявших
прообразом киевскую церковь Спаса на Берестове. После этого с помощью
византийского мастера были построены: храм-усыпальница в Ефросиньевом монастыре
и церковь на нижнем замке, отличающиеся от традиционных русских храмов
применением одной апсиды вместо трех, необычной формой галерей, заканчивающихся
с востока небольшими часовнями, и мозаикой в полах. Будучи в дальнейшем во
вражде с Киевом, Полоцк не принял статичных композиций киево-черниговской
архитектуры XII века. В
50-х годах XII века в Ефросиньевском монастыре
зодчим Иоанном была построена церковь во имя Спаса – одноапсидный шестистолпный
храм с пониженной западной частью и высоким барабаном на пьедестале,
оформленным кокошниками. Вертикальной устремленности храма способствуют и
застроенные формы закомар и «бровок» над окнами. В динамичной композиции этого
столпообразного храма явно видим черты переосмысления византийской традиции с
использованием мотивов зодчества западных соседей, ставшие ведущими в
храмостроительстве всей Руси конца XII века. В
70-х годах XII века строительство храмов в Полоцкой
земле прекращается, а полоцкие мастера работают в Смоленске, Новгороде, Гродно
и других городах.
В Смоленском княжестве храмостроительство получило особый
размах, обретя много самобытных черт. В 1111 году Владимир Мономах «заложи
церковь у Смоленьске святое Богородице камяну епискупью». Достроил которую уже
в середине XII века князь Ростислав Мстиславович
(1127–1159).
В 1145 году в Смядынском монастыре, основанном до 1138
года на месте, где был убит святой князь Глеб, князь Роман Ростиславович (1159–1180)
возводит собор во имя святых мучеников Бориса и Глеба, близкий по архитектуре
Борисоглебскому собору в Чернигове, а смоленский князь Давид Ростиславович
(1180–1197) строит в том же монастыре в 1181 году церковь во имя Василия
Великого, куда были перенесены в 1191 году из Вышгорода мощи этих святых.
В 1191–1194 годах князь Давид Ростиславович заложил
придворную церковь в честь Чуда Архангела Михаила, о которой в летописи
говорится: «такое же несть в полунощной стране, и всим приходящим к ней дивитися
изрядней красоте ея». Храм имел крестообразный план и пониженные притворы.
Угловые части храма перекрыты половинками коробового свода, примкнутыми к
центральному своду, что обеспечило динамичное трехлопастное завершение стен.
Необычность и красота храма, архитектура которого была близка полоцкому
зодчеству, а также созвучна современному ему готическому искусству Запада,
заключалась в богатой декорировке фасадов сложнопрофилированными пучковыми
пилястрами, поясами аркатуры, нишами и декоративными крестами. Динамично
нарастающие формы закомар и оконных обрамлений создавали впечатление
устремленности масс храма ввысь, в область небожителей, возглавляемых
Архистратигом Михаилом.
Динамичная композиция столпообразных храмов оказалась
востребованной эпохой и с 80–90-х годов до 1230 года в Смоленском княжестве
было построено более десяти храмов, шесть из которых повторяли форму
Михайловской церкви. В тех же формах смоленскими зодчими была возведена в конце
XII века и церковь во имя Спаса в Старой
Рязани.
Во Владимире-Волынском в середине XII века князем Мстиславом Изяславичем,
забравшим переяславских строителей, были построены: собор в честь Успения
Пресвятой Богородицы (1160) и церковь во имя святого Федора, образцами для
которых послужили киевские и черниговские храмы. На Волыни храмостроительство
вновь начинается в 70-х годах уже в Луцке, где в детинце была построена церковь
во имя Иоанна Богослова – небольшой четырехстолпный одноапсидный храм. После
строители очевидно перешли в Турово-Пинскую землю и построили в Турове
трехнефный трехапсидный храм с нартексом, близкий по архитектуре киевским
храмам, но с некоторыми признаками местной школы. К концу XII века строительство храмов на Волыни и в
Турово-Пинской земле прекратилось, и строители перешли в Гродно, где в конце XII века ими были построены несколько церквей,
особенностью архитектуры которых являлась декорация фасадов цветными
шлифованными камнями и керамическими плитками.
В Юго-Западной Руси на Галицкой земле, граничившей с
Польшей и Венгрией, на храмовую архитектуру оказывали влияние как древнерусские
традиции, так и романская архитектура Запада. Князь Володарь Ростиславич
(1084–1124), враждовавший с Киевом, приглашает строителей из Малопольши,
которые возводят в Перемышле церковь во имя Иоанна Крестителя (~1119) -
традиционный четырехстолпный трехапсидный крестово-купольный храм, но с
романской кладкой из тесаных каменных блоков. Аналогичные храмы были построены
в новых княжеских столицах: Звенигороде и Галиче. Храмы обладали уравновешенной
композицией с одной массивной главой, спокойным ритмом закомар и скромной
декоративной отделкой в виде пояска каменной резьбы по верху барабана и апсид.
В середине XII века в
Галиче венгерскими мастерами был построен собор в честь Успения Пресвятой
Богородицы – четырехстолпный храм с галереями по трем сторонам и перспективными
порталами, украшенными белокаменной резьбой, имевшими прямые аналогии в
романском зодчестве Запада. Те же черты романского зодчества прослеживаются и в
церкви во имя святого Пантелеймона в Галиче (до 1200). Церковь в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы, построенная, очевидно, в период
польско-венгерской оккупации Галича (1215–1219), принадлежит уже к чисто
романскому типу удлиненного бесстолпного однонефного храма.
В Тмуторакани преподобным Никоном – игуменом
Киево-Печерским был основан (до 1057 года) монастырь во имя Пресвятой
Богородицы, о чем повествуется в житии преподобного Феодосия: «Великий же Никон
отиде в остров Тмутораканский, и ту обрате место чисто близ града, и сяде на
нем, и Божиею благодатию взрасте место то, и церковь святые Богородицы взгради
на нем. И бысть монастырь славен, иже и доныне есть».
Со второй половины XII века вслед за Киево-Печерским монастырем возникает множество обителей во
всех русских городах. В одном Киеве их было до 17, в Переяславле и Чернигове по
4, в Галицком княжестве и Полоцке по 3, в Смоленске – 5 монастырей.
Храмостроителъство во Владимире-Суздальском княжестве
В IX–XI веках начинается активное заселение
Северо-Восточной Руси, где возникают города: Ростов Великий, Ярославль, Муром,
Суздаль, Белозеро и с 991 года учреждается Ростово-Суздальская епархия.
В 1108 году Ростово-Суздальский князь Владимир Мономах,
основав новый город Владимир, ставший вскоре центром Северо-Восточной Руси,
строит в нем церковь во имя Спаса (1108–1110). Его наследник Юрий Долгорукий
(1125–1157) ведет большую строительную деятельность и возводит «церкви многи».
Для защиты от Волжской Болгарии он основывает новые города-крепости: Звенигород
(1152), Переяславль-Залесский (1152), Юрьев-Польский (1152), Дмитров (1154) и
Москву (1153). В своей резиденции в Кидекше близ Суздаля князь возводит
белокаменную церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба (1152), в
Суздале – во имя святого Спаса (1148), во Владимире и Юрьеве-Польском – во имя
Святого Георгия (1129), в Москве – в честь Рождества Иоанна Предтечи (1147). В
Переяславле-Залесском он строит собор во имя святого Спаса (1152–1157) с
участием галицких мастеров, включивших в архитектуру храма детали из «белого
камня», свойственные романскому зодчеству: аркатурный пояс на уровне хоров и
уступчатые порталы.
Став киевским князем (1155–1157), Юрий Долгорукий
оставляет княжение в Ростово–Суздальской земле своему сыну Андрею (1157–1174),
при котором наступает период рассвета Владимиро-Суздальского храмового
зодчества. Отправившись в 1155 году в «Суждальскую землю», князь Андрей «взя из
Вышгорода икону святое Богородице, юже принесоша с Пирогощею ис Царяграда в
одном корабли». Во время путешествия из Вышгорода в Ростов с привезенной из
Византии чудотворной иконой Божией Матери, написанной по преданию святым
евангелистом Лукой, князь Андрей был остановлен видением Царицы Небесной,
повелевшей поставить Ее образ во Владимире. В память чудесного видения князь
Андрей на этом месте, названном Боголюбовым, учредил обитель и построил храм в
честь Рождества Богородицы (1158–1165).
По летописи святой князь Андрей Боголюбский «уподобился
царю Соломону яко дал Господу Богу и церковь преславну святыя Богородица
Рождества посреде города камену созда и удиви ю паче всех церквей подобна тое
Святая Святых, юже бе Соломон царь премудрый создал, тако и сий князь
благоверный Андрей и сотвори церковь сию в память себе». И в самом деле,
великолепие Боголюбского храма, имеющего драгоценные утварь и иконы, позолоченные
главы, а также окованного по стенам и столбам золотом в подражание знаменитому
Иерусалимскому храму Соломона, делают такое уподобление не лишенным основания.
Покровительство Богородицы Владимирской земле было
запечатлено во многих белокаменных храмах, посвященных Богородице, построенных
в разных городах Владимиро-Суздальского княжества. По видимому благословению
Божией Матери святой князь Андрей переносит столицу во Владимир и строит там
величественный одноглавый собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (1157–1160),
взяв в качестве образа Берестовский храм, возведенный Владимиром Мономахом и в
котором был погребен Юрий Долгорукий.
Лаврентьевская летопись повествует, что в 1160 году
«создана бысть церквы святая Богородица в Володимере благоверным и боголюбивым
князем Андреем, и украси ю дивно многоразличными иконами, и кдрагим каменьем
бе-щисла и ссуды церквными и верх ея послати, по вере же его, и по тщанью его к
святем Богородице, приведи ему Бог из всех земель все мастеры и украси ю паче
инех церквий». Иноземные мастера обогащают фасады собора колоннами и
капителями, аркатурно – колончатым поясом на уровне хоров и на главе храма,
резными камнями. Промежутки между вызолоченными колонками аркатуры они
покрывают росписями с изображением пророков. Эти элементы декора привносят в
облик главного храма новой столицы Руси черты, связывающие его, как и храм в
Боголюбове, с Иерусалимским храмом – главным храмом ветхозаветных времен, образ
которого был возвещен Самим Богом. Блистая золотом, серебром, драгоценными камнями
и жемчугом, украшенный снаружи колончатым поясом и резным камнем, он мог
соперничать со знаменитой Софией Киевской.
На Золотых воротах, сооруженных по примеру древне
престольного Киева, князь Андрей воздвигает церковь в честь положения Риз
Богоматери (1164). Таким образом, Андреем Боголюбским была сделана попытка
создания во Владимире в противовес стольному Киеву нового политического и
религиозного общерусского центра, обладающего, как и Киев, своими святынями,
имевшими общерусское значение: наряду с иконой Пирогощей – икона Владимирской
Божией Матери, наряду с Софийским собором – собор Успения Пресвятой Богородицы.
Характерные особенности владимиро-суздальского храмового
зодчества отчетливо видны в архитектуре церкви Покрова Пресвятой Богородицы на
Нерли (1165), построенной святым князем Андреем по случаю победы над волжскими
болгарами (1164) и в память о погибшем в походе сыне Изяславе (+1165). Это был
первый храм на Руси в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы,
установленного незадолго до этого на русской земле в знак особого
покровительства Богоматери православным христианам. В дальнейшей истории Руси,
наполненной борьбой с иноземными завоевателями, посвящение празднику Покрова
становится традиционным для храмов, возводимых после победы над врагами.
Храм Покрова на Нерли – одно из самых выдающихся
произведений древнерусского церковного зодчества, в котором блестяще решена
задача создания образа храма, посвященного заступничеству Пресвятой Богородицы.
Ощущение небесной невесомости и устремленности храма ввысь создает поток
вертикальных линий в пластике стен и главы, а также вытянутая форма окон.
Ощущение легкости, воздушности верхней части храма обеспечивается за счет
уменьшения толщины стен и ее дематериализации резными деталями, среди которых находятся
женские лики, указывающие на посвящение храма Богородичному празднику. Образ
Приснодевы Марии, спасающий православный народ своим белоснежным покровом,
создает белизна стен каменного храма, в художественном оформлении которого
древнерусские мастера отказались от использования живописных приемов,
характерных для Успенского собора.
В 1185–1189 годах брат святого князя Андрея – Всеволод
(1176–1212) увеличивает пострадавший от пожара Успенский собор, обстроив его
наподобие черниговского Благовещенского храма с трех сторон широкой галереей,
где в специальных нишах – аркосолиях устанавливались гробницы владимирских
владык и князей. Ставший пятинефным, собор увенчался торжественным пятиглавием,
выделявшим его как главный храм Владимира – стольного града великой Руси и
придавшим ему облик мирополичьего собора времен Ярослава Мудрого. В 1408 году
собор был расписан выдающимися русскими иконописцами Андреем Рублевым (+1480?)
и Даниилом Черным (+1430).
В 1192 году великий князь Всеволод и епископ Иоанн
основали во Владимире мужской монастырь и воздвигли в нем собор в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, а княгиня Мария женский «княгинин» монастырь с
собором в честь Успения Пресвятой Богородицы, где она и была погребена вскоре
после своего пострижения.
В 1194 году после смерти киевского князя Святослава
Всеволод, соперничая со своим «дуумвиром» Рюриком Ростиславичем, строит на
своем княжеском дворе во Владимире великолепный собор во имя святого
великомученника Дмитрия Солунского (1194–1197). В отличие от «элитарных» типов
храмов, созданных Рюриком и Давидом Ростиславичами, Дмитриевский собор был
построен в традициях общерусского направления храмовой архитектуры. Великолепие
отделки собора отражено в словах летописи: «чюдно ведами, иже бе извну камень
той около всея церкви резан и връх ея позлети». Дмитриевский собор по типу
близок церкви Покрова на Нерли, но участок аркатурного пояса, стены выше него и
барабан главы сплошь покрыты резными изображениями, тематика которых отражает
идею храма как образа мира и полноту творения Божия, но возможно также, что она
была навеяна и образами «Слова о полку Игореве» (1185). В их числе: святые
мученики Борис и Глеб – небесные покровители владимирских князей, библейские
цари Соломон и Давид, знаменитый полководец Александр Македонский, резное
изображение самого великого князя Всеволода. Кроме того, там находятся
изображения растений, птиц, фантастических животных, античных персонажей.
Сыновья князя Всеволода – владимирский князь Константин
(+1219) «весьма заботился о создании прекрасных Божьих церквей и много их
создал в своей области, наделяя святыми иконами, книгами и разными
украшениями». Такова, например, церковь, построенная им в Ярославле в честь
Преображения Господня (1216). Благоверный великий князь Георгий Всеволодович (+1238)
«создал многие церкви и монастыри святой Богородицы в Нижнем Новгороде (1129),
украшая их бесценными иконами и книгами». В 1222–1225 годах в Суздале на месте
древнего собора, построенного около 1162 года еще Владимиром Мономахом, он
возводит новый собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы «краснейшю первыя».
В основанном им в 1227 году Ризоположенском монастыре спасалась дочь Михаила
черниговского княгиня Ефросиния (+1250), прибывшая невестой суздальского князя,
но не заставшая его в живых.
Святослав Всеволодович возводит в Юрьеве-Польском церковь
«чудну, резанным камнем» во имя святого великомученика Георгия (1230–1234).
Ниже аркатурно-колончатого пояса стены собора были украшены резьбой с
растительным орнаментом, а выше него размещались многочисленные фигурные
композиции на библейские сюжеты, характерные для внутренних росписей.
К середине XIII века во
Владимиро-Суздальском княжестве было уже довольно много монастырей: в Ростове –
два, в Суздале – четыре, во Владимире – пять, в Переславле, в Костроме, Нижнем
Новгороде и Ярославле – по одному.
Расцвет Владимиро-Суздальской земли был прерван в 1237
году монголо-татарским нашествием, во время которого многие храмы были
разграблены и сожжены. Однако были также случаи обращения татар в христианство
и строительство ими храмов и монастырей. Так, например, племянник хана Берга,
тронутый речами Ростовского епископа Кирилла, уехал в Ростов, крестился именем
Петра и, приняв перед смертью пострижение, основал там монастырь во имя святых
апостолов Петра и Павла (1290). Родоначальник Годуновых мурза Чет построил в
Костроме Ипатьевский монастырь.
В 1240 году ханом Батыем был разрушен Киев. По
благославлению Божией Матери, бывшему в видении Митрополита всея Руси Максима
(+1305), святитель переносит в 1299 году Митрополию из Киева во Владимир.
Успенский собор становится главным собором всея Руси, а его архитектурный образ
– образцом для будущих многочисленных подражаний.
Архитектура владимиро-суздальских храмов отличается
четкостью и утонченностью форм, декоративным богатством белокаменной резьбы.
Синтезировав в себе черты романского стиля, зодчества ряда христианских стран,
она обрела свой самобытный характер, отвечающий национальным особенностям и
высокой духовности русского православного народа. Недаром именно к образцам
владимиро-суздальского зодчества обратилась Москва в период становления русской
национальной храмовой архитектуры.
Храмостроительство в Новгородско-Псковской земле
Храмостроительство в Новгороде XI – начала XII веков
развивалось в тесной связи с храмостроительством Киева – столицы тогда еще
единого древнерусского государства. Поэтому византийские приемы, впервые
примененные в южнорусских храмах, в Новгород уже попадали в русифицированном
виде, обладая многими самобытными чертами, характерными для условий
строительства на Руси. В то же время тесные торговые связи Новгорода и Пскова
со многими странами Запада и Востока обеспечили близость некоторых элементов их
архитектуры.
В начале XII века в
Новгороде удельный, а потом великий князь Мстислав Владимирович (1096–1117)
возводит каменную церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на Городище
(1103), а когда роль княжеской власти снижается, он создает напротив детинца
новый княжеский центр. На Ярославском дворище он строит в традициях киевского
зодчества, увенчанный как и София Киевская мощным пятиглавием, величественный
собор, посвященный святителю Николаю (1113) в память явления иконы святителя на
острове Липно близ Новгорода и чудесного исцеления от нее. На месте обретения
иконы князь Мстислав основал Липенский монастырь, построил в нем церковь,
посвященную святителю Николаю. О построении этих храмов говорится в повести
«Чудо св. Николы о князе Мстиславе». Здесь читаем: «потом же князь Георгий,
именованный Мстислав, но по завещанию св. чудотворца Николы, стяжая веру к
целебоподательному образу его, сотвори церковь каменну с бабою своей
благоверною княгинею Анною на дядином Ярославе дворе прекрасну и пространну во
имя великого архиерея и чудотворного отца святителя Николы и подписа ю стенным
изугравством и чудотворную ону икону там постави: тако же и на месте потока
Липенского, ид еже чудотворная та икона обретеся, церковь воздвиже в его же
святое и многочудесное имя каменну же и монастырь возгради и братию собора и
селы одарова».
Ни в одном русском городе, в том числе Киеве и Владимире,
не было столько монастырей, сколько в Новгороде. К началу XIII века там было одиннадцать мужских и девять
женских монастырей. Как в южной Руси главным монастырем считался
Киево-Печерский монастырь, а в северо-восточной – владимирский Рождественский,
так и в Новгороде главным считался Юрьевский монастырь, основанный великим
князем Ярославом (~1030). В 1119–1130 годах игумен Кириак, ставший впоследствии
архимандритом, и князь Всеволод Мстиславич (1117–1136) возводят в нем грандиозный
собор во имя святого великомученика Георгия, ставший княжеской усыпальницей.
Образ храма, посвященного святому воину Георгию Победоносцу, исполнен
богатырской силы благодаря кубической форме с крупными членениями фасадов и
мощной центральной главе, украшенной скромным аркатурным пояском. Ниши на
фасаде были заполнены фресками с изображением фигур святых, которым отвечали и
внутренние росписи собора, покрывавшие в древности все стены.
Преподобный Антоний Римлянин (+1147), прибывший в
Новгород из Рима, спасаясь от гонений, в 1106 году, воздвигает в трех верстах
от кремля сначала деревянную, а затем каменную церковь (1117–1119) в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, близкий по типу Николо-Дворищенскому собору.
Здесь преподобным Антонием был устроен монастырь (Антониев), в котором он был
произведен в игумены в 1131 году. Фресковая живопись Рождественского собора
Антониевского монастыря, выполненная в 1125 году, свидетельствует о
взаимодействии с романской живописью Западной Европы, придавшей живописи Новгорода
большую экспрессию по сравнению с живописью византийско-киевского круга.
В Новгородской земле было основано еще несколько
известных монастырей: в XI веке
преподобным Кириллом в Олонецком крае близ Каргополя – Челмогорский, в начале XII века в Великом Устюге – Гледенский-Троицкий,
в конце XII века преподобным Варламом (+1192) -
Хутенекий монастырь близ Новгорода. Всего в Новгороде было до 20 монастырей, а
по всей новгородской земле их было более 30.
Сын Мстислава, удельный князь Всеволод-Гавриил построил в
Новгороде две каменные церкви: во имя ангела своего сына – святого Иоанна
Предтечи (1127) и в честь Успения Пресвятой Богородицы на Торговище (1135) и
одну каменную соборную церковь во имя Святой Троицы в Пскове (до 1138 г.).
В 1136 году во главе «Господина Великого Новгорода»,
превратившегося в вечевую республику, встал новгородский архиепископ и посадник
из горожан. Они-то и стали основными заказчиками в строительстве каменных
храмов наряду с купеческими объединениями или жителями одной улицы – уличанами.
Это предопределило изменение типа вновь строящихся храмов. Приходские храмы,
возводимые на средства горожан, имеют небольшие размеры, сомасштабные жилой
застройке. Это, как правило, четырехстолпные трехапсидные одноглавые храмы с
позакомарным покрытием, отличающиеся пластичностью форм, будто вылепленных
человеческой рукой. Уступая в размерах княжеским храмам прошлой поры, они в то
же время не теряют впечатления монументальности и величия при простоте своего
внешнего облика и скупости декора.
Образцами подобных храмов могут служить: церковь во имя
святого Георгия в Старой Ладоге (1165) и церковь во имя святых апостолов Петра
и Павла на Синичей горе в Новгороде (1185–1192), построенная жителями Лукиной
улицы. Аналогичную типологическую схему имел и последний княжеский храм
Новгорода – церковь в честь Спаса Преображения Господня на Нередице (1198),
возведенная князем Ярославом Всеволодовичем (1138–1192). Лаконичные формы и
силуэт храма, поставленного на невысоком холме, как нельзя лучше соответствуют
окружающему равнинному ландшафту. По тому мастерству, с которым древнерусские
зодчие умели точно находить соответствие образа храма природным особенностям
окружающей местности, церковь Спаса Преображения на Нередице может быть
сравнима только лишь с храмом Покрова на Нерли. Церковь на Нередице приобрела в
новейшее время мировую известность и благодаря своим фресковым росписям,
покрывавшим все внутренние поверхности стен и сводов храма. В притворе
находилось изображение князя Ярослава Всеволодовича, подносящего сидящему перед
ним Христу модель храма. Фрески обладали не только самостоятельной ценностью,
но и прекрасно согласовывались со структурой храма, образуя синтез архитектуры
и живописи.
В церкви во имя святой Параскевы Пятницы (покровительницы
торговли) на Ярославовом дворище, перестроенной в каменную в 1207 году
«заморскими» новгородскими купцами, знакомыми с архитектурой Западной Европы,
проявились черты, говорящие о поиске новых выразительных средств, о стремлении
показать вертикальную устремленность храма. Пониженные объемы притворов храма,
трехлопастное завершение основного объема и пучковые лопатки сближают его с
церковью во имя Михаила Архангела в Смоленске.
Необычной для архитектуры новгородских храмов конца XII – начала XIII века была и церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в Перынском скиту. Одноглавая, с одной пониженной апсидой и
трехлопастным завершением фасадов, не расчлененных лопатками, она предвосхитила
архитектурные формы, характерные для новгородского зодчества конца XIII – первой половины XIV века.
В период монголо-татарского нашествия на Русь полчища
хана Батыя повернули вспять, не дойдя до Новгорода, а святой благоверный князь
Новгородский Александр Невский (1252–1263) отразил в 1240–1242 годах нападение
шведов и немцев. В связи с этим непрерывное развитие храмостроительства в XIII–XIV веках
позволило сохранить здесь преемственную связь с древнерусским зодчеством XI–XII веков. Но
нарушение связи с другими княжествами заставило решать новые задачи, опираясь
на собственный опыт и опыт западных и северных соседей, связи с которыми не
прекращались и в годы ордынского ига.
В XIII веке
Новгород был самым большим русским городом. Входя в Ганзейский союз, он был
тесно связан с Европой торговыми, церковными и культурными связями. Отразив нападение
немцев и шведов и расширив свои владения на севере и востоке, во второй
половине XIV века Новгород достигает наивысшего
расцвета. Перед новгородцами, славившими Христа Спасителя, возникает задача
придания Божиим храмам более праздничного вида. Фасады церквей украшаются
трехлопастными кривыми арочками, повторяющими форму покрытия, на апсидах
появляются декоративные двухъярусные аркады. В это время в Новгороде
обосновывается выдающийся византийский художник Феофан Грек (1340 – после
1405), работают греческие и сербские мастера. Первым каменным храмом,
построенным в Новгороде после победы над шведскими и немецкими завоевателями,
была небольшая церковь во имя святителя Николая в Липне (1292), возведенная
сыном святого Александра Невского князем Андреем (+1304). В праздничном облике
храма отражено чувство радостного благодарения жителей Новгорода своему
Небесному заступнику за дарованную Богом победу. Выразительное трехлопастное
завершение нерасчлененных лопатками фасадов, впервые примененное в церкви Перынского
скита, здесь дополнено аркатурным фризом. Оконные проемы и ниши на фасадах
расположены крестообразно, в нишах размещены скульптурные изображения крестов.
Над входами в храм на фоне белоснежных стен сверкают яркими красками фрески,
внутри храм покрыт росписью, выполненной русскими мастерами.
В XIV веке
размеры храмов увеличиваются, основным типом становится четырехстолпный
одноапсидный одноглавый храм с трехлопастным и восьмискатным покрытием. В
облике храмов и их росписях чувствуются общие для всей Европы того времени тенденции
предренессансной культуры.
В посадской
церкви во имя Спаса Преображения на Ильиной улице (1374) ощутимо выражена
вертикальная устремленность храма, создаваемая остроконечным покрытием,
вертикалями членящих фасад лопаток, а также за счет нарастания кверху
количества декоративных элементов. Все стены, барабан и апсида испещрены
разнообразными нишками, бровками над окнами, розетками, поясками. Характерными
элементами убранства фасадов являются рельефные кресты «голгофы». Внутри храм
сохранил фрески (1378) работавшего на Руси выдающегося византийского иконописца
Феофана Грека. Близки ему церкви Феодора Стратилата на Ручью (1360), Петра и
Павла в Кожевниках (1406).
«По обещанию
великого князя Дмитрия Донского», данному во время Куликовской битвы, и «по
завету о победе на Мамая» в Новгороде в 1381 году были возведены два каменных
храма: во имя святого Дмитрия Солунского в Славкове и в честь Рождества
Христова на Поле.
О количестве
монастырей около Новгорода говорит тот факт, что в 1386 году новгородцы,
собираясь защищать свой город от войск Дмитрия Донского, сожгли вокруг города
24 монастыря. Особенно известны были по святости подвижников монастыри:
Вишерский, основанный в 1418 году великим подвижником и столпником Саввой
Вишерским (+1460) и Клопский, прославленный подвигами юродивого Михаила
Клопского (+1452), происходившего из рода московских князей.
Множество
монастырей было основано на Севере: преподобным Вассианом – Каргополь-ский (XIII век), преподобным Кириллом –
Челмогорский (конец XIII в.), преподобными Сергием и Германом – Валаамский (1329), преподобным
Арсением – Коневский (конец XIV в.), преподобным Лазарем – Мурманский, преподобным
Дионисием – Глушицкий (начало XV в.), преподобными Савватием, Германом и Зосимой –
Соловецкий (1429).
Сопротивление
независимого Новгорода усилению Москвы в конце XIV века выразилось в характере
зодчества, отличающегося привязанностью к излюбленным композиционным решениям,
поэтому XV век не приносит ничего нового в удачно найденные архитектурные образы
новгородских храмов. Так, в 1454 году архиепископом Евфимием была построена
новая церковь во имя Иоанна Предтечи на Опоках, которая не только по плану, но
и по внешнему облику повторяла старую церковь XII века.
До середины XIV века Псков входит в состав
Новгородских земель и архитектура псковских храмов является частью новгородской
архитектуры. В середине XII века архиепископ Новгородский Нифонт (1130–1156) строит собор в честь
Спаса Преображения в древнем Мирожском монастыре (начало XI века), ставшим центром отделившейся
от Киевской Митрополии Новгородской Церкви. Грек по происхождению, архиепископ
Нифонт предлагает для собора крестообразную структуру с пониженными угловыми
ячейками, характерную для Греции и восходящую к таким ранним крестообразным постройкам,
как мавзолей Галлы Плацидии (V век) в Равенне. Интерьер собора расписан фресками, почти
полностью сохранившимися до наших дней. В соборе переписывались книги, велись
летописи. По формам Спасо-Преображенскому собору близок собор в честь Рождества
Пресвятой Богородицы Снетогороского монастыря (1311), внутри также расписанный
фресками (1313).
Княжеской
постройкой является собор во имя Иоанна Предтечи (1243) Ивановского женского
монастыря, служивший усыпальницей псковских княгинь. Он сохранил основные черты
шестистолпных русских храмов XII века с позакомарным покрытием, тремя апсидами,
структурным членением фасадов плоскими лопатками и скромным декором главы
аркатурным пояском.
В XIII веке Псков занят борьбой с иноземными
завоевателями. Святой благоверный князь псковский Довмонт (Тимофей) (1266–1299)
не раз спасал Псков от нападений литовских, датских и немецких рыцарей и в
благодарность Господу, Именем Которого он одерживал победы, князь Довмонт
возвел рядом с псковским кремлем около 20 храмов в честь тех святых, в дни
памяти которых он одерживал победы.
В 1346 году
Псков обретает независимость от Новгорода, оставаясь в его церковном
подчинении. В XIV веке Псков переживает период бурного развития, в нем было построено 24
храма, а к концу XV века он превращается в огромный город, о котором поляк Пиотровский писал
в 1581 году: «Боже, какой большой город! Точно Париж».
В 1365–1367
годах в псковском кремле на месте древнего храма во имя Святой Троицы,
основанного по преданию святой княгиней Ольгой и претерпевшего в дальнейшем ряд
перестроек, мастером Кириллом возводится новый каменный храм, красотой и
величием превосходящий прочие церкви Пскова. Троицкий собор кремля стал для
псковичей таким же центром всей городской жизни, как и Софийский собор для
новгородцев.
Для периода
политической самостоятельности Пскова (1348–1510) типичными становятся
построенные по заказам горожан небольшие четырехстолпные церкви с одной главой
на повышенных подпружных арках, которые обрастали со всех сторон со временем
приделами, галереями, крыльцами, звонницами, создавая живописный, но гармонично
уравновешенный ансамбль. Такова, например, церковь Николы со Усохи (1535).
Типичным декоративным убранством барабанов глав псковских храмов является
скромная «каменная кайма» в виде чередующихся полос треугольных и прямоугольных
впадин, увенчанных арочным пояском. Выделанные во внутреннюю поверхность сводов
голосники обеспечивали прекрасную акустику в храмах.
В связи с
применением западной манеры звона – раскачиванием колокола, а не его языка, широкое
распространение в псковских храмах в XV–XVI веках приобрели звонницы, имеющие вид стены с прорезанными в верхней
части проемами для подвески колоколов. Эти звонницы располагались отдельно,
примыкали к храму или ставились прямо на его стену. Большое количество пролетов
звонниц церквей Богоявления с Запсковья (1495), Успения с Пароменья (1521) или
большой звонницы Псково-Печерского монастыря (XVI век) является специфически русской
чертой, связанной с применением для звона нескольких различных по размеру
колоколов.
Кроме
Мирожского монастыря Псковская земля прославлена такими древними обителями, как
Псково-Печерский монастырь, основанный в 1473 году старцем Марком и достигший
своего расцвета при игумене Корнилии (+1647), и Крыпецкий монастырь, основанный
среди лесов и болот в 1487 году монахом-нестяжателем преподобным Саввой
(+1495).
Архитектуре
Новгорода и Пскова был чужд узкий национализм, стремление обособиться от
архитектуры других стран. Для решения своих задач они использовали и некоторые
приемы зарубежной христианской архитектуры, выбирая из них наиболее подходящее
и видоизменяя в соответствии со своими взглядами.
«Одна
особенность придает зодчеству новгородцев и псковичей совсем исключительное
очарование, – пишет историк русской архитектуры И. Грабарь (1871 – 1960), – их
здания не вычерчены по линейкам и угольникам, а как бы рисованы от руки. Как в
общем контуре их, так и в каждой линии, в закруглении свода, в изгибе купола, в
обработке оконного наличника, - везде чувствуется свободный, ничем, кроме
вдохновенья, не связанный рисунок, благодаря которому в целом сооружении нет ни
одного засушенного места, а все живет и радует глаз».
В 1478
Новгород, а в 1510 году Псков были присоединены к централизованному Русскому
государству со столицей в Москве. Их храмостроительство, внеся в сокровищницу
духовной культуры Руси бесценный вклад, постепенно приобрело общерусские черты.
Псковские зодчие, работая в XV–XVI веках в Москве, способствовали своим искусством обогащению общерусской
архитектуры.
Храмостроителъство в Тверском и раннемоасовском княжествах
В конце XII – начале XIV века центр политической и духовной
жизни Руси переместился из Владимиро-Суздальской земли на северо-запад, к
Москве и Твери. После смерти великого князя Владимирского Андрея Александровича
(+1304) претендентами на великое княжение стали Михаил Ярославич Тверской
(1285–1305) и Юрий Данилович Московский (1303–1325).
В
стремившемся к самостоятельности Тверском княжестве, обособившемся еще в 1247
году и выступавшим в конце XIII века как центр сопротивления ордынскому игу, мастерами из
западнорусских земель строится собор в честь Спаса Преображения (1285–1289). В
древнерусском храмостроительстве особое идейное значение имели как посвящение
храма, дни его закладки и освящения, так и соответствие архитектурных форм
своему прообразу. Посвящение собора Святому Спасу способствовало притоку
населения из соседних Ростово-Суздальских земель, разоряемых ордынцами, так как
Спасу были посвящены соборы многих соседних городов, в том числе
Переяславля-Залесского, Углича, Торжка. Образ Спаса был важнейшим и для
соперничавшей с Тверью Ростовской земли. Малое освящение еще недостроенного
храма было совершено в 1287 году и собор таким образом стал первым каменным
храмом, появившимся в северо-восточной Руси после монголо-татарского нашествия.
Окончательно собор был освящен восьмого ноября 1290 года «на Собор Архангела
Михаила» – Небесного покровителя тверского князя Михаила Ярославича. Выбрав
архитектурным прообразом для тверского Спасского собора одноименный собор в
Переяславле-Залесском – удельной столице великого князя Дмитрия Александровича,
тверской князь стремился утвердить значение Твери как нового
религиозно-политичекого центра.
Москва,
основанная как княжеский город Юрием Долгоруким в 1153 году на месте более
древних поселений славян-вятичей, имела к началу монголо-татарского нашествия
уже многочисленные храмы и монастыри, сожженные во время осады в 1237 году,
когда Москву защищал от войск Батыя князь Владимир Юрьевич. После погрома
московский князь Михаил Хоробрит – брат святого Александра Невского, ставит на
Боровицком холме церковь во имя своего небесного покровителя Михаила Архангела,
а старший сын Александра Невского – Андрей возводит там церковь в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Младший сын
святого князя Александра Невского святой благоверный князь Даниил (1261–1303)
получил Москву в удельное княжение около 1276 года. В пяти верстах от Кремля на
дороге из Орды князь воздвиг монастырь (ок. 1300) во имя своего небесного
покровителя - преподобного Даниила Столпника с храмом во имя Спаса, а на
территории позднейшего Китай-города основал монастырь в честь Богоявления
(1292). Первые московские обители были сооружены из дерева и окружены
деревянной оградой. В дальнейшем Данилов монастырь был перенесен сначала в
Кремль, затем на Крутицы, а на прежнем месте восстановлен только в XVI веке царем Иоанном IV после видений, бывших его отцу и деду
от святого князя Даниила.
Присоединение
Переяславской земли (1301), Коломны (1300) и Можайска выдвинуло Московское княжество
в ряд наиболее значительных. Благодаря дальновидной политике в отношениях с
татарами младшего сына Даниила - Иоанна I (Калиты) (1305–1340), обеспечивавшей
мирную жизнь, к середине XIV века Московское княжество заняло ведущее место среди других русских
княжеств и после разгрома ордынцами восставшей Твери московские князья в 1328
году получают от хана Узбека (+1342) титул великих князей. В течение семи лет
Иоанном I, сознающим значение храмостроительства в поднятии престижа княжества,
были возведены в Москве семь каменных храмов в традициях владимиро-суздальского
зодчества, причем три храма были посвящены наиболее почитаемым на Руси образам:
Спаса, Богородицы и Михаила Архангела.
В 1325 году
Митрополит всея Руси Петр (1308–1326) ввиду роста Москвы перенес туда из
Владимира митрополичью кафедру и заложил кафедральный собор в честь Успения
Пресвятой Богородицы (1326) «на площади, у своего двора» над могилой князя Юрия
Даниловича (+1324), убитого в Орде. Это был небольшой одноглавый храм с тремя
притворами, образцом для которого послужил Георгиевский собор в
Юрьеве-Польском. Их сходство служило подтверждением идеи преемственности власти
московских князей от владимирских. Посвящение собора празднику Успения
Пресвятой Богородицы отвечало значению Москвы как третьего после Киева и
Владимира престола Богородицы в русской земле. К празднику Успения были
приурочены день закладки (4 августа) и день освящения (14 августа) собора.
Закладка собора была осуществлена в день памяти «семи спящих отроков эфесских»
– христианах из Эфесса, чудесным образом уснувших во время гонений на
христианство и пробудившихся лишь несколько веков спустя, что соответствовало
настроениям русских людей, страдавших от ордынского ига. В 1395 году в собор
переносится из Владимира чудотворная икона Владимирской Божией Матери, что еще
больше увеличивает значение кафедрального собора, ставшего главной святыней
всей русской земли. Как Новгород был городом Святой Софии, Псков – Святой
Троицы, так и Москва стала землей Пресвятой Богородицы. Пограничная с Литвой
речка Угра называлась поясом Богородицы.
По
благословлению Митрополита Феогноста (1328–1353) в московском Кремле
возводятся: после похода на Псков – небольшая одноглавая восьмигранная
столпообразная церковь «под колоколы» во имя небесного покровителя Иоанна I – святого Иоанна Лествич-ника (1329),
Петроверижский придел Успенского собора над гробницей Митрополита Петра (1329),
перестраивается в каменный придворный княжеский собор и основывается монастырь
во имя Спаса «на Бору» (1330), а также перестраивается обветшавший каменный
собор во имя Архангела Михаила (1333) в память об избавлении от голода. В 1340
году в нем был погребен великий князь Иоанн I (Калита) и собор становится с этих
пор княжеской, а затем и царской усыпальницей. Комплекс каменных храмов
Соборной площади был построен боярином Протасием, приехавшим из Владимира еще
при святом князе Данииле Московском.
В 1344 году
Успенский собор был расписан греческими иконописцами, приглашенными
Митрополитом Феогностом, а в 1346 году русские мастера «кончали подписывати три
церкви камены на Москве: святаго Спаса и святаго Михаила и святаго Иоанна
Лествичника». В тот же год были отлиты пять колоколов по числу каменных храмов,
существовавших тогда в московском Кремле.
Около 1340
года на торговом посаде сооружается собор Богоявленского монастыря. В Кремле на
месте конюшенного двора хана Джанибека, подаренном Митрополиту всея Руси
Алексию (1354–1378) в память чудесного исцеления от слепоты царицы Тайдулы в
день празднования Чуда Архангела Михаила в Хонех, был построен собор (1365) и
устроен монастырь (Чудов), ставший резиденцией Митрополита. Попечением
Митрополита Алексия были основаны также: в Москве монастырь во имя Спаса
(Андронников) (1360) – по обету, данному им во время бурного плавания в
Царьград, в Серпухове – Владычный (1362), а также восстановлены близ Владимира
Константинов (1362) и в Нижнем Новгороде – Благовещенский (1367) монастыри.
Духовной
твердыней, на которую смогла опереться новая столица, стала обитель во имя
Святой Троицы, основанная в 1345 году преподобным Сергием, игуменом Радонежским
(1314–1392). Эта обитель стала главной святыней Москвы и образцом для других
монастырей. Во второй половине XIV века после прославления Сергиевой пустыни вокруг
Москвы появляется много новых монастырей: Алексеевский, Андронников, Симонов,
Петровский, Рождественский, Сретенский и Новинский. Москва была опоясана ими
как духовной оградой. При жизни преподобного Сергия было основано более 30
новых монастырей, в том числе: Борисоглебский близ Ростова (1363), Высоцкий
близ Серпухова (1374), Голутвин близ Коломны (1379), Симонов под Москвой
(1379), Старомынский (1379), Киржачский (1380), Дубенский (1381),
Николо-Угрешский (1380). Им было воспитано более 20 учеников и у него было
множество последователей, которые разошлись по всему государству и основали
многочисленные монастыри, в том числе: Николо-Пешношский, Прилуцкий,
Саввино-Строжевский, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Чухломской, Нуромский и
многие другие. Около основанных в пустынных местах монастырей возникали новые
города. Например, Устюг возник около Гледенского монастыря, Ветлуга – около
Варнавинского, Кашин – около Калязинского.
Особенно
возросла роль Москвы после победы объединенных сил Руси над Ордой на Куликовом
поле (1380) под руководством великого князя Дмитрия Донского (1359–1389).
Духовное и культурное возрождение Руси после победы выразилось и в расцвете
храмового зодчества.
Возвращаясь
после битвы с Мамаем, великий князь Дмитрий поставил деревянный храм во имя
святителя Николая и устроил монастырь на том месте, где во время похода на
битву из Москвы явилось ему чудесным образом икона святителя Николая. «И нарече
оное место прозванием Угреша», так как сердце его там согрелось радостью от
чудес, совершенных явившимся образом великого Чудотворца. Каменный храм в
Николо-Угрешском монастыре был сооружен в XV веке.
Над братскими
могилами погибших на Куликовом поле были поставлены в начале деревянные храмы –
памятники, получившие название «на Кулишках». На вершине Алабовой горы в Москве
над могилой устроили монастырь во имя Иоанна Предтечи. В церкви в честь
Рождества Христова Симонова монастыря были погребены монахи Пересвет и Ослябя,
посланные на битву преподобным Сергием Радонежским.
Покровительство
Богородицы в освободительной борьбе русских земель под руководством Москвы было
отражено в массовом строительстве храмов, посвященных богородичным праздникам.
Соборы в честь Успения Пресвятой Богородицы были воздвигнуты в Старо-мынском
(1379), Дубенском (1381), Симоновском (1405), Голутвинском (1381) монастырях;
собор в честь Зачатия Пресвятой Богородицы (1381) в Высоцком монастыре.
Рождеству Богородицы был посвящен собор Бобренева монастыря (1381) близ Коломны
и надвратная церковь Андроникова монастыря. Вдовой великого князя Дмитрия
Донского преподобной Ефросинией (+1407) в 1392 году в Московском Кремле был
основан Вознесенский монастырь и возведена белокаменная церковь в честь
Рождества Богородицы в традициях владимиро-суздальского зодчества. Церковь была
расписана в 1395 году выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном
Черным.
В 1397 году
на княжеском дворе Кремля была возведена церковь в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы, расписанная в 1405 году. По свидетельству летописи «мастера бяху
Феофан иконик Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев».
Иконостас Благовещенского собора является древнейшим из дошедших до нас высоких
иконостасов, лицевой состав деисусного чина которого впервые был определен
Феофаном Греком. Центральное ядро «Деисуса» состоит из икон с изображением
Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила, апостолов
Петра и Павла. Еще шесть икон были посвящены святым, соименным московским
великим князьям: святителям Василию Великому и Иоанну Златоусту, мученикам
Георгию и Дмитрию, столпникам Симеону и Даниилу. Известный русский искусствовед
В. И. Лазарев (1897–1976) писал, что «мы присутствуем здесь при рождении
классической формы русского иконостаса, сделавшейся исходной точкой для всего
дальнейшего развития».
Сын Дмитрия
Донского князь Юрий Дмитриевич (1389–1434) в своей родовой вотчине –
Звенигороде строит собор в честь Успения Пресвятой Богородицы «на Городке»
(1399) и собор в честь Рождества Христова (1405) в Саввино-Сторожевском
монастыре. Другой сын – князь Андрей Дмитриевич на месте чудесного явления
иконы Колочской Богоматери основал близ Можайска Колочский монастырь, собор
которого был посвящен Успению Пресвятой Богородицы (1413). В можайском
монастыре им был воздвигнут храм во имя Бого-отец Иоакима и Анны.
В 1422 году
после канонизации преподобного Сергия Радонежского его ученик игумен
Троице-Сергиевского монастыря Никон (+1426) над гробницей преподобного Сергия
«церковь прекрасну воздвиже» во имя Святой Троицы. Иконостас Троицкого собора
выполнил выдающийся русский иконописец преподобный Андрей Рублев. Последние
годы своей жизни Андрей Рублев проводит в Спасо-Андронниковом монастыре, где,
очевидно, в 1410–1427 годах совместно с московским купцом Ермолой (в монашестве
Ефремом) участвует в возведении собора в честь Спаса Преображения в традициях
владимирской школы, однако с пирамидальным динамичным объемом, близким
черниговской Пятницкой церкви.
Небольшие по
размеру храмы раннего периода Московского княжества воплотили в своем облике
как лучшие черты предшествующего периода развития русской храмовой архитектуры:
центричность и динамизм композиции, устремленность храма ввысь за счет
повышенных подпружных арок, так и чисто московские приемы: широко расставленные
подкупольные столбы, ряд кокошников у основания главы храма и горизонтальные
пояса резного белокаменного орнамента вместо аркатурного фриза. Возвышенный,
гармоничный образ храмов воплощал духовный подъем русского народа, славившего
Создателя за избавление Руси от монголо-татарского ига. В XIV веке Москва объединила вокруг себя не
только русские княжества, но и синтезировала их многовековой опыт
храмостроительства, заложив основу развития общерусского направления храмового
зодчества и специфической формы высокого иконостаса.
Храмостроительство в западной Руси и Литве XIV–XVI веков
В языческую Литву
христианство проникало с двух противоборствующих сторон: из православной Руси и
католических Польши и Ливонии. Русские, принесшие в Литву христианскую веру еще
в XI веке, часто
объединялись с литовцами для совместной борьбы с немецкими рыцарями. При основателе
единого Литовского княжества Гедимине (1316– 1341) под литовское влияние
попали Полоцкая, Витебская, Турово-Пинская, Минская, Волынская и Киевская
земли. Таким образом в XIV веке сформировалось своеобразное Литовско-Русское государство, претендовавшее
на ведущую роль в объединении всей Руси.
Будучи
язычником, великий литовский князь Гедимин оказывал, однако, полную
веротерпимость к жителям подвластных ему территорий. Когда в 1321 году он
переносит столицу Литвы из Новогрудка в поселение Вильно (Вильнюс), находящееся
на границе литовских и русских земель, то православными жителями там была
построена деревянная церковь во имя святителя Николая, замененная в 1350 году
на каменную.
Сын Гедимина
великий князь Литовский Ольгерд (1345–1377) (в крещении Александр) был дважды
женат на русских княжнах (витебской и тверской), попечением которых было
построено множество православных церквей, в том числе: первая каменная церковь
во имя святой мученицы Праскевы Пятницы (1345) и собор в честь Успения
Пречистой Богородицы (Пречистенский), освященный в 1348 году святителем
Алексеем, бывшим тогда наместником Митрополита всея Руси. Возведенный в
1325–1346 годах киевскими мастерами, грандиозный, четырехстолпный, трехапсидный
храм, увенчанный куполом на световом барабане, составляющим с четырьмя малыми
куполами над угловыми башнями торжественное пятиглавие, он должен был своими
величественными формами, близкими древним храмам Киева, Новгорода и Владимира,
поставить в один ряд с ними и новую столицу могущественной Литвы.
В 1350 году
на месте, где от рук язычников пострадали за исповедание Святой Троицы «Троице
равночисленные» святые Виленские мученики Иоанн, Антоний и Ефстафий (+1347) при
содействии великой княгини Иулиании (+1395) была построена деревянная церковь
во имя Святой Троицы, куда были принесены их нетленные тела. В начале XV века деревянная церковь была заменена
на каменную и здесь был учрежден первый в Вильно православный монастырь. С
течением времени Свято-Троицкая церковь разрушилась и стояла в развалинах.
В 1396 году
произошло объединение Литвы с католической Польшей и польско-литовский король
Казимир IV (1440–1482) указом 1480 года запретил не только строить, но и
возобновлять православные храмы. В 1511 году поборник Православия князь
Константин Острожский получил разрешение и восстановил рухнувший в 1506 году
Пречистенский собор. При этом в его юго-западной стороне был устроен придел во
имя святого Митрополита Алексия. Отправляясь в военный поход, князь Острожский
дал обет выстроить в Вильно еще две каменные церкви в случае победы. Исполняя
обет, в 1514 году он получил у короля разрешение и восстановил разрушенные к
тому времени древнейшие храмы Вильно: в честь перенесения мощей святителя
Николая и во имя Святой Троицы.
Князьями
Острожскими на своих землях были выстроены пять монастырей и множество храмов,
аппелирующих своей архитектурой к древнерусской храмостроительной практике. Их
крестово-купольная плановая структура, пятиглавые верхи, вытянутые арочные
окна, шлемовидные покрытия куполов, ниши и некоторые другие элементы имели
важное значение для поддержания православной традиции. Среди утративших
древнерусскую основу украинских храмов того времени и польского католического
засилия архитектура этих храмов отражала не только православную, но и русскую
национальную идею.
В 1498 году в
Вильно вблизи Свято-Троицкой церкви, в так называемом «Остром» конце города,
заселенном преимущественно русскими, над городскими проездными воротами была
построена часовня, в которую поместили привезенную в 1363 году Ольгердом из Кор-суни
икону Благовещения Пресвятой Богородицы, хранившуюся ранее в Свято-Троицком
монастыре и получившую впоследствии название «Остробрамской» по названию
городских ворот. Рядом с часовней была построена церковь во имя святителя
Петра.
После
объединения с Польшей и введения католичества в храмостроительство Литвы стали
проникать влияния европейских стилей. В XV–XVI веках в Вильно были построены: костел
святого Николая (1440), бернардинский костел (1525–1594) и костел святой Анны
(середина XVI века) – типичные представители литовской готики.
Пока на
польско-литовском престоле сидели Ягеллоны, хорошо понимавшие, как сильно в
Литве Православие, исповедуемое большинством народа, Православная Церковь еще
не подвергалась большим гонениям. В середине XVI века в Вильно было гораздо больше
православных церквей, чем римских костелов.
3. Храмостроительство в централизованном русском государстве
середины XV – XVI вв.
Москва– третий Рим
XV век явился в истории христианского мира переломным моментом, который был
обусловлен такими событиями, как появление движения Реформации, падение
Византии и зарождение Русской империи, обновленной чудом своего воскресения.
Отступничество греков, принявших унию с еретическим Римом на Флорентийском
соборе 1439 года, падение Царырада в 1453 году и свержение татарского ига в
1480 году произвели глубочайшее впечатление на русский народ, осознавший свое
мессианское значение в христианском мире.
Византийская
империя была Вселенским христианским Царством всего восточнохрис-тианского
мира, в столице которого Царьграде находился престол Вселенского Патриарха.
Поэтому падение Византии, казавшееся сначала мировой катастрофой, привело к
появлению веры, что Господь, попустив уничтожение империи за грехи всех
христиан, избрал другую страну и народ для продолжения Своего Царства.
Московская Русь, возрожденная и очищенная перенесенными страданиями и
унижениями периода татарского ига, единственная свободная христианская держава,
стала наследницей вселенской империи и единственным оплотом Православия всего восточнохристианского
мира. Москва открылась в сознании всей Церкви как новый и последний оплот
православной веры – третий Рим. Старец Филофей Псковский, игумен Елиза-ровский
пустыни выразил эту веру в формуле: «Москва – третий Рим, а четвертому не быти».
Русский
народ, ощутив свое великое призвание, почувствовал вместе с тем свое
одиночество и ответственность за судьбы Православия. Об этом говорится в
заключении первой редакции «Хронографа» 1512 года: «вся благочестивая царствия,
Греческое и Сербское, Басанское и Арнабазское и инии мнози грех ради наших
Божиим попущением безбожнии турци поплениша и в запустение положиша и покориша
под свою власть. Наша же Российская земля, Божиею милостию и молитвами
Пречистая Богородица и всех Святых Чудотворец, растет и младеет и возвышается.
Ей же, Христе милостевый, даждь расти и младети и расширятися до скончания
века».
В XV веке возрос интерес к символическим
толкованиям храма, в том числе сочинение русских книжников «Служба толковая
Иоанна Златоуста, толк Сихеев», составленное из разных источников, в том числе
ранее известных на Руси сочинений святых Василия Великого, Максима Исповедника,
Германа Константинопольского.
Во второй
половине XV века происходит дальнейшее объединение русских земель вокруг Московского
княжества. Москва присоединяет к себе княжества Ярославское (1463), Ростовское
(1474), Рязанское, Тверское, Новгород (1478) и Псков (1510). В 1448 году
Русская Православная Церковь обретает автокефалию и после падения Царьграда
верховная власть над Православным Царством, бывшая раньше у византийского
императора, фактически переходит теперь к великому князю московскому Иоанну III (1462–1505). В 1462 году он венчается
на царство, в 1472 году, вступив в брак с племянницей последнего византийского
императора принцессой Софьей Палеолог, перенимает византийский герб – двуглавый
орел, а с1485 года именуется уже «государем всея Руси». В «Сказании о князьях
Владимирских» (конец XV века) говорится, что московские великие князья ведут свое происхождение
от Августа – кесаря (63 г. до Р.Х. – 14 г. по Р.Х.) и что они являются
наследниками византийской империи. Вместе с Софьей Палеолог в Москву приезжают
итальянские зодчие, которые привносят в русскую практику западные приемы
строительства.
Кремлевские храмы
После
страшных бедствий, обрушившихся на Москву в первой половине XV века: нашествий врагов, пожаров,
чумы, голода, междоусобиц и землятресения, с середины века наступает новое
оживление храмостроительства. В Кремле возводятся: боярином Ховриным – церковь
в честь Воздвижения, а мастерами-ремесленниками – церковь во имя святых Козьмы
и Дамиана (1450). На подворье Симонова монастыря у Никольских ворот – церковь в
честь Введения (1458), а на подворье Троицко-Сергиева монастыря – «каменная
чудная» церковь в честь Богоявления (1460) на основе старой 1340 года. В 1461
году великий князь Московский Василий II (1425–1462) сооружает каменную
церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи вместо деревянной «первой церкви на
Москве». За пределами Кремля на посаде появляются каменные храмы во имя святого
Георгия, во имя Спаса и др.
Возросшее
значение Москвы определило необходимость строительства в Кремле нового
общественно-религиозного центра. В 1472 году в знак вселенского значения
Московской Митрополии Митрополитом Московским Филиппом I (1464–1473) было начато возведение
нового кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Первопрестольный храм не только на Руси, а теперь и всего Православного
Царства, Московский князь Иоанн III «...восхотеша бо воздвигнута...велик зело в меру храма Пресвятой
Богородицы иже во Во-лодимери». Взяв за образец владимирский Успенский собор,
приглашенный князем болонский архитектор Фиораванти (1415–1486), оставляя связь
с прообразом во внешнем облике храма, существенно перерабатывает его
крестово-купольную структуру в направлении большей цельности объема,
характерном для итальянской практики эпохи Возрождения. «Таковой же прежде не
бывало на Руси опричь Володимирской» – говорится в Никоновской летописи.
Крестово-купольная
система храма с купольным завершением на световом барабане, ставшая каноничной
в силу своей традиционности, могла иметь множество модификаций, связанных с
иерархической принадлежностью храма, в том числе: количество столпов, приделов,
глав, наличие хоров, форма плана. Но изменения могут носить более глубокий
характер и выражаться не только в появлении модификаций каноничных
архитектурных форм, но и в появлении новых архитектурно-строительных решений.
Однако такие изменения могут быть вызваны только очень значительными
историческими событиями, затрагивающими самые основы духовной жизни. Так, такие
важнейшие события в духовной и общественной жизни XV века, как Флорентийская уния, падение
Константинополя, обретение Русской Православной Церковью статуса автокефальной
церкви, идея «Москвы – Третьего Рима» привели к использованию в русле
канонической традиции новых архитектурно-строительных и художественных решений,
привнесенных итальянскими зодчими, приглашенными русскими князьями. Традиции
итальянского зодчества, представляющие собою самостоятельные архитектурные
системы, соединяясь с системой древнерусского зодчества, отнюдь не приводили к
хаосу и системному смешению, но образовывали некую новую упорядоченную систему.
Это происходило потому, что нововведенные архитектурные решения применялись не произвольно,
но в русле канонической традиции древнерусского зодчества.
Роспись
Успенского собора была выполнена в 1481 – 1482 годах с участием известного
иконописца Дионисия (1440–1503), написавшего «чудно вельми Деисус и Праздники и
с пророки». Среди фресок находятся изображения византийского императора св.
Константина и его матери св. Елены, а также святого князя Владимира и святой
княгини Ольги.
Новый
Успенский собор (1475–1479), как и первоначальный, был усыпальницей русских
Митрополитов и Патриархов. Здесь, у гробницы Митрополита Петра в 1589 году был
возведен в сан «Патриарха Московского и всея Руси и северных стран» Митрополит
Московский Иов (1589–1605). Здесь в 1547 году Иоанн IV впервые получил царский титул.
С западной
стороны Успенского собора на митрополичьем дворе стояла церковь Ризопо-ложения,
заложенная Митрополитом Ионой (1448–1461) в 1451 году по случаю чудесного
заступничества Пресвятой Богородицы, избавившей Москву от нашествия татарских
полчищ царевича Мазовши в день праздника «Положение ризы Богоматери». После
пожара 1473 года Митрополитом Московским Геронтием (1473–1489) в 1484–1486
годах была возведена новая церковь Ризоположения. Образцом для церкви
псковскими мастерами, строившими храм, было предложено взять собор
Спасо-Андроникова монастыря в Москве, однако во внешний облик храма ими были
привнесены некоторые элементы, характерные для псковского зодчества. Внутри
храм сплошь покрыт росписью, выполненной в 1644 году царским изографом Сидором
Осиповым и Иваном Борисовым, которыми был расписан и Успенский собор Кремля.
Большая часть живописных композиций посвящена различным сюжетам Акафиста
Богоматери. Иконостас храма, выполненный в 1627 году под руководством Назария
Истомина, по мастерству исполнения является одним из величайших произведений
искусства иконописи. В древности церковь Ризоположения примыкала к патриаршему
двору и была домовой церковью Патриарха.
В 1484 году
Иоанн III «заложил церковь каменну Благовещение Пресвятые Богородицы на своем
дворе», служившую домовой церковью великого князя. Новый трехглавый
Благовещенский собор был построен (1489) теми же псковскими мастерами на месте
пришедшей в ветхость древней церкви с применением ряда приемов, характерных для
древнерусского зодчества. К раннемосковской школе относится двухъярусное
позакомарное покрытие храма, к псковской школе – украшение барабанов глав
кирпичным орнаментом, к владимиро-суздальской – колончатый пояс в верхней части
стен на высоте аркатуры Успенского собора, что сразу привело к объединению
соборов в единый ансамбль. В 1505 году была выполнена роспись собора под
руководством Феодосия – сына знаменитого иконописца Дионисия. По общему
характеру композиции она близка фрескам Рождественского собора Ферапонтова
монастыря (1480), которые были написаны Дионисием с сыновьями Феодосием и
Владимиром в 1502 году. Характер расположения фресок достаточно традиционен: в
центральном куполе находится изображение Спаса Вседержителя, ниже, на сводах
собора – изображения архангелов, праотцев и пророков. Западную стену занимает
фреска с изображением Страшного суда. На нижней и северной стенах находится
множество сюжетов из Апокалипсиса. Большое место в росписях собора занимают
изображения русских князей и византийских императоров, отображающие духовную
преемственность Русской Православной Церкви от древней Византийской. Иконостас
с иконами Феофана Грека, преп. Андрея Рублева и Прохора с Городца был очевидно
перенесен сюда из древней церкви. В 1505 году древний Архангельский собор
времени Иоанна I (Калиты) стал тесен и уже не соответствовал значению усыпальницы
московских князей. Он был разобран и на его месте в 1508 году по повелению
великого князя Иоанна III был построен новый собор венецианским зодчим Алевизом Новым в традициях
русской архитектуры и с декоративным убранством фасадов в духе итальянского
Ренессанса. На фасаде традиционного шестиглавого крестово-купольного храма
появились новые для русской храмовой архитектуры детали: раковины и круглые
окна в закомарах, капители на лопатках, филенки и ярусные членения на пряслах
стен. Русские люди того времени вряд ли восприняли ренессансное начало декора.
Пышность внешнего облика собора скорее могла быть понята ими как идея торжества
и радости райского пребывания праведных русских князей – покровителей
Православия.
Роспись
собора была выполнена в 1508 году иконописцами круга Дионисия. Большое место в
ней занимают сюжеты из жития архангела Михаила – небесного покровителя русских
князей в ратных делах, а также батальные эпизоды из библейской истории. На
базах столпов находятся иконописные изображения киевских, владимирских и
московских великих и удельных князей.
Из 46 гробниц
русских князей самой древней является гробница Иоанна I (Калиты) (+1340). В Архангельский
собор поклониться праху своих предков приходили русские князья и цари при
вступлении на престол и при отправлении на ратный подвиг.
Архитектура
Архангельского собора оказала значительное влияние на пластику фасадов
множества русских храмов XVI века, среди которых: Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря в
Ярославле, Успенский собор в Дмитрове, церковь Преображения в селе Вяземы,
приделы Благовещенского собора Московского Кремля и другие храмы, строящиеся с
ориентиром на этот образец зачастую из-за его значимости, определяемой
принадлежностью к великокняжескому роду русских царей. При этом заимствуются не
только новые элементы, но и те, которые были близки к традициям русского
храмового зодчества. Так, например, такой чисто ренессансный элемент, как
сложно профилированный карниз Архангельского собора превращается в ярославском
Спасо-Преображенском соборе в рельефный пояс, аналогичный аркатурным поясам
владимиро-суздальских храмов.
При
возведении приделов Благовещенского собора Московского Кремля, которые были
построены в 1564–1566 годах по обету, данному царем Иоанном IV в связи с успешным началом Ливонской
войны (1558–1583), адресование к пластическим формам Архангельского собора
основывалось на символическом значении храма, находящегося под покровительством
небесного воинства во главе с архангелом Михаилом, во имя которого был возведен
один из приделов Благовещенского собора.
Колокольня
«Иван Великий» была построена в 1505–1508 годах итальянским зодчим Боном
Фрязиным на месте древнего храма во имя святого Иоанна Лествичника,
именовавшегося впоследствии, когда он стал колокольней всех кремлевских
соборов, «Иваном святым иже под колоколы». При царе Борисе Годунове
(1598–1605), задумавшим создать в Кремле грандиозный храмовый комплекс
наподобие Иерусалимского, в 1600 году столп колокольни был надстроен третьим
ярусом и увенчан главой, став самым высоким сооружением на Руси того времени,
выражающим высоту духовного горения русского народа.
«Взгляните на
московские соборы, в особенности Успенский и Благовещенский, – писал знаток
русского церковного искусства Л. Трубецкой, – их луковичные главы, которые
заостряются и теплятся к небесам в виде пламени, выражают собой неведомую
византийской архитектуре горячность чувства; в них есть молитвенное горение.
Это Божьи свечи зажглись над Москвою не по какому-либо иноземному внушению: они
выразили заветную думу и молитву народа, милостью Божией освободившегося от
тяжкого плена». Ансамбль кремлевских колоколен, где были собраны колокола
бывших столиц русских земель и княжеств, стал символом объединенной Руси.
В период
строительства кремлевских соборов в Москве и ее окрестностях было основано
множество монастырей, в том числе: Пафнутьев-Боровский (1444), Никольский
Краснохолмский (1461), Ново-Спасский (1462), Воскресенский (1478),
Иосифо-Волоцкий (1479), Космодамиановский (1498) и другие. Во второй половине XV века новые монастыри были основаны на
вологодском Севере – Нилом Сорским, Авраамием Печенегским, Филиппом Рабанским,
Евфимием Сянженским, Иннокентием Грязовецким, Корнилием Комельским; в Тверской
земле – Макарием Калязинским, в Угличе – Паисием Угличским и Кассианом
Учемским, в Костромском крае – Макарием Унженским и Тихоном Луховским, в
Беломорье – Зосимой Соловецким.
Шатровые храмы XVI века
Культура
средневековой Руси не отличалась национальной замкнутостью и была достаточно
общей у всего восточно-христианского мира, в том числе в области церковного
зодчества, иконописи и музыки. Но в XVI веке положение меняется ввиду того, что из всех
православных держав лишь только Русь и Грузия сохранили независимость, а все
балканские страны попали под иго Османских завоевателей.
Другими
значительными историческими событиями, вызвавшими к существованию новые формы
государственной и церковной жизни и новые архитектурные мотивы, стало венчание
на царство великого князя Иоанна IV в 1547 году, распространение христианства на востоке
России и утверждение Патриаршества в России в 1589 году. Эти события, а также
то обстоятельство, что к концу XV века Россия оказалась практически единственным крупным
независимым государством, исповедовавшим Православие, придало формуле «Москва –
третий Рим» новую практическую окраску. Москва стала осознаваться местом, в
котором совершается молитва за весь православный мир от лица всего
православного мира. Это осознание молитвенной и государственной миссии вызвало
к жизни новые архитектурные мотивы, строй которых уже довольно значительно
отличался от древнерусской традиции. В XVI веке в период царствования Василия III, Иоанна IV и Бориса Годунова были созданы многие
храмы, в том числе столпообразные, шатровые, архитектура которых свидетельствует
о напряженных творческих исканиях русских зодчих. Если итальянские мотивы,
присоединяясь к древнерусской системе, образовывали некую единую систему, то
новые архитектурные мотивы XVI–XVII веков уже никак не могли сложиться в
органическое целое. Здесь можно говорить скорее о сосуществовании архитектурных
систем, каждая из которых на какое-то время могла стать совершенно автономной,
самодостаточной и заместить собою все другие.
Русские
зодчие, быстро усвоив знания западной строительной техники, как раньше византийской,
обратились к решению задачи создания своей самобытной храмовой архитектуры на
основе достижений предыдущего периода храмостроительства. Шатровые храмы
являлись одной из распространенных, привычных и любимых форм в деревянном
зодчестве. Высокий четырех- или восьмигранный сруб церкви увенчивался обычно
высокой шатровой кровлей с одной главой наверху. Этот тип постепенно
усложняется, к храму пристраиваются приделы, покрытые чаще всего так называемой
«бочкой» или шатром меньшего размера. Иногда шатровый храм опоясывается крытой
галереей внизу у подклета или на высоте второго этажа.
«В Москве в
начале XVI века, – пишет Игорь Грабарь, – выросло несколько храмов, в которых
деревянное зодчество отразилось почти всей суммой форм, выработанных в ней веками.
Первые и самые совершенные из них были храмы в селах Коломенское и Острове; с
них начинается новая эра в архитектуре. Как и в шатровых деревянных церквях в
новом типе храма квадратное основание на известной высоте переходит в
восьмигранный постепенно суживающийся кверху шатер. Переход квадрата в
восьмерик произведен при помощи остроумной системы арочек, или кокошников,
несколькими рядами стремящихся вверх и дающих всей конструкции чрезвычайную
легкость и нарядность».
Духовное
стремление русских людей к возвышенному, небесному, являющееся отголоском
движения исихазма XIV века, нашло выражение в архитектуре шатровых церквей, которые стремлением
своих форм ввысь, к небу, увлекали с собой тех, кто к ним приближался.
«Возделка шатровой формы храма составила то поприще для русского зодчества, где
оно, действуя самостоятельно, вполне обнаружило свою оригинальность и свое
русское замышление о красоте Божьего храма», – писал знаток русской истории
И.К. Забелин (1820–1908).
Многие храмы XVI века посвящаются определенным
событиям и имеют характер храма-памятника. Так, в ознаменование рождения (1530)
наследника великого князя Василия III – Иоанна IV в селе Коломенское под Москвой
сооружается церковь в честь Вознесения Господня (1530–1532). По косвенным
данным, в строительстве храма принимал участие западноевропейский мастер,
возможно работающий в то время в Москве, Петрок Малой. Говоря о ней, летописец
отмечает: «Бе же церковь та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, такова
же не бывала прежде на Руси». Церковь Вознесения является первым и по оценкам
многих искусствоведов самым совершенным каменным шатровым храмом на Руси.
Посвящение храма празднику Вознесения образно выражено вертикальной
устремленностью столпа, его центричностью, динамичным ритмом стрельчатых элементов
фасадов, имеющих готическое происхождение, и постепенным уменьшением пластики
по мере увеличения высоты. Открытое почти на всю высоту шатра пространство
интерьера также устремлено ввысь. Однако мемориальное назначение храма,
выраженное в его внешнем облике, превалирует над богослужебным назначением
храма, интерьер которого не рассчитан на его восприятие молящимися.
В 1547 году
семнадцатилетний великий князь Иоанн IV по примеру греческих царей венчается на царство
Митрополитом св. Макарием (+1563) в Успенском соборе Кремля. В память этого
события в селе Дьяково под Москвой был воздвигнут столпообразный храм в честь
Усекновения Главы Иоанна Предтечи (1547). Архитектура храма, состоящего из пяти
восьмигранных столпообразных церквей, объединенных цокольной частью, стала
впоследствии прообразом для собора Василия Блаженного в Москве.
Столпообразные
шатровые храмы во второй половине XVI века нашли широкое применение в каменном
храмостроительстве. Это церковь во имя святого Петра Митрополита в
Переяславле-Залесском (1585), церковь во имя святых Косьмы и Дамиана в Москве
(1565), церковь в честь Преображения Христова в селе Остров (конец XVI века), церковь Рождества в селе
Беседы (конец XVT века). Даже после того, как в разрешительных грамотах Патриарха Никона на
строительство новых храмов в середине XVII века говорилось: «а глава на церкви
была бы не Шатрова», художественный вкус эпохи не мог до конца изгнать шатровые
кровли из церковного зодчества. Они нашли широкое применение в покрытии
пристраивавшихся к церквям колоколен.
В начале XVI века усердием мирян строится большое
количество посадских, в том числе возводимых за один день, так называемых,
«обыденных» церквей, дальнейшее существование которых строители храмов зачастую
не могли обеспечить. Указом Стоглавого Собора 1551 года, собранного
царем Иоанном IV для решения вопросов церковной жизни, было решено резко ограничить
подобное строительство. Там же упоминалось и о символике, которую косвенно
можно было приложить и к толкованиям форм храма. К этому времени относится
перевод Максимом Греком «Лексикона» Свиды – византийской энциклопедии X века.
В середине XVI века Московское государство
предприняло наступление на Казань, открывавшее миссионерской деятельности
Русской Церкви путь на Восток. В форпосте наступления – городе Свияжске
(Ивангороде), основанном в 1550 году, были построены: собор в честь Рождества
Пресвятой Богородицы и церковь во имя чудотворца Сергия. После взятия Казани
царь Иоанн IV, вознося благодарность Богу за дарованную победу, велел ломать в городе
мечети и строить церкви. На том месте, где во время штурма стояло царское знамя
с образом Спаса, царь в тот же день заложил церковь во имя Спаса, а около нее
построил обыденную церковь во имя дневных святых Киприана и Иустины. На
следующий день он заложил собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а за
городом, где были погребены павшие воины, повелел построить монастырь Зилантов.
В память о
победе в Свияжске псковскими зодчими были построены: церковь во имя Святителя
Николая (1556) и собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Свияжском мужском
Богородичном монастыре. В соборе сохранились фрески с изображениями царя Иоанна
IV и Митрополита
Макария.
Царь Иоанн IV брал в поход на Казань взятую из
ростовского Авраамиевого монастыря ту священную трость, которую Иоанн Богослов
передал преподобному Авраамию для свержения идола Велеса. После победы над
Казанью, казавшейся Иоанну IV похожей на победу преподобного Авраамия, царь приказал
построить в Ростове над гробом Авраамия собор в честь Богоявления (1533–1566)
«за отятую от гроба преподобного трость Богословлю на победу в одоление
Казанского царства и тогда же принесе в обитель иконы нерукотворенного Спаса на
убрусе, Богоматерь Одигитрия и Успенья Богоматери и яко невесту украси им
церковь Божию».
В
ознаменование побед над волжскими и крымскими татарами в Москве было
воздвигнуто несколько храмов: собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы
(называемый также Троицким, или Василия Блаженного) (1555– 1560), собор в честь
Успения Пресвятой Богородицы Троице-Сергиевой Лавры (1559–1585) и храм в честь
иконы Донской Богоматери в Донском монастыре (1591–1593). Эти храмы, помимо
богослужебного, имели еще и мемориальное значение, отраженное в их архитектуре
сообразно с особыми условиями строительства каждого из них.
В
Пискаревском летописце говорится, как «повелением царя и государя и великого
князя Ивана зачата делати церковь обетная еже обещался в взятие казанское:
Троицу и Покров и семь приделов, еже именуется "на рву"». В
ознаменование того, что взятие Казани совершилось на следующий день после
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, центральный престол девятипрестольного
Покровского собора был посвящен этому празднику, а восточный престол – Святой
Троице. Остальные престолы были посвящены тем церковным праздникам, которые
приходились на дни осады и штурма Казани.
Исследователь
деятельности Митрополита св. Макария К. Заусинский предполагает, что именно ему
принадлежала архитектурная идея Покровского собора: «Нельзя не видеть и в
Покровском соборе ту идею, которая проходит через все произведения Макария –
идею объединения Руси, выраженную в форме соединенных в одно целое всех стилей
церковной архитектуры, практиковавшейся в разных местностях России».
Девять
столпов храма с центральным восьмигранным шатром, четырьмя бесстолпными храмами
с горкой кокошников и четырьмя бесстолпными башнеобразными храмами образуют
торжественный пирамидальный силуэт сложного центричного ансамбля, уподобляемого
«Граду Небесному», «Горнему Иерусалиму». Такое уподобление не является случайным,
если учесть, что в начале XVI века в «Хронографе» уже отчетливо прозвучала мысль
о преемственности царской власти над православным миром русскими великими
князьями и что в 1547 году Иоанн IV принял царский титул. В этих условиях главный храм XVI века – Покровский (Троицкий) собор
уподобляется главному ветхозаветному храму – Иерусалимскому, вернее его
небесному прообразу, описанному в Апокалипсисе. Следует заметить, что в
одновременно строящемся соборе в честь Спаса-Преображения (1558–1566) в Соловецком
монастыре верх собора представлял, как считают некоторые исследователи, почти
иконографическое изображение «Небесного Града». Покровский собор, расположенный
в самом центре столицы, был подобием престола и основной доминантой Красной
площади, которая становилась благодаря этому как бы огромным храмом во время
проводившихся там массовых молебнов.
Успенский
собор Троице-Сергиевой Лавры был возведен царем Иоанном IV в благодарность Богу за дарование
побед над волжскими татарами и в Ливонской войне. Ввиду огромного
государственного значения этих событий царь строит собор по подобию главного
храма государства – Успенского собора Московского Кремля. Надо сказать, что
Успенский собор Кремля был образцом еще для многих монументальных пятиглавых
соборов, построенных в XVI веке в различных местах Московской державы, в том числе в Хутынском
монастыре (1515), в Ростове Великом (начало XVI века), в Даниловом монастыре
Переяславля-Залесского (1532), в Новодевичьем монастыре в Москве (1526) и в
Вологде (1570), куда Иоанн IV намеревался перенести столицу.
Храм в честь
иконы Донской Богоматери Донского монастыря был заложен в 1591 году по случаю
избавления Москвы от татарского нашествия крымского хана Гирея, подобного
нашествию Мамая 1380 года. Он был построен на месте прежней церкви во имя
святого Сергия, где хранилась чудотворная икона Донской Богоматери, с которой
князь Димитрий Донской победил Мамая в XVI веке. Архитектура храма в основных
чертах повторяет взятый в качестве образца придел во имя Василия Блаженного
Покровского собора в Москве. Выразительная завершающая часть храма, образуемая
горкой кокошников и стройным барабаном главы, украшенным аркатурой, придает
храму торжественность, соответствующую его посвящению заступнице Руси –
Пресвятой Богородице. Аналогичные завершения характерны и для других храмов 2-й
половины XVI века.
Распространение
христианства, широко развернувшееся в XVI веке по всем направлениям,
сопровождалось строительством монастырей и храмов. После завоевания Казани и
просветительской деятельности святого Фотия (+1564) его учениками: святым
Варсонофием (+1576) был основан в Казани Спасский монастырь, а святым Германом
(+1569) - Свияжский Богородицкий монастырь. Устроению церквей и монастырей в
бывшем Астраханском царстве много сил отдал игумен Кирилл (конец XVI века). После покорения Пермской земли
и поселения здесь Строгановых вокруг из усольев возникает Пыскорский и
Соликамский монастыри. Выходец Пыскорского монастыря Святитель Трифон (+1612)
основал обитель на реке Чусовой и Успенский монастырь в Вятке (1560). На Севере
выходцем Соловецкого монастыря Преподобным Феодоритом на устье реки Колы был
основан монастырь во имя Святой Троицы. В Лифляндии для новообращенных строит
храм просветитель чуди Преподобный Корнилий (+1529).
Инославные влияния в Русской Церкви
Успехи России в распространении христианства, связанные с
победами над Казанью, Астраханью и покорением Сибири, еще более укрепили веру в
богоизбранность Московского царства, в учение о Москве – третьем Риме и
незыблемость Русского Православия, чудом сохранившегося среди океана неверия.
Однако расширяющиеся торговые контакты с европейскими государствами привели к
проникновению на Русь инославных влияний, о чем пишет в своей «Истории русской
Церкви» архиепископ Черниговский Филарет: «Отрицая все иноземное, в том числе
просветительные влияния западной цивилизации, смешиваемые с влиянием
религиозным, русский человек свято охранял Православие от инославных влияний.
При усиливающемся все более наплыве в Россию купцов и мастеров они завели целую
слободу на Яузе с двумя кирхами. Иоанн Грозный в 1679 году в мае разрушил эти
кирхи, но через 5 лет по ходатайству английского посла Горсея разрешил опять
построить одну. При царе Феодоре и Борисе Годунове наплыв немцев-протестантов
еще более усилился, но всякая пропаганда была им строго воспрещена и их
верования были презираемы в народе. Попытки как введение в Россию католичества
или неудавшейся унии Митрополита Исидора постоянно разбивались о полную
нетерпимость русских к латинству, которое у нас не считалось даже и
христианством. В России нигде не дозволялось строить латинских божниц. При
Иоанне Грозном война с Баторием заставила царя обратиться за помощью к папе. В
Россию был прислан из Рима иезуит Антоний Поссевин с поручением договориться об
унии и о разрешении строить в Москве костелы. Царь в постройке костелов отказал
и неохотно согласился говорить с ним о вере».
В западных областях Древней Руси положение Русской
Православной Церкви в XVI веке
оказалось очень сложным. В 1569 году Литва объединилась с Польшей в одно
государство «Речь Посполитую», где находило поддержку одно польское
католичество. В 1569 году в польско-литовском государстве последовала уния
между латинской и Православной Церковью, после которой началось гонение на
Православие не только со стороны короля, но и униатов. Им были переданы
православные церкви, в том числе древний киевский Софийский собор, которые
постепенно оказывались запущенными и разрушались. В 1609 году в Вильно не
осталось ни одного православного храма, кроме Свято-Духовской монастырской
церкви, основанной Виленским Свято-Троицким братством в 1597 году и оставшейся
единственным оплотом Православия во все время господства унии. В 1632 году
деревянную церковь хотя и было разрешено заменить на каменную, однако с тем
условием, чтобы внешне она была похожа на латинские костелы. Во время
святительства Петра Могилы (1633–1647) в Киеве им был восстановлен из почти
полного разорения отнятый у униатов Софийский собор и другие древние обители и
храмы, причем при восстановлении Десятинной церкви он обрел мощи святого князя
Владимира.
В начале XVII века
Восточная Русская Церковь и Московское государство переживали так называемое
«смутное» время. В 1605 году Москвой овладел выдававший себя за сына царя
Иоанна IV польский ставленник Лжедмитрий I. Пользуясь смутой, король Речи Посполитой
Сигизмунд III Ваза (1566–1632) хотел, завоевав
Московское царство, ввести в нем унию с Римом. Явление самозванца было страшным
событием не только для государства, но и для Церкви, потому что он явился
орудием иезуитов, угрожая Православию той же участью, которой оно подверглось в
Западной России. Лжедмитрий обратился в католичество, обещал папе обратить в
католичество всю Россию, а своей супруге полячке Марине Мнишек обещал отдать
Новгород и Псков с правом строить в них католические костелы и монастыри.
Вместе с самозванцем в Москву из Польши явились иезуиты и поставили костел в
самом Кремле. Однако спустя некоторое время Лжедмитрий известил папу, что в
России нельзя официально строить костелов и что царица должна содержать костел
у себя тайно.
Русская Православная Церковь, возглавляемая Патриархом
Гермогеном (+1612) призвала отстоять православную веру, а Троице-Сергиева Лавра
вдохновила народное ополчение, собранное князем Пожарским (+1642) и
нижегородским старостой Мининым (+1616) на освобождение Москвы от захватчиков.
В 1612 году они были изгнаны из России.
4. Расцвет храмостроительства на Руси в XVII веке
Храмостроительство «послесмутного» времени начала XVII века
В «послесмутное» время, характеризующееся патриотическим
подъемом и возрождением традиций прошлого века, освобожденная Москва вновь
заняла место центра христианского Царства. Большое распространение получили
храмы-памятники, выражающие своим обликом идеи Божией помощи в избавлении Руси
от иноземных захватчиков. На Красной площади вновь избранным царем Михаилом
Романовым (1613–1645) и князем Пожарским был построен Казанский собор, в
котором поместили образ Казанской Богоматери, бывший вместе с народным
ополчением во время всех битв с польско-литовскими захватчиками. Это был
«годуновский» тип небольшого одноглавого бесстолпного храма с горкой килевидных
кокошников наверху и стройным световым барабаном, украшенным аркатурой.
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове
(1619–1626), заложенный царем Михаилом и его отцом Патриархом всея Руси
Филаретом (1619–1633) в память Богом дарованной победы над поляками, был
построен по образцу собора Донского монастыря, у стен которого произошла
главная битва с неприятелем накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Храм Покрова имеет более сложную композицию, чем свой прототип, но его
завершение, декорированное аркатурной главой, поставленной на горке кокошников,
аналогично завершению храма в честь иконы Донской Богоматери, что стало
достаточно традиционным приемом для выражения горячего чувства благодарности
«Заступнице усердной» Пресвятой Богородице.
Храм-памятник, построенный героем 1612 года князем
Дмитрием Пожарским в своей подмосковной Медведковской вотчине в 1634–1635 годах
в честь того же праздника Покрова имеет уже другое, шатровое завершение,
окруженное восемью малыми главами. Такая композиция сближает церковь Покрова в
Медведкове с храмом Покрова (собором Василия Блаженного), отражающим те же
идеи, связанные с благодатной помощью Богородицы в борьбе русского народа с
врагами.
Большого размаха в 20–40-х годах XVII века приобрело строительство
храмов-памятников, посвященных победе над поляками в Троице-Сергиевом
монастыре, Угличе и Нижнем Новгороде.
В Троице-Сергиевом монастыре, бывшем в годы «смутного»
времени твердыней Православия и центром освободительной борьбы с завоевателями,
строится в 1635–1637-х годах шатровая церковь во имя соловецких святых Зосимы и
Савватия над больничными палатами, где лечился князь Пожарский после
московского восстания 1611 года. Посвящение церкви соловецким святым связано с
тесными отношениями между Троицким и Соловецким монастырями, сыгравшими
одинаково большую роль в отражении польско-литовского (1608–1610) и шведского
(1611) нападения. На иконе XVII века из
Покровского собора Рогожского кладбища в Москве, посвященной освящению этой
церкви, помимо группы святых с Сергием Радонежским во главе, изображены и
соловецкие святые Зосима, Савватий, Филипп и Герман, направляющиеся к вновь
построенной шатровой церкви. Мемориальное значение храма-памятника подчеркнуто
богатством пластического оформления шатра с помощью кокошников, киотцев и
поливной керамики.
Столь же совершенные формы шатрового завершения отличают
и другую постройку этого времени – Успенскую (Дивную) церковь Алексеевского
монастыря в Угличе, построенную в 1628 году царем Михаилом в память героической
защиты монастыря в 1611 году от польско-литовских войск. Форма трехшатрового
верха Успенской церкви могла символизировать триединство Пресвятой Троицы –
основной догмат христианства, утверждение православного понимания которого было
так важно в период «смутного» времени на Руси.
В нижегородском кремле в 1631 году был построен собор во
имя Архангела Михаила – покровителя воинства, как храм – памятник ополченцам
1612 года. Своим прообразом он имеет Никольскую церковь Покровского монастыря в
Балахне, возведенную в середине XVI века в
связи с возвращением из побежденной Казани войск царя Иоанна IV. Образ храма, увенчанного высоким стройным
шатром, как нельзя лучше отражает возвышенные чувства благодарных нижегородцев
своему небесному заступнику. Те же шатровые завершения храмов были применены и
в ряде других храмов, составлявших Печерский монастырь в Нижнем Новгороде:
Вознесенский собор с шатровой колокольней (1641), шатровая Евфимиевская церковь
(1645) и трапезная с шатровой Успенской церковью (1648). Возводимые в это
же время в Нижнем Новгороде традиционные типы крестово-купольных
пятиглавых храмов, как например, соборы в Печерском (1640) и Благовещенском
(1648) монастырях, в Кремле (1647–1652) выражали идею незыблемости Православия
от посягательств католического Запада.
Храмостроителъная деятельность Святейшего Патриарха Никона
Во второй половине XVII века в древнерусской храмостроительной системе наступает
известный перелом, одной из причин которого явился раскол Русской Православной
Церкви, вызванный реформами Патриарха Никона.
Внешне это изменение выразилось не только в появлении
большого количества новых архитектурных мотивов, но, что главное, – в появлении
принципиальной возможности неограниченного образования все новых и новых
архитектурных решений. Появляются стилистические черты, связанные с отдельными
местностями, монастырями и даже с конкретными личностями. Многие из этих черт
не только не могут уже являться элементами общей системы, но сами в себе лишены
системной организации, представляя собою набор произвольно соединенных
архитектурных элементов. Эта ситуация усугублялась еще и тем, что традиционные
мотивы начали дробиться. Раскололась система канонического храмового зодчества,
выражаемая единством функционально-планировочных, объемно-пространственных и
архитектурно-художественных решений. Изменились и условия строительства храмов.
При известном обмирщении, древнерусская храмо-строительная деятельность
перестала существовать как аскетическая дисциплина и превратилась в одну из
областей архитектурного творчества.
Большая роль в храмостроительстве второй половины XVII века и установлении ее принципов принадлежит
Патриарху Никону (1652–1666), проявившему себя не только в упорядочении
церковной жизни, исправлении русских богослужебных книг по греческим
первоисточникам, но и в деятельности по возвращению храмовой архитектуры к
исходным византийским образцам с пятиглавым завершением. По инициативе и на
средства Патриарха Никона было построено несколько монастырей: Иверский на
Валдае (1653–1657), Крестный на острове Кий в Онежском озере (1660-е годы) и
Воскресенский Ново-Иерусалимский на Истре (1656-1685).
Монастыри нередко воздвигались собственными силами
монахов. Квалифицированными строителями зачастую были настоятели монастырей, а
среди монахов были представители разных профессий, включая строителей. Патриарх
Никон не только определял место строительства, давал архитектурный замысел
построек, но и тщательно контролировал весь ход строительных работ. Например,
при строительстве церквей Иверского монастыря он рекомендовал «делать их на
подклетах с папертыми и трапеза такоже на подклетах сряду как Кириллов в
Новгороде монастырь, и меж ими переходы, или как Соловецкий монастырь».
Ново-Иерусалимский монастырь был задуман Патриархом
Никоном как единый центр всего Православного Царства – Новый Иерусалим, а
Воскресенский собор как повторение храма Гроба Господня в Иерусалиме. При
строительстве собора он строго следил за его соответствием принятому образцу. В
результате Воскресенский собор точно воспроизводит планировку и размеры своего
прообраза, однако во внешнем облике отличается от него своим
возвышенно-радостным настроением, определяемым посвящением храма великому
празднику Воскресения Христова, в то время как строгий облик палестинского
храма соответствует его назначению – храма над гробницей, в которой был
погребен Распятый Христос. Воспроизводилась не только архитектура собора, но и
топография Святой Земли, что зримо подтверждало представление о «Святой Руси»
как о духовном центре православного мира. При Патриархе Никоне была издана
книга «Скрижаль» (1656), в которой большое место занимали символические
толкования храма, принадлежащие святым Герману Константинопольскому и Симеону Солунскому.
Все три монастыря были построены по разработанным
Патриархом Никоном единым принципам взаимосвязи монастырских сооружений с
собором, являющимся центром ансамбля. В свою очередь все соборы имели
одинаковое завершение в виде гульбищ у подножия восьмигранных барабанов,
напоминающее верх Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря,
отражающего, по мнению некоторых исследователей, прообраз «Небесного
Иерусалима». Образы храмов, построенных Патриархом Никоном, которым присуща
строгость форм и сдержанность в оформлении фасадов, оказали существенное
влияние на дальнейшее развитие русской храмовой архитектуры, особенно посадских
церквей.
При сподвижнике Патриарха Никона митрополите Ростовском
Ионе Сысоевиче (1664-1690) большого размаха храмостроительство достигает в
Ростове, Угличе, Ярославле и Бо-рисоглебе. В Углическом Воскресенском
монастыре, где прошли иноческие годы митрополита Ионы, была воздвигнута целая
группа из церквей, колокольни и приделов, связанных папертями (1674–1777). Были
украшены храмами и росписью также Белогостицкий и Богоявленский монастыри, где
митрополит Иона был ранее архимандритом и настоятелем. В Ростове строительство
продолжалось с 1660-х годов около тридцати лет и завершилось созданием ансамбля
Архиерейского дома, который в начале XIX века
получил название – Ростовский кремль. Ансамбль кремля образуют: надвратная
церковь Воскресения (1670), церковь во имя Иоанна Богослова (1683), стоящая вне
стен кремля церковь во имя Григория Богослова – пятиглавые храмы с заостренными
закомарами, и одноглавая домовая церковь митрополита «Спас на Сенях».
Построение монастырских ансамблей XVII века
В XVII веке
возникает множество монастырей. Только в одной Москве появляется одиннадцать
новых монастырей, среди которых: Знаменский (1629), Страстной (1656),
Покровский (1655), Заиконоспасский (1660). Свой окончательный образ получают
многие старые монастыри, в том числе: Кирилло-Белозерский, Новодевичий и
Донской в Москве, Спасо-Евфимиев и Покровский в Суздале, Борисоглебский близ
Ростова Великого, Иосифо-Волоколамский, Троицкий в Муроме, Алексеевский в
Угличе и многие другие.
Построенные в период с XIV по XVII век русские
монастыри, несмотря на существенные различия в своих размерах и составе
построек, обладали единством основных принципов пространственной организации. В
числе этих принципов: главенство собора, концентричность и периметральность
застройки, стремление к геометрической правильности очертаний. Помимо
функциональных и композиционных причин это единство имело и глубоко
символический смысл.
Как правило, в достаточно крупном монастыре располагалось
множество разнообразных церковных, жилых и хозяйственных построек. Центральное
место занимал собор, главенство которого подчеркивалось крупными размерами,
большим количеством глав и богатством убранства. Трапезная церковь ставилась,
как правило, к западу, северу или югу от собора, а колокольня к западу от него.
Святые ворота монастыря, как правило, ориентировались на вход в собор, еще
больше выделяя его среди остальных строений.
Все монастырские постройки располагались концентрично
вокруг своего ядра – собора по принципу иерархии и соподчинения второстепенных
частей – главным со следующей последовательностью: службы за стенами и
хозяйственные дворы, стены, кельи, собор. Так, например, по описанию
исследователя Кирилло-Белозерского монастыря Н.К. Никольского: «Белозерская
обитель состояла... из ряда неправильных концентрических поясов. Первенствующее
и центральное место в большом монастыре занимали пять церквей, служивших
главной цели иноческой жизни, и трапеза, бывшая также местом общих молитвенных
собраний. В следующем поясе – жилом и служебном - восточную половину, смежную с
церквями, составляли келий братские... Западная – была из построек, необходимых
для существования братии. Третий пояс состоял из ограды... За оградой...
тянулась полоса служебных дворов, в которых сосредоточивались продукты
вотчинного хозяйства, мирская прислуга и нищие. Это было, следовательно, то же,
что слобода или посад при «городе». За дворами начиналось "подмонастырье"».
Концентричность и иерархия в построении монастырского
ансамбля выражала ту же модель мироздания, что и структура его центрального
ядра – собора, состоящего также из последовательно расположенных по принципу
иерархии частей: паперть и притвор, стены, собственно церковь, алтарь.
Выражая собой образ мироздания и Царства небесного,
композиция монастырей уподоблялась и «Горнему Иерусалиму», «Граду Небесному»,
который, согласно Апокалипсису «имеет большую и высокую стену... Город
расположен четвероугольником, и длина его такая же, как широта» (Апокал.
21.12,16). В соответствии с иконописным изображением «Горнего Иерусалима» в
центре града находится престол Бога, по граду протекает живоносный источник, а
по периметру располагаются жилища праведных. Ту же пространственную организацию
имеют и древнерусские монастыри, где в центре находится храм с престолом, его
окружают братские келий, а на территории цветут сады и часто имеются
чудотворные источники. Некоторые отклонения от основополагающих принципов
композиции русских монастырей XIV–XVII веков не мешают видеть единую основу,
заключенную в их символике.
Обмирщение храмового зодчества второй половины XVII века
Отмеченное собором 1667 года падение истинной
религиозности русского народа проявилось как в увлечении лишь внешней
обрядовостью Церкви, унаследованной от иосифлян, так и в определенном
обмирщении храмового зодчества. Оно выразилось в стремлении к разукрашенности,
обилии декоративных средств, включении ордерных деталей западноевропейского
происхождения, отказе от традиционной крестово-купольной структуры храмов.
Проникновению в храмостроительство многих приемов и деталей декоративного
убранства, характерных для гражданского зодчества, способствовали как шедшие с
Запада новшества, так и централизация руководства всем строительством, включая
храмы и гражданские сооружения, в Приказе каменных дел, своей властью
регламентирующего архитектуру и живопись по всей Руси. Кроме того,
преобладавшее ранее видение храма как образа горнего мира сменилось более
приземленным толкованием храма как земного дворца Царя небесного.
Особенно отчетливо эти тенденции сказались в массовом
строительстве посадских приходских церквей. Это были, как правило, сравнительно
небольшие, бесстолпные, пятиглавые храмы с горкой декоративных кокошников наверху,
дополненные трапезной, высокой шатровой колокольней, галереями, крыльцами и
другими пристройками, придававшими всей композиции чрезвычайно живописный вид,
характерный для традиций псковского зодчества. Такие церкви строятся как в
столице, так и во многих городах: Великом Устюге, Каргополе, Муроме, Костроме,
Ярославле и других. Яркими примерами московских храмов этого типа могут
служить: церкви во имя Святой Троицы в Никитниках (1631– 1653) и в
Останкине (1673), церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках
(1649–1652). В Великом Устюге это церковь в честь Вознесения Господня (1648), в
Муроме – ансамбль Троицкого монастыря (1642–1648), в Ярославле – церкви во имя
Илии Пророка (1647–1650), во имя Иоанна Златоуста в Коровниках (1649–1654) и во
имя Иоанна Предтечи в Толчкове (1671–1687).
Для крупных общегородских и монастырских соборов,
строящихся в середине XVII века,
характерны традиционная крестово-купольная система и наличие пяти световых
барабанов. Это собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Коломне
(1672–1682), собор Ново-Спасского монастыря в Москве (1642–1647), сбор во имя
Святой Троицы Ипатьевского монастыря в Костроме (1650–1652).
После воссоединения Украины с Россией (1654) киевляне
принесли с собой в Москву западные навыки не только в просвещение, но и в
храмостроительство. Игорь Грабарь в «Истории русского искусства» отмечает:
«Москва получила мотивы нового стиля не прямо с Запада, но с юга, из Украины,
получившей их в свою очередь из Польши и Литвы. Вместе с чисто барочными декоративными
мотивами из Украины перешел в Москву и тип особой шатровой деревянной церкви, в
которой шатер составлен из нескольких постепенно суживающихся восьмигранников,
поставленных один над другим. Такой тип был перенесен с дерева на камень и
неожиданно из этих элементов вырос совершено новый стиль "русский
барокко"».
Исследователь древнерусского зодчества Ф.Ф. Горностаев
отмечал, что: «Весь новый строй храмовых форм был продиктован украинским
духовенством... Проводилось украинское пятиглавие в крестообразном
расположении, согласно таковым же формам храма. К числу главнейших проводимых
форм относится и восьмерик – традиционная украинская форма. Сюда же можно
отнести и украинское стремление форм храма вверх... и украинскую «ярусность»,
т.е. наслоение уменьшающихся четвериков и восьмериков в форме столпа или
башни».
Для украинских храмов типичным являлось построение
объема, состоящего из нескольких крестообразно расположенных башен с
незначительно возвышающимся центральным столпом. Под влиянием нового стиля в
Донском монастыре Москвы украинским архимандритом Никоном и наместником
Анатолием, вызванных царем Федором Алексеевичем в связи с замыслом организации
Славяно-греко-латинской академии, в 1684–1689 годах строится новый собор – один
из первых образцов нового для Москвы украинского стиля. В дальнейшем этот
принцип объемного построения храма, не свойственный ранее русскому храмовому
зодчеству, был видоизменен. Боковые башни были понижены до привычных размеров
притворов или отсутствовали вовсе, как например, в церкви, посвященной Покрову
Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря (1680-1694).
Симметричная композиция украинского типа храма, где
алтарная апсида и притвор имеют одинаковое объемное решение, не соответствовала
канонической традиции православного храма и в конце XVII века появилась ставшая чрезвычайно
популярной новая композиционная схема, когда к центральному ядру, решенному по
типу «восьмерик на четверике» по продольной оси примыкали трапезная и
колокольня.
В конце XVII – начале XVIII века возводятся храмы, связанные с
именем родственников жены царя Алексея Михайловича (1645-1676) – Нарышкиных.
Этим храмам свойственны черты, близкие современной им барочной архитектуры
Западной Европы. Таковы цент-ричные ярусные храмы типа «восьмерик на четверике»
и «под колоколы»: церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (1690–
1693) в Москве, церковь во имя Спаса в селе Уборы под Москвой
(1694–1697), церковь в честь Рождества Христова в Нижнем Новгороде (начало XVIII века). В духе ярусных церквей строились в
это время и колокольни, примером чего может служить колокольня Новодевичьего
монастыря в Москве (1689–1690).
В архитектуре ряда городских и усадебных храмов конца XVII века наблюдается решительный отказ от
традиций древнерусского зодчества, близость с архитектурой светских сооружений.
Так, например, фасады соборов в честь Успения Пресвятой Богородицы в Рязани
(1693-1699) и в Астрахани (1700-1710) имеют четко выраженную этажность, а
оформление оконных проемов ничем не отличается от гражданских зданий. Вместе с
тем, современный им собор во имя Святой Троицы в Пскове (1699) при той же
объемной композиции сохранил во внешнем оформлении традиционные черты псковской
архитектуры.
Богатством отделки отличаются и монастырские трапезные,
возводимые в конце ХVII века:
Симонова монастыря (1681–1683), Новодевичьего (1685–1687), Троице-Сергиева
(1685–1692), Солотчинского под Рязанью (1686). Фасады трапезной
Троице-Сергиевой Лавры украшены коринфскими колоннами, обвитыми виноградными
лозами, резными порталами, декоративными раковинами, изразцовыми вставками,
имеют яркую многоцветную окраску. Великолепие и красочность убранства фасадов и
интерьеров трапезной напоминает дворцовые постройки и одновременно образным
архитектурным языком говорит о блаженстве райской жизни праведных.
Своеобразным завершением храмового зодчества XVII века является церковь Знамения в. имении
сподвижника Петра I князя Б.А.
Голицина в Дубровицах близ Москвы (1690–1697). Подобно «нарышкинским» церквям
это строго центричный бесстолпный храм типа «под колоколы», однако барочные
тенденции выражены в нем более отчетливо. Обилие белокаменных украшений и
криволинейных очертаний, широкое применение скульптуры на фасаде и в интерьере,
завершение храма золоченой короной вместо главы и замена внутренних росписей
латинскими надписями в интерьере говорят о приверженности князя Голицина к
западноевропейским образцам.
5. Западноевропейское влияние в русском храмостроительстве
XVIII -
начала XIX века
В XVIII веке в
истории России произошли такие события, в результате которых стало невозможным
продолжение в храмостроительстве канонической традиции. Это, прежде всего,
упразднение Патриаршества, перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург и вся
совокупность петровских реформ, превративших Православное царство в секулярную
империю. Социально-политическая форма жизни, обеспечивающая существование
канонического храмового зодчества, есть именно Православное царство и принцип
древнерусской храмо-строительной системы, являющийся архитектурным воплощением
идеи Православного царства, мог существовать только в условиях его
существования. Когда Православное царство перестало быть исторической
реальностью, то стало невозможным живое функционирование канонического
храмового зодчества, осуществляемого в древнерусской храмостроительной системе.
Вот почему в XVIII веке
древнерусская храмостроительная система практически полностью прекратила свое
существование, уступая место новому архитектурному принципу, который
определялся как принцип свободного формотворчества в условиях следования господствующему
архитектурному стилю.
Самобытное развитие культуры Древней Руси в XVIII веке было прервано преобразованиями Петра I (1682–1725) в жизни государства и Церкви,
нанесшими сокрушительный удар по древним традициям Московской Руси. Развитие
церковной архитектуры пошло по пути обособления и критического отношения к
многовековой традиции древнерусского зодчества, ориентации исключительно на
образцы западноевропейской архитектуры. Верный провозглашенному в 1702 году
принципу свободы вероисповеданий, Петр I разрешал католикам строить в России храмы и держать при них духовенство.
Ревнители Православия Патриархи Иоаким (+1690) и Адриан (+1700) не одобряли
западных нововведений царя и после кончины Святейшего Патриарха Адриана Петр I не стал назначать выборов нового Патриарха.
В 1721 году он, как известно, учредил Духовную Коллегию под руководством
ученика польских иезуитских школ Стефана Яворского (1658–1722), ведавшую всеми
вопросами церковной жизни по образцу синодального устройства протестантской церкви
и подчинявшуюся светской власти. Вся культура XVIII века развивается теперь параллельно с Церковью и
светское начало все больше проникает в церковное искусство и, в том числе, в
архитектуру русских храмов.
В начале XVIII века
строительство сосредотачивается в основном в новой столице России, названной не
традиционно-русским названием Санкт-Петербург, где в 1709 году учреждается
«Канцелярия от строений», ведавшая всеми вопросами строительства. Петром I были приглашены опытные архитекторы из
западных стран, а также отправлены за границу на обучение способные молодые
люди, зачастую далекие от жизни Русской Православной Церкви. В результате в
архитектуру русских храмов той поры были привнесены многие черты, характерные
для барочных церквей католического и протестантского Запада, определившие
стиль, называемый в светском искусствоведении «петровским барокко».
Архитектура собора во имя апостолов Петра и Павла
(1712–1733), сооруженного в Петербурге итальянцем Доменико Трезини (1670–1734)
по указанию Петра I, по своему
характеру близка лютеранским храмам с базиликальным планом и расположенной на
переднем плане башней-колокольней, увенчанной высоким шпилем. В Москве
уроженцем Украины И.П. Зарудным (1670–1727) строится церковь во имя архангела
Гавриила (Меньшикова башня) (1701–1707). Здесь в традиционный тип русского
храма «под колоколы» привносится ряд приемов и элементов западноевропейского
барокко в виде декоративных волют, криволинейных карнизов, рельефной скульптуры
и высокого шпиля. Те же черты, но гораздо в меньшей степени, характеризуют и
другую московскую постройку И.П. Зарудного – церковь во имя святого Иоанна
Воина на Якиманке (1700–1713).
После иностранного засилья периода бироновщины 1730-х
годов при императрице Елизавете Петровне (1741–1761) в России, ставшей одной из
самых передовых стран Европы, наблюдается поворот к православным традициям.
Архимандриту Вениамину заказывается работа над «Новой Скрижалью», где большое
место занимают символические толкования храма. Повелением императрицы в
храмостроении вновь появляется традиционное пятиглавие. Проект собора
Воскресенского (Смольного) монастыря (1746), задуманного итальянским
архитектором Ф.Б.Растрелли (1700–1771) по типу римских однокупольных храмов,
был переделан из-за требования императрицы, имевшей желание со временем
постричься в монашество в этом монастыре, взять за образец пятиглавый Успенский
собор Московского Кремля. Традиционное пятиглавие получили церковь во имя св.
апостола Андрея Первозванного в Киеве (1747–1753), Николо-Богоявленский собор в
Петербурге (1753–1762, арх. СИ. Чевакинский), церковь во имя свт. Климента Папы
Римского в Москве (1762–1770), в которых традиционная композиция
четырехстолпного храма с планом в виде равноконечного греческого креста
сочеталась с западноевропейской ордерной системой и барочными элементами
декоративного убранства. Заимствовав у Запада внешние элементы, русское барокко
обладало тем не менее целым рядом чисто национальных особенностей, вытекающих
из традиций узорочья второй половины XVII века.
Петр III (1761–1762),
несмотря на старания Елизаветы дать наследнику православное образование,
остался в душе чистым немцем-протестантом и велел вынести из церквей все иконы,
кроме икон Спасителя и Богоматери.
В царствование Екатерины II (1762–1796) стиль барокко уступает место классицизму, заимствовавшему
формы античного мира. Зародившись во Франции еще в XVII веке, к середине XVIII века классицизм покоряет весь мир, а в Россию проникает
через приезжих французских архитекторов и воспитанников Петербургской Академии
Художеств. Его распространению способствовало и развитие в России европейских
идей просветительства, гуманизма и рационалистических начал.
Обращение России к формам античной языческой архитектуры,
казалось, не имело ничего общего с церковной традицией, однако классические
архитектурные ордера применялась и в византийских храмах. Возможно еще в XVI веке на стенах галереи-паперти
Благовещенского собора Московского Кремля появились изображения греческих
философов Платона и Анахарсиса, древнегреческого поэта Гомера и римского поэта
Вергилия, в руках которых находятся свитки с текстами отдельных изречений.
Здесь уместно вспомнить и одно высказывание современника эпохи классицизма в
архитектуре – преподобного Серафима Саровского (+1833). В беседе с Мотовиловым
он говорил, что «проявление Духа Божьего действовало и в язычниках, не ведавших
Бога Истинного, потому что и из их среды Бог находил избранных себе людей ибо
сказано: "языки, неведующие Бога, естеством законная творят и угодная Богу
соделывают"».
В последней четверти XVIII века императрицей Екатериной II (1762–1796) поощряется распространение в западной части России
католичества, а в архитектуре насаждается классицизм в формах древнеримского
зодчества. В церкви во имя свт. Филиппа Митрополита в Москве (1777–1788), построенной
архитектором М.Ф. Казаковым (1738–1812) на подворье митрополита Платона, была
впервые использована круглая форма древнеримской ротонды с двумя ионическими
портиками. Купольная ротонда была применена и архитектором Н.А. Львовым
(1731–1803) в церкви во имя Святой Троицы в селе Александровском под
Петербургом (1785), получившей в народе название «кулич и пасха» за
оригинальную композицию храма, состоящего из колокольни пирамидальной формы и
круглой церкви с купольным покрытием. Такова, например, возведенная в Москве
архитектором О.И. Бове (1784–1834) церковь в честь Преображения Господня
(Скорбященская) (1828–1833), интерьер которой украшен колоннадой ионического
ордера.
В Александро-Невском монастыре, основанном в 1724 году
Петром I, архитектором И.К. Старовым
(1745–1808) по одобренному Екатериной II проекту был
построен собор во имя Святой Троицы (1776–1790) над гробницей с мощами святого
князя Александра Невского, перенесенными ранее в Петербург из Владимира.
Композиция собора в виде трехнефного здания базиликального типа, увенчанного
огромным куполом на высоком барабане, с дорическим портиком и двумя
башнями-колокольнями на западном фасаде близка собору Св. Петра в Риме и в
целом типична для храмов Западной Европы того времени.
Введенные императрицей Екатериной II ограничения в содержание духовенства привели
к закрытию множества монастырей. Если в 1762 году во всех епархиях
насчитывалось 732 мужских и 222 женских обителей, то в 1810 году в Русской
Церкви было всего 452 обители.
При Павле I архитектором
Воронихиным в Петербурге строится Казанский собор (1801–1811) также в
подражание римскому собору Св. Петра с базиликальным планом и полукруглой
колоннадой.
Император Александр I (1801–1825) не получил православного воспитания, мирился со всеми вероисповеданиями
и не проявлял к нуждам Церкви никакого внимания, однако лично следил за всеми
новыми постройками храмов в империи. После Отечественной войны в нем развилось
религиозно-мистическое настроение. Он стал инициатором священного союза трех
государей: русского, австрийского и прусского – представителей трех главных
вероисповеданий Европы, проповедующего универсальную евангельскую религию. Тем
не менее, в начале XIX века,
ознаменованном победой над французами в войне 1812 года, в храмовой архитектуре
появляются черты, отражающие очищение общества от всех прежних
противонациональных и противорелигиозных увлечений. После освобождения Москвы
оказалось, что из 237 московских церквей 12 сгорели, 115 были сильно
повреждены, а остальные разграблены. Погибло множество церковных сокровищ и
памятников древности. Осквернение и ограбление храмов французами вызвало в
народе единодушный порыв и живой интерес к памятникам старины. В Петербурге
архитектором В. П. Стасовым (1769–-1848) возводятся два величественных пятиглавых
собора. Лаконичный образ собора в честь Преображения Господня (1827–1828)
сближает его с древними новгородскими храмами. В соборе во имя Святой Троицы
(Измайловском) (1827–1835) применен прием размещения малых глав по основным
осям по аналогии с находившейся ранее на этом месте деревянной церковью.
Идеи торжества победившей России и величия Православия
выражены в последних произведениях храмовой архитектуры эпохи классицизма,
интерьеры которых изобилуют декоративными деталями ренессансного и барочного характера,
уже выходящими за рамки классицизма. Таковы увенчанные купольными ротондами
Исаакиевский собор в Петербурге (1817–1841) архитектора О.Р. Монферрана,
церковь Св. Мартина Исповедника (1791–1806) архитектора P.P. Казакова и
собор в честь Богоявления в Елохове в Москве (1835–1845) архитектора Е.Д.
Тюрина.
Параллельно со столичным храмостроительством,
осуществляемым по проектам известных архитекторов, следующих господствующим
стилям, в провинциальных храмах продолжают развиваться как традиционные типы
храмов, так и своеобразная трактовка классицистических образцов. При этом
провинциальные храмы, которые строились не с холодным расчетом профессионалов,
а с использованием лишь внешних признаков нового стиля, но с горячей любовью к
дому Божьему, органично вливались и в городскую структуру и в ландшафт сельской
местности.
Начиная с конца XVIII века и по
20-е годы XIX века классицизм начинает вытесняться
подражаниями историческим архитектурным стилям. Поиск новых выразительных
средств путем соединения элементов стиля разных времен и народов был следствием
распространения художественного направления романтизма. В храмовой архитектуре
широко используются мотивы английской и французской готики, а также формы
русского зодчества конца XVIII века.
Такова, например, построенная архитектором Ю.М. Фельтеном Чесменская церковь
(1777–1780) в формах ложной готики, но с достаточно традиционным планом в виде
тетраконха. Овальная в плане церковь во имя святого князя Владимира в усадьбе
Быково под Москвой (1789), построенная архитектором В.И. Баженовым (1738–1799),
завершена куполом, окруженным шпилями, с двумя увенчанными шпилями башнями
колоколен на западном фасаде и обработанном в классическом стиле интерьером.
Церковь не имеет себе равных по оригинальности композиции.
Для XIX века
характерно появление нового в функциональном отношении типа храма – при
общественных учреждениях: больницах, административных и учебных заведениях.
Таков храм царевича Димитрия при Голицинской больнице в Москве, построенный
арх. М.Ф. Казаковым в 1796–1801 годах.
6. Поиск национального своеобразия в
храмостроительстве XIX–начала XX века
Характерное для романтизма обращение к формам
европейского Средневековья скоро привело и к пристальному вниманию к
отечественной старине. Одним из стимулов к изучению национального наследия и
поиска национального своеобразия в архитектуре было официальное направление
культурной жизни России, основывающееся на началах известной триады министра
просвещения графа С.С. Уварова (1786–1885) – «Православие, самодержавие, народность».
Одновременно, но с несколько других позиций допетровскую Русь высоко оценили
так называемые славянофилы. В основе их теории лежала мысль о исключительности
России, отличающейся от Западной Европы своим религиозным характером,
общественным укладом и национальным бытом. С принятием доктрины официальной
народности и возникновением течения славянофильства архитекторы стали
обращаться к тем формам прошлого, которые ассоциировались у них с новыми
идеалами национальности и народности.
Большую роль в изучении и пропаганде
древнерусского зодчества сыграли историко-архитектурные исследования ряда
ученых из среды духовенства: архиепископа Амвросия (А.А. Орнатского,
1773–1827), митрополита Евгения (Е.А. Болховитинова, 1767–1837), архиепископа
Макария (Н.К. Миролюбова, 1817–1894), а также других духовных лиц и
преподавателей духовных академий.
Внимание к древнерусскому зодчеству и его переоценка в
связи с поисками национального своеобразия в архитектуре, а также подготовка к
русско-турецкой войне 1828–1829 годов вызвали появление русско-византийского
направления, подразумевающего поначалу ввиду недостаточной изученности истории
национального зодчества и византийские и древне-русские храмы. В произведениях
русско-византийского направления воплощалась мысль о «Москве – третьем Риме» и
о православной России как исторической преемнице Византии не только в вопросах
религии и государственности, но и в храмостроении. Архитектором К.А. Тоном
(1794–1881) была сформулирована следующая основополагающая идея: «стиль Византийский,
сроднившийся с давних времен с элементами нашей народности, образовал церковную
нашу архитектуру».
Построенные в 30-х годах XIX. века в Петербурге церковь св. Екатерины у Калинкина моста, Введенская
церковь Семеновского полка – пятиглавые, крестово-купольные, но новшества,
введенные в конструктивную систему, создавали иной образ. В 1839–1883-х годах в
Москве был возведен храм-памятник погибшим в войну 1812 года - храм Христа
Спасителя. В его внешнем оформлении Константин Тон использовал такие элементы
русско-византийского направления, как колончатый пояс и белокаменная резьба
стен, перспективные порталы входов и килевидные завершения закомар, пятиглавие
и луковичную форму куполов. Однако прием одинакового решения восточного и
западного фасадов противоречит древнерусской канонической традиции.
По «образцовым проектам», разработанным Константином
Тоном в 1839 и 1844-м годах, был сооружен целый ряд храмов, имевших между собой
много общего во внешнем облике, формирующемся применением стандартных элементов
и приемов, заимствованных из исторических образцов русского зодчества.
Характерным примером русско-византийского направления в
храмостроении является и собор во имя Святой Троицы, построенный в 1875-м году
в Серафимо-Дивеевском монастыре по предсказанию преподобного Серафима
Саровского (+1833), придававшего монастырю очень большое значение, как
последнего оплота веры в царстве антихриста. Русско-византийские черты внешнего
оформления переплетаются здесь с классическими, что проявляется в
геометричности форм основного объема храма и применении треугольных фронтонов в
местах закомар. Сочетание элементов античной, византийской и древнерусской
храмовой архитектуры могло выражать мысль о вселенском значении монастыря,
призывающего к спасению «все языки».
Изучение подлинных византийских храмов, а также древних
храмов Грузии и Армении показало, что архитектура церквей русско-византийского
направления начального периода имеет мало общего с настоящими произведениями
византийского и древнерусского зодчества. Обращение к реальным образцам привело
к точному воспроизведению в строящихся храмах всех особенностей подлинников:
полосатой кладки стен, одноглавия, шлемовидной формы купола и т.д.
Собор во имя святого князя Владимира в Херсонесе,
построенный в 1861–1879 годах по проекту архитектора Д. И. Гримма (1828–1898)
над руинами церкви, которая была основана святым князем Владимиром в память
своего крещения, стал эталоном для многочисленных подражаний.
Крестово-купольный собор имеет ступенчатое построение объема, точно скопированные
с византийских церквей двухчастные и трехчастные окна и аркады, полуциркульные
окна барабана главы и плоский купол. Такое же обращение к византийским образцам
характеризует и архитектуру собора во имя святого князя Владимира в Киеве,
построенного в 1862 – 1896-х годах по проекту архитектора А.В.Беретти и
расписанного в основном В.М. Васнецовым (1848–1926) и М.В. Нестеровым
(1862–1942) с участием М.А. Врубеля (1856–1910) и других выдающихся художников.
В противовес официально признанному направлению в
храмовой архитектуре, основывающемуся на византийских прообразах, развивается
другое направление, опирающееся на прообразы допетровского русского зодчества,
к этому времени уже изученного такими зодчими и учеными, как С.С. Суслов, Л.В.
Даль, И.М. Снегирев, А.А. Мартынов. В конце 1840-х, начале 1850-х годов
архитектором М.Д. Быковским (1801–1885) при постройке колоколен в Страстном и
других московских монастырях были использованы традиционные формы московского
зодчества допетровского периода. Тогда же, на острове Валаам по инициативе
настоятеля монастыря игумена Дамаскина архитектором А.М.Горностаевым
(1806–1862) был построен собор в честь Спасо-Преображения (окончен в 1887-м
году), церкви многочисленных скитов и другие монастырские сооружения, также
опиравшиеся на древнерусские прообразы. Подобным примером может служить и собор
в честь иконы Умиления Царицы Небесной, построенный архитектором А.А.
Румянцевым в Серафимо-Дивеевском монастыре в 1905–1920-х годах, в архитектуре
которого творчески использованы элементы и приемы владимиро-суздальского
зодчества.
В 1880-е годы националистические настроения, определяемые
русско-турецкой освободительной войной 1877–1878 годов, которые вдохновляли
первых создателей русско-византийского направления 1830-х годов, теперь вызвали
к жизни «русский» стиль, представлявший достаточно сухие копии московских и
ярославских посадских кирпичных храмов XVII века. Распространению его способствовало и повеление
императора Александра III строить «в
чисто русском вкусе XVII столетия» в
связи с конкурсом по сооружению храма на месте покушения на имп. Александра II. Архитектура храма в честь
Воскресения Христова («на Крови») в Петербурге (1887–1907, арх. А.А. Парланд)
представляет собой подражание московскому храму Василия Блаженного с его асимметричным
многоглавием и дробной отделкой фасадов. Новый русский стиль, характеризующийся
измельчением масштабного строя, пестротой и дробностью форм и деталей, внешне
отличался от крупномасштабных, величественных сооружений русско-византийского
направления, но формирование архитектуры осуществлялось все теми же методами
поверхностного использования традиционных архитектурных форм.
В конце XIX – начале XX веков храмостроительство переживает
период бурного развития. В это время были основаны ныне действующие женские
монастыри: Киевский Покровский (1889), Пюхтицкий Успенский (1891), Рижский
Свято-Троицкий Сергиев (1891). В этот период появляются храмы, почти полностью
воспроизводящие образцы древнерусского зодчества. Таковы церковь Спаса «на
водах» в Петербурге, образцом для которой послужил Дмитриевский собор во
Владимире. В неорусском направлении второй половины 1900-х годов в храмовой
архитектуре уже нет стремления к чисто внешнему подражанию древнерусским
оригиналам. Взяв за основу одну из тем древнерусского зодчества, архитекторы
создают композиции, лишь ассоциативно напоминающие прообразы. Однако, освоение
прошлого без проникновения в существо заложенной в них религиозной идеи,
которая была первопричиной их создания, не могло привести к полному успеху.
Впервые новый
подход был осуществлен художниками абрамцевского кружка В.М. Васнецовым и В.Д.
Поленовым в проекте церкви Спаса Нерукотворного (1880–1882) в усадьбе А.С.
Мамонтова в Абрамцеве. За основу ими были приняты мотивы псково-новгородского
зодчества XIV – XV веков, которые были ими творчески интерпретированы.
В начале XX века в неорусское направление стали
вплетаться мотивы популярного в светском зодчестве стиля «модерн». В
храме-памятнике на Куликовом поле во имя св. Сергия Радонежского (1913–1916), храме
в честь Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Ма-риинской обители в Москве
(1908–1912) и Успенском соборе Почаевской Лавры (1906–1912) архитектор
А.В. Щусев (1873–1949) намеренно выделяет те особенности и «неправильности»,
которые составляют отличительную черту многих древнерусских храмов. В храме
Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия, созданной великой княгиней святой
Елизаветой Федоровной для оказания помощи воинам, пострадавшим в
русско-японской войне, стилизованы черты древней архитектуры Новгорода, Пскова
и Москвы. Роспись храма осуществил в 1911 году художник М.В. Нестеров, а
подземной усыпальницы – его ученик художник П.Д. Корин (1892–1967).
Вплоть до
1917 года в Москве продолжается бурный рост храмостроительства, начавшийся еще
в конце XIX века.
С 1890-х годов было построено около 100 новых храмов. К началу XX века в Москве насчитывалось: 9
соборных храмов, 80 монастырских храмов, 258 приходских храмов, 122 домовые
церкви и 78 значительных часовен. Всего в Москве было 450 православных церковных
зданий и домовых церквей с общим числом престолов свыше 1060; монастырей было
14 мужских и 7 женских.
Кроме
церковных зданий, в Москве начала XX века было множество других строений, обеспечивающих
деятельность приходских братств и попечительских обществ, образованных при семи
десятках московских храмов. Вышедший в 1901 году «Сборник справочных сведений о
благотворительности в Москве» свидетельствует о наличии к началу XX века в церковных домах 101 богадельни
на 8–20 человек для престарелых прихожан и 9 учреждений для престарелых лиц
духовного звания. При храмах действовали также около 100 церковно-приходских
школ, в которых бесплатно получали образование дети прихожан. К началу 1920
года у Церкви было конфисковано 551 жилой дом, 100 торговых помещений, 52
школьных здания, 71 богадельня, 31 больница и 6 детских приютов.
Начиная с
выхода в 1905 году манифеста о веротерпимости, в Москве наблюдается усиленное
возведение старообрядческих церквей, многие из которых построены в стиле
«модерн» известным архитектором И.Е. Бондаренко.
В 1918 году в
Москве проходит заседание Поместного собора Русской Православной Церкви,
возобновившего Патриаршество во главе со Святейшим Патриархом Тихоном.
Последняя служба в Успенском соборе Кремля состоялась на Пасху 1918 года, после
чего кремлевские храмы были превращены в музеи, закрыты или разрушены.
В 1918–1920-х
годах была проведена национализация церковных и монастырских иму-ществ, а в
1922 году в связи с законом об отделении Церкви от государства были закрыты все
домовые церкви, составлявших четвертую часть всех московских храмов.
В начале 20-х
годов в связи с церковным расколом происходит захват православных храмов
общинами обновленцев, в том числе храм Христа Спасителя, церковь Воскресения в
Сокольниках – последний из построенных до революции храмов в Москве.
До середины
20-х годов ревнителям московской старины еще удавалось проводить реставрацию
наиболее древних храмов. Так, при деятельном участии П.Д. Барановского (1892–1984)
был восстановлен Казанский собор на Красной площади и ряд других храмов,
которые вскоре были безжалостно снесены. Из храмов, состоящих на
государственном учете в качестве памятников, 60 % было снесено, в том числе
памятник победы в войне 1812 года – храм Христа Спасителя.
Последним из
закрытых московских монастырей, большинство из которых было превращено в
концлагеря, стал Даниловский монастырь, закрытый в 1930 году.
С 1917 по
1975 год в Москве было снесено 284 православные церкви и 63 часовни.
Во время
Великой Отечественной войны прихожанам части закрытых церквей удалось добиться
их возрождения (Всех Святых на Соколе, Всех Скорбящих на Ордынке и др.), но
одновременно было снесено несколько колоколен и звонниц под тем предлогом, что
они служат ориентиром для немецкой артиллерии.
Во времена
хрущевских гонений на церковь конца 1950 – начала 1960-х гг. Москва потеряла
целый ряд известных памятников церковного зодчества, среди которых храм
Преображения в Преображенском, взорванный в 1964 году под предлогом
строительства станции метро. Сейчас стоит вопрос о его восстановлении.
Для русского
храмостроительства XX век оставил 70-летнюю брешь, в которой была утеряна преемственность
тысячелетнего опыта. В этот период храмовая архитектура интересовала лишь
историко-архитектурную науку, которая рассматривала храмы с идеологической
точки зрения, как мертвые памятники архитектуры, да небольшую группу
реставраторов.
В это время
русские общины, оказавшись в эмиграции в странах Западной Европы и Америки,
продолжали развивать русскую традицию храмостроения, используя новые возможности
строительной технологии. Так, например, храм в Вашингтоне, выполненный в
железобетоне, обращен к образцам владимиро-суздальского зодчества XII века.
Поворот
государственной идеологии в сторону Церкви, начавшийся в России в 80-х годах в
период «перестройки», открыл дорогу храмостроительству. Однако этот путь надо
было открывать заново и в практическом, и в теоретическом смысле не только
архитекторам и строителям, для которых специфические формы храмового зодчества
были не знакомы, но и богословам. Первым опытом стал конкурс на проект
храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси, проводившийся в Москве в 1987
году. Несовершенны были и программа конкурса и представленные проекты, носящие
в основном эклектический или модернистский характер. Получивший в результате
второго тура первую премию проект академика А.Т. Полянского представлял собой
сильно увеличенную копию традиционного четырехстолпного пятиглавого храма с
неравноцентренными профилями закомар.
Однако за
последние 10 лет профессиональный уровень проектов православных храмов
постоянно повышается, о чем говорит опыт воссоздания такого уникального
сооружения, как храм Христа Спасителя в Москве. Сохранив габариты, плановую
структуру и элементы декора, проектировщики внесли множество изменений в конструктивную
часть и системы инженерного обеспечения, что практически не отразилось на
восприятии фасадов и интерьеров храма.
В настоящее
время Русская Православная Церковь имеет 130 епархий. Общее число приходов (не
считая находящихся на Украине) – 19417. Количество монастырей достигло 545, не
считая монастырских подворий. Только в Москве действуют 9 монастырей и 410
православных храмов, не считая 45 часовен и 18 монастырских храмов.
3.1.2.8.
Кудрявцев. М.П., Кудрявцева Т.Н.
Русский
православный храм. Символический язык архитектурных форм
(«К Свету», № 17, М., 1998, с. 65-87.)
Кудрявцевы Михаил
Петрович (+1998) и Татьяна Николаевна – исследователи древнерусского церковного
зодчества и, в частности, символики русского православного храма.
Архитектура, как и каждый вид искусства, имеет присущий
ей профессиональный язык – язык архитектурных форм, неразрывно связанный однако
с мировоззрением человека, с его духовным устроением. Именно поэтому смысл и
значение архитектурных форм русского православного храма можно уяснить лишь
рассматривая храм в его идее – как плод домостроительства Божия – на основании
Священного Писания и творений святых отцов Церкви.
Св. Димитрий
Ростовский пишет: «Основание дома Божия, Церкви, Сам Христос, стены – закон
Божий, столпы – апостолы, евангелисты, учители, покров – Дух Святый».
Представление
о том, что видимые, вещественные предметы обозначают мир невидимый и
таинственно связывают небо и землю посредством проявляющейся через видимые
символы Силы Божией, ясно изложено в «Книге о храме» св. Симеона митрополита
Солунского, в трактате св. Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии»: «Хотя
храм устраивается из вещества, но его осеняет высшая благодать. Он освящается
таинственными молитвами архиерея, помазуется миром божественным и весь делается
селением Верховного Существа».
«...Под
чувственными образами предначертаны нам пренебесные Умы в священных письменах,
дабы мы чрез чувственное восходили к духовному, и чрез символические священные
изображения – к простой, горней небесной иерархии».
В связи с
этим не случайным видится и соединение в слове церковь двух понятий: церковь –
храм, то есть, воздвигнутый из земной материи дом Божий, «место лицезрения
Божия и поклонения твари Творцу», и Церковь – Тело Христово, образуемое
соборным единством всей иерархии Церкви небесной и Церкви земной, пребывающей в
истинной вере. Именно поэтому представляется возможным рассмотрение видимых
форм земного дома Божия – храма как символов духовной иерархии, составляющей
незримо Тело Христово.
Начальным
первообразом православного храма и его конечной идеальной целью являются образы
небесные: рай и растущее в нем Древо жизни, «дающее на каждый месяц плод свой»
(Откр. 22. 2) – как первообраз благодатной Церкви Христовой и пребывающих в ней
святых, и Небесный град Иерусалим, который сойдет на обновленную землю после
Второго пришествия Христова, – обитель, уготованная Богом для Церкви
Торжествующей.
Так же, как
события священной истории Ветхого Завета, по толкованию св. отцов Церкви,
являются прообразами священных событий Нового Завета и основания Церкви
Христовой, так и христианский храм по своему внутреннему устроению и внешним
формам имеет историческое развитие, прообразуемое еще в Ветхом Завете.
Главным
ветхозаветным прообразом христианского храма является скиния св. пророка
Моисея. Основанием новозаветного храма стала пещера Гроба Господня, где
совершилось чудо Воскресения Христова. Первым новозаветным храмом почитают
также св. отцы Церкви Сионскую горницу, где Самим Господом было установлено
таинство Евхаристии и где совершилось на пятидесятый день по Воскресении
Христове сошествие Святого Духа на апостолов. Алтарь каждого христианского
храма, как главная его святыня, соединяет в своем символическом значении все
упомянутые прообразы Ветхого и Нового Завета и в различные моменты богослужения
знаменует рай небесный с Древом жизни, чертог небесного Царя, Гроб Господень,
Сионскую горницу, скинию Завета.
Такие
духовные уподобления алтаря и всего храма нашли свое отражение в символическом
значении отдельных форм и деталей православного храма, в его конструкциях,
традиционных строительных материалах, орнаментальных и сюжетных росписях,
резном и изразцовом декоре. Эту область символического языка архитектуры
православного храма можно условно назвать «прообразовательной».
Несколько
иная область храмовой символики связана с охранительной силой знамения Креста
Господня, а также с обозначением особого рода служения Церкви ангельских Сил,
охраняющих чистоту дома Божия, как освященного места благодатного присутствия
Господа и святых Его. Этот род символики можно назвать «богоохранительной».
И, наконец,
наиболее обширная и постоянно развивающаяся область символического
архитектурного языка православного храма связана с домостроительством Божиим,
то есть, с происходящим в историческом времени созидания Церкви как Тела
Христова, во всей полноте ее земной и небесной иерархии. Если первоначальную
Церковь Христову составили св. апостолы, их ученики и последователи – на земле;
сонм праведников, выведенных Спасителем из ада, и ангельские чины – на небе, то
в дальнейшем земная и небесная Церковь стала пополняться чинами мучеников,
святителей, преподобных, блаженных, благоверных князей и княгинь и других
праведников и исповедников веры.
Архитектурные
формы и детали православного храма, символически отражающие это незримое
духовное созидание Тела Христова, можно отнести к области символики
«домостроительной». К этой же области относится и уподобление храма образу
Пресвятой Богородицы – одушевленному храму, в который вселился Господь.
Следует еще
подчеркнуть, что все три выделенные области символического языка архитектуры
православного храма тесно связаны друг с другом и часто воплощаются в одних и
тех же деталях храма путем сочетания символики формы, орнамента, цвета,
сюжетных изображений, материалов.
Предметные,
или вещественные, церковные символы принято делить на знамения (знаки) и
образы.
Знамения –
это такие предметы или изображения, которые передают духовное значение
божественных и небесных истин и явлений, не изображая их непосредственно. Св. Дионисий
Ареопагит именует такие символы «несходными подобиями».
Образы – это
священные изображения и предметы, овеществляющие не только духовное значение,
но и самое внешнее сходство божественных и небесных лиц и предметов.
Символика
храма и его различных частей явилась предметом обширной литературы. Однако лишь
в самых редких случаях исследователи делали попытки раскрыть содержание
отдельных архитектурных форм или деталей. Более всего разработан вопрос о
значении венчающего храм креста, особенно подробно – в книге св. праведного о.
Иоанна Кронштадского. Достаточно исчерпывающе раскрыт смысл маковицы храмовой
главы и многогла-вия, столбов и стен, а также кокошников и шатра. Но этим, в
основном, и исчерпывается круг архитектурных форм, освященных в достаточной
степени в опубликованных исследованиях.
Предлагаемая
в этой статье попытка дальнейшего раскрытия и уточнения символического
содержания отдельных архитектурных форм и деталей православного русского храма
основывается на имеющихся толкованиях св. отцов Церкви, а также на методе
выявления изображений и символических знаков, помещаемых на этих формах внутри
и снаружи храма. Каноничность всего церковного искусства, в том числе и
храмовой архитектуры, а также устойчивость связи некоторых символов и
изображений с определенными архитектурными формами, позволяют предполагать, что
эти формы сохраняют то же символическое значение и будучи лишенными каких-либо
изображений. Наконец, рассматривая изменение тех или иных форм во времени,
можно уяснить, какие новые формы продолжают нести прежнее содержание.
Часто в науке
верх храма называют главой, но это неточно. Древнерусские письменные источники
дают название всех частей верха: «Громъ бысть великъ зело, и стрела громная
прииде в верх церковный, и падеся глава церковная и шея внутрь церкви».
Подобных свидетельств можно много найти в документах. Здесь следует подчеркнуть
символическую «антропоморфность» устройства храма, выраженную в названии его
частей. Так, часто вместо общего названия «маковица» применялось образное выражение
«лоб»: «Побиша лобъ у Святыя Троица железом». Символическое духовное содержание
основания глав, как одной из архитектурных форм канонического
крестово-купольного храма, раскрывается через смысл внутренней конструкции
этого основания и систему внутренних росписей, традиционно связанных с ним. В
домонгольский и раннемос-ковский период основания верхов храмов делались
развитыми, образующими один из важных ярусов в общем строе храма.

Спасский собор
Спасо-Андроникова монастыря. XV в.
Реконструкция–гипотеза первоначального вида собора М.П. Кудрявцева по данным
Б.А. Огнева, П.И. Максимова, Л.А. Давида
Внутри основания размещался сводчатый переход от
крестовых сводов основного объема храма к цилиндру шеи, называемый «парусами».
В древнерусских источниках встречается название этой конструкции – «пазухи». В
общем смысле термин «пазуха» (как считается ныне) в древнерусском зодчестве
применялся для обозначения свода, углубления, ниши. Однако, одновременное
существование терминов «свод», «комара» и «пазуха» говорит о том, что они
относятся к разным, хотя и в чем-то сходным конструкциям. В древнерусских
источниках нет ныне применяемого слова «распалубка» – род сводчатой ниши для
размещения окна или перехода от свода к плоской стене. То, что термин «пазуха»
применялся для обозначения ниши, известно очень хорошо. Кроме того, И.Е.
Забелин приводит текст из древней Кормчей книги, где в описании Апостольской
церкви говорится:
«Главу бо
церковную держит Христос, шею – апостолы, пазухи – евангелисты». Действительно,
изнутри основания верха храма изображаются всегда четыре евангелиста.
На иконе
«Спас в Силах» композиция изображения подобна росписям церковного верха. В
центре иконы – Господь в сфере космоса, в окружении ангельских Сил – серафимов,
херувимов и символов четырех евангелистов, помещенных в углах ромба с вогнутыми
сторонами. На сфере купола храма почти всегда изображен Спаситель, ниже, на
стенах шеи – серафимы, херувимы, ангелы, еще ниже, на парусах (пазухах) –
евангелисты.
Следовательно,
с одной стороны ясно, что (так называемые «паруса» и «распалубки» надо
по-древнерусски называть «пазухами», а с другой стороны – что основание главы
есть символ Евангелия, распространения христианского учения на четыре стороны
света, просвещение им всего мира.
Внешне
основания храмового верха выражены различно. Иногда это – плоский прямоугольник
(в плане квадрат), иногда – сужающийся к шее конус с округленными углами. Часто
эти основания украшаются закомарами или «кокошниками», что подчеркивает связь
Евангелий и евангельской проповеди с небесными силами. Часто основание главы
делалось восьмигранным, что позволяло выделить в плане и на фасадах храма
крест, ориентированный, как и весь храм, по сторонам света. Это служило
дальнейшим раскрытием содержания Евангелия как повествования о Крестной Жертве
Христа.
Развитие
древнерусского храмового зодчества привело к появлению бесстолпных храмов, где
нет внутри пазух, а евангелисты изображаются вверху сомкнутого свода. Иногда
вместо евангелистов изображались здесь события из Евангелия. В случаях
сомкнутого свода основанием главы можно считать верхний ряд кокошников,
обрамляющих храмовый верх. Такое архитектурное решение основания глав можно
видеть на церкви Николы Посадского в Коломне, церкви Покрова Богородицы в
Рубцове в Москве и на многих других бесстолпных храмах с ярусами кокошников,
наибольшее распространение получивших в московском зодчестве XVII века. И все же, в крестово-купольном
храме выражение идеи четырех Евангелий в виде выступающего основания главы,
обрамляющего пазухи храма, в архитектурном отношении более ясно.
Изнутри шеи
главы обычно находятся изображения апостолов, либо поярусно изображения всех
чинов небесной Церкви – пророков, апостолов, архангелов и высших чинов небесных
сил – херувимов и серафимов, как, например, в хорошо сохранившейся росписи
Феофана Грека главы церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде. Все эти
изображения, включая евангелистов на пазухах (с их символами – орлом, львом,
тельцом и ангелом) и Спаса Вседержителя на своде главы, полностью соответствуют
описанию небесного престола во славе у пророка Иезекииля. В ряде древних храмов
снаружи, в простенках между окнами шеи помещались изображения апостолов.
Изображения
праотцев и пророков снаружи шеи верха крайне редки, а на Руси их не
сохранилось. Однако традиция размещения здесь образов апостолов дожила и до XVIII – XIX веков. Один из интереснейших примеров
– изразцовые образы апостолов на шеях глав церкви Успения в Гончарах в Москве XVII века.
Есть и
наружные изображения небесных сил на венчающих частях шеи непосредственно под
маковицей главы. Мы их видим, например, на маленьких комарах (аркосолиях)
опушки главы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. В виде львиных масок Силы
изображены на городчатом ярусе карниза шеи Дмитровского собора во Владимире.
Вообще Дмитровский собор представляет особый интерес для изучения древней
изобразительной и знаковой, и архитектурной символики. На простенках шеи, где
внутри расположены росписи чинов Новозаветной и Ветхозаветной Церкви, снаружи в
растительном орнаменте – символе Древа Жизни – помещены символические звери и
птицы внутри аркатуры, опоясывающей всю шею собора.
Видимо, здесь
мы сталкиваемся с обозначением снаружи храма в прикровенных символах того же,
что внутри раскрыто в иконописных образах. Птицы – символ праведных душ, ими
часто изображались св. апостолы (как на упомянутых выше древнем храмовом кресте
Дмитровского собора и алтарной мозаике церкви св. Климента в Риме). Лев, телец,
орел – общеизвестные символы евангелистов. Обозначением чинов ангельских сил
также часто служили зооморфные символы – лев, конь, орел, вол. Такое
соотношение наружных и внутренних изображений в общем строе символики храмовой
архитектуры вполне соответствует представлению древних христиан о том, какие
истины веры могут быть открыты всем, в том числе и язычникам, а какие должны
быть только тайным знанием посвященных.
Традиция
изображения в верхних частях шеи храмового верха небесных сил также сохраняется
долгое время. Так, например, они имеются в сооружениях ансамбля Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастыря XVII века.
Все связанное
дает основание для вывода, что символическое значение шеи, как архитектурной
формы храмового верха, – это изображение небесной Церкви через образы
апостолов, пророков, праотцев, архангелов, херувимов и серафимов. Окна шеи –
свет учения Церкви. Простенки – чины святых, а венчающий шею карниз – небесные
силы. Следовательно, когда мы имеем дело с чисто архитектурными формами –
окнами, аркатурой и карнизом – без конкретных изображений, то содержание этих
форм не может быть иным, так как они неотделимы от всего храма – образа земной
и небесной Церкви. Отсюда и тот декор, который включается в архитектурные формы
храма вместо изображений, несет в себе символ отсутствующего образа. Например,
поставленные ромбами изразцы в аркатурах шей храмов XVI–XVII веков, напоминающие форму
священнической палицы – «меча духовного», суть знамения чинов святых небесной
Церкви, а подобные им или иные изразцы и орнаментальные пояса карнизов шеи –
знаки чинов сил бесплотных. Это относится и к различным поребрикам, бегунцам и
другим элементам декора архитектурных форм. Их аналоги имеются в христианском
изобразительном искусстве – на древних фресках и мозаиках Византии, Киевской
Руси, в изображениях сфер космоса, где разнообразные спирали, волнообразные и
зигзагообразные линии и другие знаки обозначают, видимо, не только небесные
силы, но и различные проявления их действия.
Маковица
главы, как об этом неоднократно уже писали исследователи – знак пламени, огня,
а следовательно, огненных небесных сил, несущих небесный престол. Е. Трубецкой
писал, в частности: «При взгляде ...на Иван Великий кажется, что мы имеем перед
собой как бы гигантскую свечу, горящую к небу над Москвой». Здесь важно
обратить внимание и на то, что термин «глава» («голова») однокоренной со словом
«головня», «главня», которое в древнерусском языке означает факел. Так, в
древнем толковании на 13 стих описания небесного престола у Пророка Иезекииля:
«И посреде животныхъ, яко оуглия огня горящий, яко видение свещъ сообращающихся
посреде животных, и свет огня, и от огня исхождаше яко молния...» – говорится:
«Главня же, подобныя меди блискающеся, являет свет». В том же значении факела
мы встречаем это слово далее у Иезекииля: «Азъ же возвеличю главню и възгне-шу
огнь», или в Ипатьевской летописи под 1251 и 1258 гг.: «Ляхомъ же крепко борюще
и сулицами мечуще и головнями, яко молнья идяху». Именно таким образом свечи
или факела предстает глава древнерусского храма, и в этом смысле так же, как
пишет Иезе-кииль об «отверстом небе», так и мы можем сказать, что в своей идее
глава не закрывает храм, а открывает его в небо. Это символическое открытие
храма перекликается с прямым раскрытием древнейших храмов, как, например,
открыт в небо храм Гроба Господня в Иерусалиме.
В русских
храмах образ Спасителя на своде главы, а также заменяющий его иногда в храмах XVI века знак пламеневидной спиральной
свастики (например, в Рождественском соборе Рождественского монастыря Москвы, в
соборе Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, в шатровом Покровском приделе
Троицкого собора на Рву) – это символическое обозначение духовного открытия в
небо.
Иерусалимский
храм-ротонда бесспорно является «главой» всех христианских храмов. Владыка
Сергий (Голубцов) справедливо отмечает: «Круглые храмы (ротонды) обязаны своим происхождением
погребальным усыпальницам весьма древнего происхождения. Впоследствии подобная
архитектура оформляла христианские баптистерии. Ротонды оказали сильное влияние
на развитие купольного завершения храмов и в этом их большое значение для
храмостроительства. Круг, как символ вечности Божества, безграничности
вселенной, как нельзя больше подходит к его выражению в купольной системе и
потому естественно вошел в обязательное конструктивное завершение храмов».
Содержание
русского церковного верха явно повторяет основной символический строй и
значение Иерусалимской святыни. По-видимому, в этом факте кроется разгадка
одной из своеобразнейших черт древнерусского зодчества – высокого храмового
верха. Образно говоря, русские зодчие на крестовый куб византийского храма
поставили иерусалимскую ротонду – символ Воскресения Христова и создания
христианской Церкви. Эта удивительная зрелость русского архитектурного мышления
уже в X – XII веках, возможно, имела основания в предшествовавшем периоде русского
зодчества.
Развитие
такой идеи верха церковного и привело, видимо, к постепенному увеличению
«пламени» маковиц глав, к тому уникальному образу церковной главы, который
увенчал храмы XVII века и более поздние, построенные по древним традициям, как многие
деревянные церкви русского Севера XVIII – XIX веков.
Византийское
зодчество, которое почитается у нас истоком древнейшего русского
храмоздательства, имеет в качестве венчающей формы главы – полусферу (как на
константинопольской Св. Софии) – то есть образ не пламени, горящего к небу, а
как бы ровного сияния, или света Божия, сходящего с неба на нас.
Главы
киевской Св. Софии дают нам представление о древнейших из известных нам формах
русского церковного зодчества. Центральная глава подобна образу великокняжеской
«шапки Мономаха». Точнее всего ее облик воспроизведен на реконструкции Г.Я.
Мокеева, что подтверждается и известными зарисовками Софийского собора в XVII веке Вестерфельда. Остальные главы Св.
Софии киевской уже являют образ пламени. Это и наше молитвенное горение к Богу
и божественный огонь, осеняющий нас. Уменьшение этого «горения» маковиц
относится к периоду ордынского ига, когда воспламенение как бы немного угасает
и маковица главы превращается в чистый образ воинского шлема. Однако, это лишь
иной образ огня, поскольку земное воинство почитало своими покровителями
воинство небесное – ангельские силы, предводительствуемые архистратигом
Михаилом. Ангелы же чаще всего уподобляются огню, потому что «вид огня
указывает на богоподобное свойство небесных умов. Ибо св. богословы описывают
часто высочайшее и неизобразимое Существо под видом огня, так как огонь носит в
себе многие и, если можно так сказать, видимые образы божественного свойства».
Поэтому шлем воина-князя, на котором часто помещался образ архистратига Михаила,
и шлем-маковица православного русского храма XIII–XIV веков – сливались в единый образ
огненного ангельского воинства.
После конца
ордынского ига воспламенение церковных маковиц на Руси все больше нарастает и
приходит к традиционной для XVI–XVII вв. форме огромных пламенеющих
маковиц, диаметр которых значительно больше диаметра шеи. Венец огненного
многоглавия русских храмовых ансамблей – 33 главы Кижского погоста на Онежском
озере.
В ярославском
зодчестве еще в начале XVII века появилась форма завершения главы, напоминающая чашу (например, храм
Иоанна Предтечи). В более позднее время развитие такой формы приводит к ярко
выраженному образу потира (чаши с причастием). Таково завершение главы церкви
Спаса Преображения в Радонеже, 1840 г. В этой форме маковиц полностью
сохраняется символика огня, так как причастие есть «огнь, опаляющий наши
грехи», и над ним вознесен Крест Христов.
Существенную
роль в оттенках символического значения верха храма имеет количество глав,
раскрывающее в числовой символике иерархию устроения небесной Церкви – одна
глава знаменует единство Бога; две соответствуют двум естествам Богочеловека
Иисуса Христа; три – знак Святой Троицы, четыре – обозначают Четвероевангелие и
его распространение на 4 стороны света; пять глав – Господа Иисуса Христа и
четырех евангелистов; семь – знаменуют семь таинств Церкви, семь даров Св.
Духа, семь Вселенских Соборов; девять – связаны с образом Пресвятой Богородицы,
как Царицы небесной Церкви, состоящей из девяти чинов ангелов и девяти чинов
праведников; тринадцать глав – знамение Господа Иисуса Христа и двенадцати
апостолов; двадцать пять глав могут быть знамением апокалиптического видения
престола Св. Троицы и двадцати четырех старцев (Откр. 11. 15–18), или
обозначать Похвалу Пресвятой Богородице (25 икосов и кондаков древнейшего
акафиста
Богородице) –
в зависимости от посвящения храма; тридцать три главы – число земных лет
Спасителя. Количество глав, таким образом, связано с посвящением главного
престола храма, а также, зачастую, и с количеством престолов, соединенных в
одном объеме.
Говоря о
развитии архитектурных форм храмового верха, необходимо хотя бы вкратце
коснуться символики закомар и кокошников, венчающих стены храма.
Всем
разнообразным формам закомар и кокошников – полукруглым, треугольным, в виде
«сферических» треугольников, огневид-ным различного очертания – можно найти
подобия в очертаниях маковиц церковных глав, а также в иконописных символах
чинов ангелов, изображениях небесного огня в огненном восхождении Илии Пророка,
изображениях огненных сил, окружающих Спасителя в виде пламеневидной мандорлы
на иконах Успения Богородицы, Воскресения Христова. Кроме того, имеется много
примеров помещения на плоскости кокошников и закомар изображений серафимов,
херувимов, ангелов, апостолов или их символических знаков – ромбов, ромбов с
крестами или растительными розетками, полусфер, равноконечных крестов.
В общем
смысле домостроительной символики храма – закомары и ярусы кокошников,
окружающих его главу (или несколько глав), создают образ небесной Церкви
(ангелов и праведников), предстоящей престолу Божию и Его славящей.
Разнообразие же в очертаниях форм закомар и кокошников разных храмов, а иногда
и разных ярусов одного храма может означать различные виды служения и
исповедания веры многочисленной иерархии небесной Церкви – девяти чинов ангелов
и девяти чинов праведников (праотцев, пророков, апостолов, святителей,
мучеников, преподобных и других).
Не
противоречит такому пониманию смысла архитектурных форм верха храма и другой
образ, его дополняющий, – ниспосылаемого молящимся огня небесного – благодати
Святого Духа, питающей и оживотворяющей земную Церковь. Подобный же иконописный
образ – сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.
В
символическом устроении многих древнерусских храмов, особенно XVI – нач. XVII века, и колоколен огромное значение
имеет форма шатра. Чаще всего шатер делался восьмигранным. В плане он образует
форму, сходную по построению с восьмиконечной звездой, помещаемой трижды на
мафории Пресвятой Богородицы и часто употребляемой в церковном искусстве
отдельно в качестве Ее символа. С точки зрения числовой символики, в основе
формы восьмигранного шатра (так же, как и богородичной звезды) лежит число
девять, образуемое восьмью углами (или гранями) и геометрическим центром –
вершиной шатра с маковицей и крестом. Выше уже говорилось о числе девять как
символе девяти чинов ангелов и девяти чинов праведников, которые имеют
трехчастную иерархию, что видимо отражено в треугольном строении каждой грани
шатра. Значение восьмиконечной звезды полностью раскрывается в иконе Неопалимая
Купина, где Матерь Божия предстает в образе Церкви. И земная жизнь Ее
празднуется восьмью праздниками, а прославляется девятым – Собором Пресвятой
Богородицы. Здесь Она предстает Царицей небесной, которой Господь отдал под
начало и царство все чины ангелов и святых. С любой стороны восьмигранный шатер
виден тремя треугольными гранями, каждая из которых имеет три вершины и
сходится к главе.
Другой символ
Пресвятой Богородицы, образно воспроизводимый шатром, – лествицы, виденной св.
праотцем Иаковым, которая «утверждена на земли, еяже глава досязаше до небесе,
и ангели Божий восхождаху и низхож-даху по ней» (Быт. 28. 12). Это видение,
являя людям непрестанное Божие попечение о мире, было, по учению св. отцов, прообразом
Богоматери, что подтверждают и слова древнейшего акафиста, прославляющего
Пресвятую Богородицу «Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся
мосте, преводяй сущих от земли на небо» (Икос. 2).
Таким
образом, шатер, возносящий ввысь главу с крестом, – символ Богородицы Царицы
Церкви – раскрывает то же значение верха как славящей Господа Церкви небесной, что
и в храмах крестово-купольных или бесстолпных с ярусами кокошников.
Стены храма в
приведенных ранее словах св. Димитрия Ростовского толкуются как Закон Божий. И
в этом смысле интересно сопоставить росписи стен внутри храма с символикой
архитектурных деталей снаружи. Содержание стеновых росписей обычно составляют
евангельские события земной жизни Христа, Пресвятой Богородицы, апостолов – зримый
образ Закона Божия, данного христианам в Новом Завете. На стенах также часто
пишутся и образы святых – князей, святителей, мучеников, преподобных – жизнью
своей исполнявших, утверждавших и проповедывавших закон христианской веры.
Таким
образом, стены храма – это и образ служения Церкви небесной нам, Церкви земной:
защита чистоты Православия и соборное молитвенное предстательство о живущих
перед Богом.
Снаружи
наиболее выразительная архитектурная деталь, дополняющая образ, собственно
стены храма – аркатурный пояс древних храмов XII–XV веков, орнаментальные пояса XIV–XVI веков, резные и изразцовые карнизы XVI-XVII веков.
Аркатурные
пояса древнерусских, особенно владимиро-суздальских храмов – это поэтический
рассказ о жизни святых в райском саду. Как подробно рассказывает об этом
аркатура Дмитровского собора во Владимире. Столбцы и арочки изображают здесь
идеальные деревья. Между ними растут еще деревца, на которых сидят птицы. У
«корней» дерев – оснований столбиков аркатуры – бродят диковинные звери. И все
это служит обрамлением как бы парящих над некоей райской землей спокойных фигур
святых. Это собирательный образ святых, прославивших все страны света, все
концы Земли, и отсюда – прямое сходство аркатурного пояса храмовых стен с
аркатурой шеи церковного верха.
Есть
аркатурные пояса более строгие, как например, у Успенского собора Московского
Кремля и Успенской церкви в Угличе. Здесь нет изображений райских деревьев –
столбики арок строгие, лишь перехваченные дыньками. Только основания столбиков,
дыньки и капители остаются знаками деревьев: корней, плодов и крон. Святые
здесь изображены живописью. Есть древние аркатуры с живописными изображениями
святых, помещенных только под арочками с условными висящими капителями, но без
столбиков-стволов. Такая аркатура у церкви Бориса и Глеба в Кидекше 1152 г.,
но, к сожалению, живопись фигур святых почти утрачена. Интересно отметить
сходство аркатурного карниза колокольни Ивана Великого с аркатурой церкви
Бориса и Глеба. Подобны ему аркатурные карнизы церкви Петра Митрополита в
Высоко-Петровском монастыре, Спаса Преображения в селе Остров под Москвой и
другие. По-видимому, сходство этих архитектурных форм заставляет предполагать и
сходство их символического содержания.
В древней
аркатуре Успенского собора во Владимире между золоченых колонок обнаружены
остатки изображений пророков и голубых павлинов, ибо «павлин служил образом
бессмертия, так как по мнению древних, тело его не подвергалось разрушению», а
золото – символ божественного Света и голубой – символ неба духовного.
Следовательно, в этом случае мы также имеем символическое изображение
бессмертных святых душ в раю. Таким образом, именно это содержание несет в себе
аркатурный пояс храма в любом самом схематичном виде, даже без изображений.
Аркатурные
пояса в раннемосковском зодчестве применялись не часто, лишь в самых
значительных постройках. Однако, именно в Москве аркатуры иногда поднимаются на
верх стены под закомары. Таков собор 1501 – 1503 гг. Чуда Архистратига Михаила
в Хонех в Чудовом монастыре Кремля. Впоследствии собор Двенадцати апостолов при
патриаршем дворце в Кремле получает два аркатурных пояса: один на половине
высоты стен, на едином уровне всех аркатур храмов Соборной площади, а второй –
наверху прясел стен – на одном уровне с собором Чудова монастыря. Естественно,
что идейное содержание этих аркатурных поясов нужно считать единым с другими
подобными формами, имеющими изобразительный ряд.
У
раннемосковских храмов XIV–XV вв. вместо аркатурного пояса возникает пояс орнаментальный, состоящий из
двух-трех рядов растительных орнаментов с включением иногда изображений креста.
Примерами могут служить орнаментальные пояса церкви Ризо-положения в Московском
Кремле и Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. При сопоставлении их с
аркатурным поясом видно, что несмотря на изменение самой архитектурной детали,
ее символическая орнаментальная основа сохраняется – растительный орнамент,
обозначающий райское цветение. Таким образом, сохраняется и общий с аркатурным
поясом смысл ранне-московского орнаментального пояса – жизнь святых в раю, как
плод земного подвига исповедания веры и жизни в Законе Божием. Включение
крестов в один из рядов такого пояса, как это сделано в Троицком соборе
Троице-Сергиевой Лавры, полностью соответствует такой трактовке.
И наконец, в
некоторых раннемосковских храмах, как например в Свято-Духовском соборе
Троице-Сергиевой лавры, такой орнаментальный пояс поднят наверх прясел стен под
закомары, образуя уже настоящий карниз. Наличие в этом поясе керамических
балясин, напоминающих столбики аркатурных поясов, лишний раз подчеркивает
единство символики этой архитектурной формы с аркатурой. Не противоречит этому
и расположение пояса вверху стен, так как оно подобно расположению аркатуры
собора Чудова монастыря.
Дальнейшее
развитие храмового карниза приобрело достаточно богатые и разнообразные формы с
включением резного, расписного и изразцового декора, который есть ни что иное,
как рассказ о рае и святых в нем. Выразительными примерами могут служить
изразцовые карнизы многих ярославских церквей, а также церкви Григория
Неокесарийского в Москве.
Интересно
здесь отметить расположение карниза Архангельского собора Московского Кремля на
одном уровне с аркатурными поясами других соборов ансамбля. Зная смысл этих
форм, можно понять, насколько не случайным является название площади Соборной –
это изображение в символических архитектурных формах собора святых от четырех
концов света – молитвенников и предстателей за Русскую Землю, помещенное на
главной площади Московского Кремля. Таким образом, применяемый метод раскрытия
символического содержания отдельных архитектурных форм – от изображения на
архитектурной форме к ее смыслу – может способствовать и анализу содержания
крупных ансамблей.
Столпы,
поддерживающие своды внутри храма, и столпы, встроенные в стены и выступающие
из них в виде лопаток (или пилястр) – конструктивная основа вещественного
храма. Они же в духовном смысле – образ «столпов Церкви» – апостолов,
святителей, учителей Церкви. В древнерусском языке нет термина, равнозначного
термину «пилястра». В отношении к этой архитектурной форме чаще всего
применялось название «столп»-«столб», что по самой своей сути очень точно
выражает конструктивный смысл формы, полную ее общность с отдельно стоящим
столбом – опорой какой-либо конструкции перекрытия (балок или сводов).
И.И.
Срезневский подробно разбирает этот термин, приводя ряд интересных источников:
«Съставивше благо полоучати храмы златы стлъпы» (Григорий Назианзин, XI век); «Стоить же столпъ поприща от
город камень, а на немъ орелъ камень, изваянъ, высота же каме-ни десяти лакоть,
с головами же и подножьками 12 лакоть» (Ипат. лет. 6767 г.); «Ходихомъ верху
церкве святыа Софиа и видехъ 40 оконъ шипныхъ, и мерихъ окно съ столпомъ 2
сажени безъ дву пядей» (Хождение Игнатия Смольнянина). Первый отрывок из рукописи
Григория Назианзина перекликается с описанием золоченых столбов ветхозаветной
скинии (Исх. 37): «...четыри столпы негниющыя позлащены златомъ, и верхи ихъ
златы, и стояла ихъ сотвори сребряна...»– а также с золочеными медными
обкладками столбов Успенского и Дмитровского соборов во Владимире и других
храмов.
Второй пример
говорит о столпах как об отдельных сооружениях – памятниках или символах.
Третий отрывок указывает на то, что столпами назывались и простенки между окон
шеи главы. Имеются и значения слова «столп»-«столб» как «устои», «сваи»,
придорожные столбы с образом, «идол» и, наконец, «башня».
Все это
позволяет нам называть «пилястры» и «лопатки» древнерусским термином
«столпы-столбы» с пояснением: «стеновые столпы». В «Путешествии Игумена
Даниила» (XII век) применено для столпов отдельно стоящих, круглых, название «столпы
облые», а для столпов стеновых – «столпы зданые», то есть, встроенные.
Но символика
наружных и внутренних столпов имеет некоторые отличия. Уже говорилось,что в
символическом смысле «столпами Церкви» назывались святые, на которых основана
Церковь. Именно поэтому на внутренних столпах древнерусских храмов
располагаются изображения святителей, св. воинов, мучеников.
На стеновых
столпах, например, Ростовских храмов мы видим уже изображения небесных сил:
ангелов, а выше – серафимов и херувимов. Подобные изображения перекликаются с
описанием устройства ветхозаветной скинии, где на завесах, возложенных на
четыре столпа, были изображения херувимов, а также на дверях и на очистилище
кивота Завета (Исх. 37). Здесь же, в описании столпов скинии, упоминаются
«стояла» (базы столпов), «верха» столпов, которые венчаются «главицами». По
мнению И.И. Срезневского и составителей Словаря русского языка XI – XVII веков, «главицы» – это капители
колонн. Однако, если рассудить по параллели с церковным верхом, то «главицей»
может быть венчающая часть «верха» столпа, так как они упоминаются в ряде
случаев отдельно: «...и столпы их пять и крючки их и главицы их и верхи их
позлатиша златом, и стояла их пять медяна» (Исх. 37). По подобию с церковным
верхом можно предположить, что в некоторых случаях главицы верхов столпов могли
представлять собой небольшую пламенеподоб-ную маковицу с крестом. На столбах
стен древнерусских храмов подобные архитектурные формы известны как в
изображениях на миниатюрах и иконах, так и в ряде дошедших до нас памятников:
например, завершение угловых столпов четверика колокольни церкви Иоанна
Златоуста в Коровниках в виде небольших огневидных кокошников, или в ансамбле
ярославской церкви Рождества Христова на Волге (XVII век), где также угловые колонки
четверика надвратно-го храма Гурия, Самона и Авива увенчаны сложными фигурными
главицами.
Часто
содержание одной архитектурной формы сочетает в себе не один символ, а
несколько. Это относится и к храмовым стеновым столпам, на которых снаружи
вместо символов ангельских сил и святых часто помещается изображение
виноградной лозы, как знака Древа Жизни. Значение винограда в христианской
символике очень многогранно, но два из них – образ рая и причастия, которое
тоже «огнь» – совершенно органично сочетаются с образом сил небесных, ибо они
населяют рай и образуют небесный огонь.
Так в
символическом значении стен храма и столпов, держащих эти стены, соединились
три образа: преобразовательный – столпов скинии и рая, домостроительный –
«столпов Церкви» (ее святых) и богоохранительный – ангельских сил. Защитная
символика присутствовала и в архитектуре верха храма. В домонгольской Руси
часто поверх водосливов, опирающихся на стеновые столпы, располагались «звериные»
символы небесных сил: львы, грифоны, сфинксы и другие, встречающиеся в храмах
Чернигова, Киева, Владимира, Суздаля.
Окно – это
«око» храма, дающее ему солнечный свет. «Светильник для тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф. 6. 22).
Евангельское слово, обращенное к человеку как одушевленному храму, относится и
ко всей Церкви как Телу Христову. Поэтому в вещественном храме-символе Церкви
солнечный свет – символ света Божественного.
«Небеса
...светлостью солнца... поведают славу Его» (Ипатьевская летопись, 6708 г.).
Невещественный свет божественной благодати, по воззрению св. отцов Церкви, мы
получаем через посредство ангельских сил. Св. Дионисий Ареопагит, объясняя род
служения архангелов, как среднего чина в последней, ближней к людям иерархии
небесных сил, состоящей из св. Начал, архангелов и ангелов, пишет: «...святый
чин архангелов ...соединяет крайние чины своим обращением с ними. ...он
обращается чрез Начальства к премирному Началу, сообразуется с Ним, сколько
возможно, и хранит между ангелами единение сообразно своему стройному,
искусному, невидимому водительству. С последними же сообщается тем, что он, как
чин, определенный для научения, приемлет божественные озарения чрез первые силы
...и передает их с любовию по мере того, сколько кто способен к божественным
озарениям». «Ибо сей божественный лучь не иначе может нам возсиять, как под
многоразличными, священными и таинственными покровами, и притом, по Отеческому
промыслу, приспособительно к собственному нашему естеству».
Именно
поэтому окна храма, прежде всего, получили архитектурную и изобразительную
символику ангельских сил, сообщающих нам свет божественных озарений и
охраняющих храм от проникновения в него «духов тьмы» – падших ангелов. Внутри
храма на откосах окон сверху очень часто пишутся образы архангелов, ангелов или
херувимов, а по бокам – образы святых, так как понятия святости и света тесно
связаны между собой: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, да узрят дела
ваша добрая» (Мф. 5.16).
С внешней
стороны наличники окон несут тот же символический смысл. Поэтому они имеют
завершения, сходные по очертанию с кокошниками – треугольные, пламеневидные,
часто с символами или изображениями ангельских сил. При отсутствии наличников
ту же охранительную символику несут деревянные оконницы и металлические решетки
окон, традиционный рисунок которых включает формы креста, пламени, древа,
круга.
Не менее чем
символика окон, важно значение форм входного портала и крыльца, ведущего ко
входу. Здесь круг символов связан с тремя областями значений: с необходимостью
приходящим духовно уготовить себя ко входу в дом Божий; с тем благословением
Божиим, которое получает входящий; и наконец, с теми обетованиями духовных
даров, которые приносит участие в богослужении.
В большинстве
древних храмов, стоявших на высоких подклетах, ко входу ведет крыльцо –
«всход», имеющий сень на столбах. Само название «крыльцо» происходит от слова
«крыло» – это и символ восхождения духовного ко храму и знамение покрывающего,
осеняющего благословения Божия. Поддерживающие сень крыльца столпы – первый
архитектурный знак, встречающий входящего. Их массивные, обычно квадратные в
плане основания – символ твердости веры, разнообразные фигурные «дыньки»
(«плоды добрые») и квадратные ширинки («обители») – как бы говорят о том, каков
должен быть человек, входящий в храм, чтобы получить благословение Божие.
Формы
покрытия сени крыльца – чаще всего шатровые или бочечные – знамение того, чем
духовно осеняется (благословляется) вступающий под сень: четырехскатный шатер
образует в плане квадрат – символ твердости веры и небесного града;
шестигранный с венчающим его крестом или главой – символ «семи даров Св. Духа»
и семи церковных таинств; восьмигранный – Покрова Богородицы; килевидная бочка
– знамение молитвенного горения к Богу. Свешивающаяся между столпов «гирька» –
тоже знак благословения и обетования духовных плодов, получаемых в доме Божием.
Икона над входом говорит о начале предстояния входящего перед Богом и о Его
незримом присутствии.
Входной перспективный
портал, широко раскрытый навстречу идущим в храм и призывающий всех войти,
резко сужается к двери, как бы напоминая своим устройством евангельские слова
Господа: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7. 13–14). Уступы сужающегося
портала – знак тех ступеней очищения и уготовления души, которые проходит
каждый человек, приходящий к вере и Церкви. Это часть домостроительной
символики храма – домостроительство «одушевленного храма» в лице каждого
христианина.
Полукруглое
или килевидное завершение портала сходно по своей символике с формами
наличников окон и закомар. Видимо, если подробно анализировать разнообразные
резные и живописные орнаменты и знаки, помещаемые на перспективных профилях
портала, можно раскрыть очень сложное и тонкое богословское осмысление пути
человеческой души к храму, выраженное в символике архитектурных форм.
И, наконец,
хотелось бы коснуться символического значения небольшой и, казалось бы,
малозначащей, но очень распространенной архитектурной детали – валика. Пожалуй,
трудно найти архитектурные формы древнерусского храма (закомары, кокошники,
наличники, порталы, карнизы, цоколи и пр.), в профилях которых не присутствовал
бы валик. Наиболее частым изображением на валиках бывает косая разноцветная
покраска: белый, красный, зеленый и синий – имитирующая плетеную веревку.
Обычно валики в нескольких местах перехватывают храм целиком: цоколи и карнизы,
столбы и комары, шеи верхов и т.д. В древнерусской архитектуре также часто
встречаются валики разные, в виде заплетенной веревки, или изразцовые того же
вида. Прямой аналог этой формы – «верви», скреплявшие конструкцию скинии, где
они встречаются и четырехцветными и позолоченными в разных случаях. Являясь
знаком соединения столпов, стен, комар, верхов храма, валики-«верви» несут в
себе образ единства всей конструкции храма, то есть в символическом смысле –
знамение единства, соборности земной и небесной Церкви, все иерархические
ступени которой обозначены архитектурными формами русского православного храма.
Таким
образом, рассмотрение во временном развитии архитектурных форм с применением
метода – от изображения и символа на архитектурной форме к ее смыслу – дает
возможность представить систему символического построения православного храма в
его идее. Опираясь же на устойчивую каноничность древнерусской церковной
архитектуры, как и других видов религиозного искусства, можно проследить устойчивость
содержания отдельных форм и считать, что изменения во времени суть
свидетельства изменения оттенков содержания, но не его основной сути.
3.1.2.9.
Кудрявцев М.П., Кудрявцева Т.Н.
О проблеме
современного храмового строительства
(Рукопись)
Сегодня Православной
Церкви возвращаются сотни храмов, возобновляют свою жизнь некоторые древние
монастыри. И кажется, что нет причин для нового храмового строительства, когда
остаются еще тысячи заброшенных и полуразрушенных церквей, на которые ни у
государства, ни у общин верующих не хватает сил для восстановления. Но это не
так.
Живое Древо
нашей Церкви не может зеленеть только старыми ветвями, как бы они ни были
прекрасны. Основной признак неувядающей жизни – рождение нового. И в жизни
Православия сегодня рождается новое – новые российские святые, новые торжества
и события духовной жизни народа, которые издревле запечатлевались в памяти
Отечества строительством новых храмов.
Какими же
должны быть новые храмы? Недостаток средств и материалов испытывали русские
зодчие не раз, что сказывалось на размерах, богатстве декора храмов, но никогда
не умаляло духовного и художественного качества архитектуры. Причины этого – в
непрерывности развития традиций русского православного храмоздательства от
времен равноапостольной княгини Ольги до конца XVII в. (а на Севере России и до конца XVIII века), а также в основном отличии
вообще церковного искусства от светского – в его богооткровеннос-ти и
каноничности. Каноны христианского искусства основаны на Священном Писании,
церковном Предании, богословии святых отцов Церкви и священных образцах,
которые соборное сознание Церкви признало воплощающими в себе истинность и
красоту Богооткровения. Соблюдение канона помогает церковному искусству
сохранять высокий уровень духовности, несмотря на различия в степени духовности
и подвига христианской жизни каждого отдельного мастера. Развитие канонов
церковного искусства, появление новых священных образцов возможно только путем
новых Богооткровений, только как результат молитвенного подвига. Не случайно
многие зодчие и большинство иконописцев Древней Руси были монахами. Их
творчество проходило в посте и молитве, а результатом было воцерковление
материи – сотворчество Богу.
Какими же
путями можно сейчас восстановить прерванные традиции храмоздательства? Видимо,
полезно осмыслить уже имеющийся опыт возвращения к древнерусским традициям и
канонам церковного искусства, начавшегося в середине XIX в. и прервавшегося в 1917 г. В этом
периоде были свои неизбежные слабости и ошибки, свои достижения. Многие творцы
церковного искусства в допетровской Руси не оставляли на произведениях своих
имен в глубоком убеждении, что творец всему - Бог, лишь открывающий человеку в
молитве красоту небесных первообразов. Возвращение к каноничности и
богооткровенности храмового строительства требовало от зодчих XIX – нач. XX в. отказа от поисков земной славы, от
стремления к индивидуальному творчеству и обращения к древним образцам. Хотя
сам выбор таких образцов делался на основе вкуса и индивидуальных склонностей
автора. Так, архитектор К. Тон, автор храма Христа Спасителя, способствовал
распространению построек в «византийском стиле», а А. Щусев вдохновлялся
образцами псковского зодчества XIV–XVI вв. Архитекторы Н.Суслов и Б. Покровский брали за
основу московское зодчество XIV–XVI вв. и владимиро-суздальское. На примере их
творчества хорошо видно, насколько важен точный выбор образца. Огромные соборы
К. Тона в Москве, Угличе, Твери несомненно помогли повернуть общественное
сознание к возрождению традиций древнего православного храмоздательства, но они
совершенно лишены того тонкого и гармоничного слияния с окружающей городской
средой, которая была всегда присуща древнерусскому зодчеству. Видимо, и
обращение к характерным чертам зодчества отдельных русских земель – Псковской,
Новгородской, Московской и других – правомерно, прежде всего, при строительстве
в местах, где была исторически распространена именно эта своеобразная культура.
Начавшееся
возрождение древнерусских традиций прервалось в самом начале обретения нового
качества – органичного усвоения традиций и первых попыток их творческого
развития, о чем свидетельствуют прекрасные проекты В. Суслова и Б. Покровского,
построенный в Лейпциге по проекту В.А. Покровского торжественный храм-памятник
русским воинам, погибшим в войне 1812 г.
Современные
зодчие сравнительно с зодчими XIX в. находятся одновременно и в гораздо худшем, и в
лучшем положении. В худшем потому, что прерваны не только творческие, но и
строительные традиции и приемы, утрачено опытное знание всех тонкостей технического
выполнения традиционных конструкций и их расчетов, нет и многочисленных кадров
мастеров всех строительных профессий. В лучшем – потому, что зодчие XIX в. еще не имели представления о
древнем облике многих храмов, перестроенных в эпоху развития стилевой
архитектуры и отреставрированных лишь в XX в. Но здесь возникают новые проблемы.
Кажется, что сегодня для возрождения канонов церковного зодчества есть
достаточное количество высокохудожественных и высокодуховных образцов
отреставрированных храмов XI–XVII вв. Однако возникает вопрос о достоверности реставрации древних форм,
декора, цвета, символики – то есть всего образно-символического строя каждого
храма. Ведь одно дело, когда искажения облика памятника при реставрации ведут к
созданию ошибочных искусствоведческих теорий, а другое, когда они ложатся в
основу живого творчества современной Церкви. Духовная ответственность и
реальные последствия разные.
Не менее
важен вопрос – кто, какие зодчие станут строителями православных храмов конца XX в. Открытый конкурс на храм-памятник
1000-летию Крещения Руси в этом отношении совершенно безадресен. Так ли это
хорошо? Ведь этим как бы утверждается мнение и самой Церкви, что для создания
православного храма необходимы лишь профессиональное мастерство зодчего, его эрудиция,
рациональное знание истории русской архитектуры, а не вера и духовность. Этим
из условий конкурса сразу исключаются вопросы каноничности и богооткровенности
храмового строительства. В программе первого тура конкурса собственно
архитектуре храма, его образу были посвящены два маленьких абзаца, да
полстраницы с перечнем основных помещений храма, их назначения. Вся остальная
часть программы посвящена тому, что вне храма – под ним, вокруг него:
конференц-зал, фойе, подсобные помещения, буфеты, сувенирный магазин,
мастерские, огромное инженерное оборудование (лифты, телевизоры, телефоны и
т.д.). От всего этого веет суетой и многопопечительством о разных современных
удобствах. Необходимы они для обслуживания многолюдных торжеств и крупных
церковных конференций, не так уж часто происходящих. И эта внешняя, хотя и
важная сторона жизни Церкви не должна так подавлять и заслонять собой то, ради
чего существует Церковь - ее внутреннюю жизнь – богослужение.
Русские
православные храмы сохранили традицию размещения в подклетах усыпальниц,
помещения гробниц ктиторов, святителей, монастырской братии под полом храма,
снаружи у его стен и алтарей. Не правильнее ли было бы, чтобы храм-памятник
всему нашему тысячелетнему пути во Христе покоился просто на московской земле,
освященной останками неизвестных праведников, мучеников, святых воинов.
Другой очень
важный вопрос – материалы и конструкции, применяемые при строительстве храма. В
программе конкурса заложено ошибочное положение, могущее иметь серьезные
последствия: «Конструкцию храма-памятника предусмотреть из современных
строительных материалов и конструкций с кирпичной облицовкой». Поскольку кирпич
упомянут как облицовочный материал, ясно, что под современными материалами и
конструкциями может подразумеваться металлический каркас, монолитный бетон,
стекло. В принципе понятно, что утрата строительных традиций прошлого и
квалифицированных мастеров делает сооружение такого огромного храма в «лучших
традициях русской церковной архитектуры» очень сложной проблемой. Современные
материалы и конструкции значительно облегчают и инженерный расчет и монтаж
любых форм.
Однако, так
ли малы потери, чтобы в угоду сегодняшним слабостям воздвигать храм в
традиционных формах из нетрадиционных материалов и конструкций? В древнерусской
архитектуре тоже есть немало примеров, когда в камне и кирпиче изображались
деревянные конструкции, но именно они помогают понять принципиальную разницу.
Древнерусские постройки из кирпича и природного камня не просто имитировали
конструкции деревянных сооружений, но оставались «деревянными» по существу
своего взаимодействия с землей, окружающей средой и человеком. Работа кирпичных
и каменных конструкций, особенно древнерусских храмов и колоколен, была подобна
растущему живому древу, имеющему корни, ствол и крону. Основания зданий из
дубовых свай не препятствуют, как и корни дерева, движению вверх, в стены,
земной влаги с растворенными в ней минеральными солями, которая проникает в
кладку по растительным волокнам пеньки, добавлявшейся в известковый раствор.
Достигнув верха здания, влага активно испарялась, чему помогало увеличение
подобного листве кроны разнообразного декора, сложность и дробность форм верхов
храмов. С течением времени все сооружение, цементируемое «соком земли»,
увеличивало прочность, срастаясь с землей и окружающим ландшафтом. Известь и
природный камень (в отличие от цемента и бетона) не препятствовали влаго- и
воздухообмену внутри здания, обеспечивая микроклимат, благоприятный для людей,
икон, фресковых росписей.
Древнерусские
храмы, подобно деревьям, спокойно стоят на бровках холмов, укрепляя оползневые
склоны. Это физическое подобие древу имеет и еще более важную духовную основу –
воплощение идеи христианского храма, преобразованной двумя главными святынями
христианства – Животворящим Древом Креста Господня и высеченной в камне пещерой
Гроба Господня. К этому можно добавить, что кирпич, основу которого составляет
глина – «зод», не только родоначальник самого понятия «зодчество», но и символ
той «персти земной», из которой создан человек. Не случайно, видимо, и святой
епископ Спиридон Тримифунтский на Вселенском Соборе избрал кирпич-плинфу для
утверждения догмата о Святой Троице через показ его трехсоставности: глина,
вода и огонь. Именно поэтому естественный камень, кирпич и дерево на протяжении
всего тысячелетия оставались единственными строительными материалами в русском
храмоздательстве. Храм из бетона и металла, даже в традиционных формах, это не
живое Древо, а скульптура Древа. Она действительно, как предложено было в
программе конкурса, может стоять не на земле, а на пьедестале. Но храмовое
зодчество должно быть истинно во всем. Еще более сложная проблема – создание
архитектурного образа храма, подобного которому еще не строилось на Руси. При
той отчужденности от проблем храмового строительства, которая возникла в нашей
архитектурной практике, казалось бы, что главную часть программы конкурса
должна составлять богословская концепция нового храма, способная дать прочную
духовную основу для творчества. Ведь храм – это, прежде всего, дом Божий, образ
всего Божьего мироздания, место живого единения Церкви земной и небесной, а уже
затем – сооружение, имеющее определенный объем и набор помещений.
Храм в память
1000-летия Крещения Руси должен стать образом того духовного состояния, с
которым наша Православная Церковь пришла к концу этого тысячелетия. И конечно
не зодчие, а только сама Церковь в лице православных богословов и святителей
способна осмыслить и изложить суть духовного плода своей жизни во Христе,
которая должна быть выражена языком архитектуры. Ведь для храма Всех святых в
земле Российской просиявших, который мыслится как придел, вообще нет
архитектурного аналога. А общее посвящение Живоначальной Троице и придел
Покрова Богородицы обращают мысль к главному для всей древней Москвы Троицкому собору
на Красной площади, именуемому Покровским по центральному приделу. В этом
уникальном для русского зодчества соборе воплощена идея небесного Иерусалима, в
котором Пресвятая Богородица (шатровый Покровский придел) и сонм праведников
(олицетворяемый другими приделами) предстоят престолу Святой Троицы (восточный
Троицкий храм). Новый храм безусловно должен быть иным, но столь же уникальным
и по богословской концепции, и по архитектурному образу.
Здесь-то во
всей полноте встает еще одна проблема – полной неразработанности теории
христианской символики, особенно архитектурной. Многие историки Церкви
признают, что Русская Православная Церковь, помимо богословия слова, как важную
часть своей духовной культуры развивала богословие иконописи, зодчества,
церковного пения. Изученное больше всего в отношении иконописи, оно во многом
еще ждет своего прочтения. Хотелось бы обратить внимание на те важнейшие
качества древнерусского храмового зодчества, которые, видимо, должны стать в
современном строительстве основой дальнейшего творческого развития
архитектурных форм:
1. Мощное
развитие форм верха храма – ярусность, многоглавие, сочетание разнообразных
видов закомар и кокошников, пламеневидных символов, завершающих кровли, – как
образ соединения Церкви небесной в живом общении с Церковью земной, получивший
закономерное развитие во времени, отразив реальное умножение Церкви небесной
сонмом святых, завершивших свой земной путь.
2. Применение
древнерусской системы мер, которая, как и древние системы других народов, гео-
и антропоморфна и обеспечивает гармоничное соотношение всех частей храма,
создание соразмерного человеку внутреннего и внешнего пространства, наилучшей
для голоса акустики. Она же позволяет включить в объемное построение храма
христианскую числовую символику.
3.
Архитектурный декор, растительные, зооморфные и геометрические орнаменты –
часть символического языка богословия храмоздательства, одно из важных
назначений которого, совершенно исчезнувшее из современной архитектуры, –
охранительное. Наличники окон и рисунок оконных рам, порталы входов, роспись
стен – делает их «невходными» для черных сил, охраняя духовную чистоту
пространства храма.
4. Развитие
формы церковных глав, закомар, кокошников, обрамлений окон и порталов в сторону
усиления «пламеневидности» – символ, соединивший два образа огня – земного
горения души к Богу и ниспосылаемого в ответ огня небесного – благодати Святаго
Духа.
5. Цветовой
строй древнерусских храмов тоже служил символическому раскрытию значения
посвящения храмов, значения отдельных его частей и архитектурных деталей,
помогая наилучшему восприятию всего художественного строя на различном
расстоянии, при любой погоде и условиях освещенности.
Возрождение
во всей полноте символического языка всех видов церковного искусства может
помочь и возрождению полноты духовной жизни нашего народа. Но для такого
возрождения уже нет впереди медленнотекущих веков – оно нужно сегодня.
Восстанавливая утраченные знания по символике архитектурных форм, орнаментов,
системы мер, то есть, всей палитры языка храмоздательства, важно осмыслить
содержание самого пути развития этих символов, найти духовный итог прошлого,
который может стать точкой опоры и началом пути в будущее.
3.1.2.10.
Лепахин В. Литургийность иконообраза
(Икона и иконичность. С.-Пб., 2002, с. 80-89; 102-109.)
Валерий Лепахин
(род. в 1947г.) - современный исследователь древнерусской культуры, живущий в
Венгрии, автор множества работ, опубликованных в разных странах.
Ветхий Завет содержит множество символических прообразов
(пятый род образа согласно толкованию преп. Иоанна Дамаскина). Пришествие и
Боговоплощение Спасителя раскрывают их сокровенное значение, подобно тому как
явление в образе Первообраза делает возможным сам иконообраз. Иконообраз
рождается в Новозаветной Церкви, в храме, в богослужении, и только в литургии
он получает всю присущую ему духовную глубину и вселенскую полноту, только в
ней иконообраз живет живой и двуединой небесно-земной жизнью, только в литургии
он исполняет свое предназначение и свышнее призвание, и только в ней он обретает
соборное единство с другими церковными иконообразами и небесными первообразами.
Совокупность церковных иконообразов, храмовое искусство не есть некая внешняя
вспомогательная принадлежность богослужения или украшение, художественное
обрамление литургии. Иконообраз – часть Откровения, один из способов
Боговедения, способный вводить человека в живое общение с Богом; иконообраз
есть свидетельство истины и исповедание веры в воплотившийся Первообраз и
Слово. Иконообраз относится к самой сущности богослужебного действия, без
иконообразов литургия не просто беднеет, – она становится невозможной. В
литургии все иконично, за исключением Евхаристии. Совокупное соборное единство
церковных образов подготавливает человека к тому, что не является образом, – к
таинству преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христову и к принятию Святых
Даров верующими. Рассмотрим подробнее иконичное устроение Церкви, храма,
богослужения.
Церковь как иконообраз
Церковь,
согласно апостолу Павлу, – это Тело Христово (Еф. 1.23), и Христос – глава тела
Церкви (Кол. 1.18). Уже у апостола, следовательно, мы находим основание для
иконичного понимания Церкви, хотя иконичность ее как собрания, или лучше как
собора всех верующих во Христа и исповедующих Его, предопределяется уже
иконичностью каждого отдельного ее члена. Преп. Максим Исповедник в своем
«Тайноводстве» – истолковании Божественной литургии – следующим образом
объясняет иконичность Церкви: «Святая Церковь... есть образ и изображение
Божие. Ибо как Бог, по Своей беспредельной благости, силе и мудрости,
осуществляет неслиянное единение различных сущностей сущего и, будучи Творцом,
связывает их с Собой теснейшими узами, так и Церковь, по единой благодати и
призванию веры, единообразно сочетает верующих друг с другом...». Там же преп.
Максим называет Церковь «образом Первообраза». Согласно святописателю
«Мистагогии», Церковь является иконой и в том смысле, что она онтологически и
антиномично связана с Первообразом – Христом, Который ее основал и остается ее
главой, и в том смысле, что Церковь соединяет всех во Христе, т.е. пребывает в
мире сем как реальная богочеловеческая соборная икона Тела Христова.
Наиболее
емкое православное определение Церкви, храма и Божественной литургии в их
единстве следующее – «земное небо» или «небо на земле». В самой знаменитой
своей книге св. прав. Иоанн Кронштадтский пишет: «В церкви я поистине как на
земном небе... Я чувствую себя в явном присутствии Божием, Его Матери, небесных
сил и всех святых. Это истинное небо земное: тут сознаешь и чувствуешь себя
действительным членом Тела Христова и Церкви Его, особенно во время пренебесной
литургии и причащения Святых Тайн Тела и Крови Христовой».
Иконотопос алтаря и храма
Иконично
понимается в православном богословии и храм. Это не просто отличающееся от
гражданской архитектуры своими конструктивными особенностями строение,
предназначенное для совершения в нем богослужений. Н. И. Троицкий в начале
нашего века писал: «...Архитектура храма, в его лучшем, вполне развитом типе
как совершеннейшем произведении искусства, должна отвечать его идее – Церкви
Вселенской, даже представлять именно образ мира. Само здание храма-церкви
является образом вселенной».
В одной из
статей мы предложили термин «иконотопос». Иконотопос – это святое, избранное Богом
или человеком по воле Божией место, которое осознает себя избранным, имеет
небесный Первообраз в Священном Писании или в церковной литературе, которому,
как правило, соответствует земной прототип (Иерусалим, Константинополь, Рим и
др.), стремится к самосохранению и организации пространства вокруг себя по
принципу священной топографической иконичности, как образ небесного Первообраза
и земного прототипа.
Особенно
сильно и наглядно иконотопос проявился в православном храме и его алтаре.
Традиционный древнерусский храм, унаследованный от Византии, называется по
своим зодческим принципам крестово-купольным: план его сознательно устроен с
соблюдением двух символических фигур – круга (символа Божией вечности) и креста
(главного символа христианства). Но также крес-тово-круговую форму имеет и
алтарь. Крест в алтаре образуется линией, идущей от апсиды к солее, и
поперечной линией, идущей от жертвенника через престол к диаконнику. Круг же
ясно просматривается при мысленном соединении полукружия алтарной апсиды и
полукружия амвона. В точке пересечения линий креста в алтаре стоит святой
престол, на котором совершается великое таинство преложения хлеба и вина в Тело
и Кровь Христову. Сам Господь Иисус Христос невидимо восседает на престоле во
время совершения литургии. В этом смысле алтарь является иконообразом Царства
небесного, иконой горнего Иерусалима. Небесный Иерусалим иконично «начинается»
на земле в алтаре каждого храма.
Реальный
богочеловеческий символизм храма и главных его частей подчеркнут подробной и
своеобразной топографической иконичностью: святой престол «прообразует Самого
Бога», конха «являет» собой Вифлеемскую пещеру, жертвенник – ясли Христа, свод
алтаря – небо, амвон же «знаменует камень, отваленный от Гроба Христова, с
которого священники и диаконы, по образу ангела, благовестившего воскресение
Спасителя, проповедуют Божественное Евангелие». Причем эта топографическая
иконичность подвижна, она не однозначна, она не закрепляется раз и навсегда за
той или иной частью храма, а меняется в зависимости от смысла тех богослужебных
действий, которые в данный момент совершаются в храме. Это относится, например,
к жертвеннику: «В древности над ним (жертвенником) всегда помещали икону
Рождества Христова, но на самом жертвеннике ставили и крест с Распятием...
Жертвенник как образ яслей родившегося Христа по своему устройству и одеждам во
всем подобен престолу как образу Гроба Господня». Алтарь является одновременно
иконообразом и Вифлеема, и Елеона, и Голгофы, и Сиона, и Иерусалима в целом, но
в зависимости от совершающейся в данный момент части богослужения он становится
иконотопосом того или иного святого места, и потому алтарь – наиболее чистый и
наиболее сильный в священном смысле иконотопос, истинный центр, который
«держит», организует и освящает вокруг себя все пространство, не только храма,
но и монастыря и далее – детинца-кремля и всего города.
Храм – это
иконообраз, иконотопос, допускающий несколько взаимосвязанных и
взаимодополняющих толкований. Св. Симеон Со-лунский выделяет следующие.
Во-первых,
храм понимается в Православии как икона двуединого мира, и тогда алтарь – это
небо (мир невидимый, Царство небесное), остальная часть – земля (мир видимый).
Храм понимается, конечно, как икона будущего преображенного космоса. Храм-икона
– это антиномичное и онтологическое единство символической архитектуры как
иконы космоса и живого целого, собора всей твари, как иконы будущего
преображенного человечества. Вот как описывает это храмовое единство кн.
Евгений Трубецкой: «...Во храме объединяют не стены и не архитектурные линии:
храм не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино
Духом Любви... Тварь становится здесь сама храмом Божиим, потому что она
собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Св. Духа.
Образ Христа и есть то самое, что сообщает всей этой живописи и архитектуре ее
жизненный смысл, потому что собор всей твари собирается во имя Христа и
представляет собою именно внутренне объединенное Царство Христово в
противоположность разделившемуся и распавшемуся изнутри царству "царя
космоса"». Только при таком иконичном понимании храма выявляется истинная
и глубоко оправданная роль иконостаса: он не преграда, а напротив – связь между
двумя мирами, антиномично и онтологически осуществляемая иконами Христа,
Богородицы, ангелов и святых, вослед за Спасителем «примиривших» собой два
мира. Св. Симеон Солунский замечает, что иконостасом также «означается различие
между чувственными и духовными предметами».
Во-вторых,
храм – это икона Христа Богочеловека, и тогда алтарь – иконичный символ Его
Божественного естества, а остальная часть – Его человеческой природы. Иконостас
же в этом случае свидетельствует (как вообще всякая икона Спасителя) о
нераздельности и неслиянности двух естеств во Христе.
В-третьих,
храм – это иконообраз человека, алтарь в нем – душа человека, а остальная часть
– тело. Иконостас и при таком истолковании играет важнейшую роль как
свидетельство возможной духовно-телесной гармонии в человеке: не
возрожденческого равноправия плоти и духа, а иерархического двуединства, при
котором тело является храмом живущего в нем Духа.
В-четвертых,
храм – это икона только видимого мира. В этом храме-иконе «алтарь есть образ
неба; храм же – божественный символ земли».
Все сказанное
справедливо при двухчастном делении внутреннего пространства храма, но в Православии
не реже встречается и трехчастное (алтарь, средняя часть и притвор), и тогда,
естественно, меняется духовное, иконичное значение его частей. Трехчастное
деление храма соответствует: «1) трехчастному делению всего сущего (область
бытия Триединого Бога, Царство небесное, земная область бытия); 2) Божественной
природе Христа Спасителя (алтарь) и Его человеческой природе, как состоящей из
души и тела (средняя часть храма и притвор); 3) человеческой природе в более
полном ее понимании, как состоящей из духа, души и тела; 4) трехчинному делению
ангельской иерархии; 5) трехстепенному составу земной Церкви Христовой; 6)
трехстепенному духовному состоянию верующих людей: началу духовной жизни во
Христе, шествию по пути спасения в земной жизни и пребыванию в Царстве небесном
в состоянии совершенной чистоты и обоженности». Но и при таком делении
сохраняется главное: иконичность, верность догматическому учению Православной
Церкви. Существуют и другие (не взаимоисключающие, а восполняющие один другой)
варианты символического истолкования иконотопоса храма.
Храм в
Православии – как в целом, так и во всех своих деталях – исключает случайные
элементы, ибо он насквозь иконичен, он есть иконотопос. «Столь всесторонняя и
органическая связь символики храма с глубиной догматического вероучения
Православной Церкви, – говорится в «Настольной книге священнослужителя», –
свидетельствует, что не только человеческое мышление принимало участие в
создании и устройстве православных храмов, и не богословы придумывали
символические значения для храмовой архитектуры, как это иногда представляется
поверхностному сознанию. Премудрость церковного устройства есть свидетельство
того, что это – богочеловеческое творчество, как и все духовное творчество в
Церкви».
Иконичность иконостаса
Такой
подзаголовок звучит тавтологически, но алтарную преграду, как ее часто
называют, можно и нужно рассматривать именно в этом плане. Прежде всего
повторим, что иконостас – не преграда, а снятие преграды, как это убедительно
показал о. Павел Флоренский, и потому он открывает и раскрывает, а не
закрывает, он нераздельно и неслиянно соединяет, а не разъединяет. Флоренский
пишет: «Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым, и
осуществляется эта алтарная преграда, делается доступной сознанию сплотившимся
рядом святых, облаком свидетелей, обступивших престол Божий, сферу небесной
славы, и возвещающих тайну. Иконостас есть видение. Иконостас есть явление
святых и ангелов – ангелофания, явление небесных свидетелей, и прежде всего
Богоматери и Самого Христа во плоти, – свидетелей, возвещающих о том, чту по ту
сторону плоти.

СХЕМА
ВЫСОКОГО ИКОНОСТАСА
I –
праотеческий ряд; II – пророческий ряд; III – праздничный ряд; IV –
деисусный ряд; V – местный ряд
1 – царские врата (а
– «Благовещение»; б, в, г, д – иконы евангелистов); 2 – «Тайная вечеря»; 3 –
икона Спасителя; 4 – икона Божией Матери; 5 – северные врата; 6 – южные врата;
7 – икона местного ряда; 8 – храмовая икона
Иконостас есть сами святые... Вещественный иконостас не
заменяет собой иконостаса живых свидетелей и ставится не вместо них, а лишь как
указание на них, чтобы сосредоточить молящихся вниманием на них. Направленность
же внимания есть необходимое условие для развития духовного зрения. Образно
говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной;
иконостас же пробивает в ней окна, и тогда через их стекла мы видим, по крайней
мере можем видеть, происходящее за ними – живых свидетелей Божиих. Уничтожить
иконы – это значит замуровать окна...».
Помимо этого
иконостас являет. Л. А. Успенский так описывает иконостас: «Непосредственно
перед взором верующего, на одной плоскости, легко обозреваемой с любого
расстояния, иконостас показывает пути домостроительства Божия: историю
человека, созданного по образу Триединого Бога, и пути Бога в истории. Сверху
вниз идут пути Божественного Откровения и осуществления спасения. Начиная с
образа Святой Троицы, Предвечного Совета и Источника бытия мира и промышления о
нем, идут ряды предуготовлений Ветхого Завета и пророческих предвозвещании к ряду
праздников – исполнению предуготованного, и к грядущему завершению
домостроительства Божия, деисусному чину. Все это как бы стягивается к Личности
Иисуса Христа. Этот центральный образ Господа – ключ ко всему иконостасу... Вся
жизнь Церкви здесь как бы резюмируется в ее высшем и постоянном назначении –
предстательстве святых и ангелов за мир». Далее отметим, что иконостас имеет не
только литургийное значение. Икона (иконообраз) в алтарной преграде наиболее
тесно связана с тем, что не является в храме и в Церкви иконообразом, – с
Евхаристией. Л.А. Успенский пишет: «Все изображенные (на иконостасе) объединены
в единое тело. Это сочетание Христа с Его Церковью, сочетание, осуществляемое и
созидаемое таинством Евхаристии... Если литургия осуществляет и созидает Тело
Христово, то иконостас его показывает, ставя перед глазами верующих образное
выражение того, во что они входят как члены, показывая Тело Церкви, созидаемое
по образу Святой Троицы, помещаемому вверху иконостаса: это многоединство лиц
по образу Божественного Триединства... Здесь – онтологическая связь между
таинством и образом, показание того же прославленного Тела Христова, реального
в Евхаристии и изображаемого в иконе».
Иконостас,
несмотря на свое внешнее многообразие и красочное, цветовое богатство,
представляет собой единую гармоничную совокупную икону, вертикальный,
устремленный в Царство небесное иконотопос. Он наиболее чисто воплощает в себе
все признаки, все характеристики истинной иконы: двуединство, нераздельность и
неслиянность, литургийность, соборность, синергийность, символизм и
каноничность.
Иконичность света и цвета
Важное место
в православной богословской мысли занимает понятие Божественного нетвар-ного
света: «Бог есть свет неприступный, – писал св. Григорий Богослов. – Он
непрерывен, не начинался, не прекратится; Он неизменяем, вечносияющ и
трисиятелен». Принципиальность верного понимания природы божественного света, в
частности, света Преображенского, Фаворского, особенно ярко проявилась в эпоху
исихазма. Нельзя не обратить внимания на то, что св. Григорий Палама трактует
Фаворский свет онтологично, бытий-но: это свет «сверхприродный и
сверхсущностный и отличается от всего сущего в мире, – просто бытие в
собственном смысле, таинственно вобравшее в себя всякое бытие». Если мир видимый
– иконообраз невидимого мира, то видимый физический свет может и должен
рассматриваться лишь как икона света божественного. Объясняемый
натуралистически и материалистически, свет остается на феноменологическом
уровне, но понимаемый иконично, природный свет становится лишь слабым подобием,
иконообразом нетварного и творческого божественного света.
Христос, Сын
Божий и Бог – Свет. Как Богочеловек Он носит в Себе этот свет скрытым.
Фаворское Преображение – это подтверждение и того, что «Бог свет есть» (1 Ин.
1.5), и того, что свет этот, будучи «неприступным по сущности» как энергия
Божия снисходит в греховный человеческий мир, и того, что человек в
определенном состоянии (как это было с тремя избранными апостолами) способен
созерцать этот нетварный свет и даже принимать его в себя. «Душа, которую Дух,
уготовавший ее в седалище и обитель Себе, сподобил приобщиться света Его и
осиял красотою неизреченной славы Своей, делается вся светом... Сам Христос и
носим бывает душою, и водит ее», – почти за тысячу лет до св. Григория Паламы
писал преп. Макарий Великий. «Души праведных, – учил он же – соделываются
светом небесным». Видение Божественного света в X веке описывал преп. Симеон Новый
Богослов. Он, говорит о себе в третьем лице преп. Симеон, «был весь срастворен
с невещественным оным светом, и ему казалось, что он сам стал светом... и
сподобился увидеть сладчайший оный свет мысленного Солнца правды, Господа
нашего Иисуса Христа, каковый свет удостоверил его, что он имел восприять и
будущий свет». Слово «святой» в русском языке происходит от слова «свет».
Святой – это человек, просвещенный божественным светом1, человек,
исполненный света, человек, способный излучать этот нетварный свет, как это
описано, например, в житии преп. Серафима Саровского. В писаниях св. отцов
приобщение к свету совпадает с Боговедением: лишь став онтологически причастным
нетварному свету, человек может познать Бога и «просветиться» в Истине.
Православное
понимание света имеет принципиальное значение для иконы и ико-нописания.
Поскольку свет есть божественная причина существующего, то «иконопись
изображает вещи, как производимые светом, а не освещенные источником света».
Живописи необходим источник света, ибо она стремится передать как раз игру
светотени. На иконе же, как отмечено многими искусствоведами, свет идет
изнутри: не свет падает на предмет от какого-либо внешнего источника, а сам
предмет, прежде всего лик, излучает свет из себя, и, как следствие этого, на
иконе отсутствуют тени. Причем свет «не иссякавает на вещи», а проявляет себя через
нее и «выходит» к зрителю (здесь реализуется синергия иконы). Отметим, что в
язык иконописцев до XVII в. не существовало слова «фон». Прежде чем писать красками, на иконную
доску накладывали «свет», т.е. золото, икону писали не на «фоне», а на «свету».
Ведь все изображаемое на иконе – Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица,
святые, господские или богородичные праздники – есть явление вечности,
иконичное пришествие Царствия небесного, а оно есть Царство света. Золотое
сияние иконы как раз и является этим онтологичным символом божественного света,
наполняющего собой Царство небесное и в виде божественной энергии нисходящего в
мир, в том числе и через икону. Также и венчик или нимб вокруг головы святого
говорит о том, что свет идет из души святого. От его просветленного лика
исходит ровное сияние божественного света, поэтому нимб не есть условный знак
или аллегория, а иконообраз и онтологичныи символ2.
Цвет, так же
как видимый свет и в качестве производного от него, – иконичен, и в своем
посюстороннем проявлении есть икона божественного света. Наиболее характерный
пример здесь – золото, которое играет важнейшую роль в православном искусстве.
Почему? Во-первых, золото – не краска, т.е. нечто созданное руками человека,
напротив, оно творение рук Божиих. Во-вторых, золото не имитирует свет (и
цвет), а испускает, излучает, являет его; через золото говорит Сам божественный
свет. Кн. Евгений Трубецкой пишет: «Как бы ни были прекрасны другие небесные
цвета, все-таки золото полуденного солнца – из цветов цвет и из чудес чудо. Все
прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы
образуют вокруг него «чин»... Ибо всякому цвету и свету на небе и в поднебесье
источник – солнце». Золото икон и окладов играет важную роль в храмовом
освещении. «Золото, – варварское, тяжелое, бессодержательное при дневном
рассеянном свете, – волнующимся пламенем лампады или свечи оживляется, ибо
искрится мириадами всплесков то там, то здесь, давая предчувствие иных,
неземных светов, наполняющих горнее пространство. Золото... есть живой символ,
есть изобразительность в храме с теплящимися лампадами и множеством зажженных
свечей», – так описывает иконичность светоносного золота о. Павел Флоренский. И
если свет в храме преимущественно являет божественный свет, то золото бесспорно
составляет сердцевину этого иконичного света.
Иконописец должен
употреблять только естественные, природные краски, что строго соблюдалось в
технике иконописания. Но, главное, иконописец должен стремиться к такой чистоте
цвета, которая, как идеальный проводник, способна пропускать таящийся в ней
божественный свет. Краска в иконописи не имеет самодовлеющего значения (в
отличие от масляной краски в живописи); в идеале краска стремится к
самоотрицанию и претворению себя в чистый цвет. Как золото «самоустраняется» в
излучении света, так и краска иконы как бы теряет свою материальную природу в
цветоносном излучении. И тогда через цвет начинает «говорить» свет. Как бы ни
были многообразны, пишет кн. Евгений Трубецкой, иконописные краски, кладущие
грань между двумя мирами, это всегда – небесные краски в двояком, т.е. в
простом и вместе символическом значении этого слова. «То – краски здешнего,
видимого неба, получившие условное, символическое значение знамений неба
потустороннего». Священный цвет иконы становится иконой божественного света.
Красочная цветовая гамма иконописи являет себя как особый мир, не имеющий
прямых аналогий с миром видимым, но именно поэтому сочетание различных
«небесных» красок открывает человеку «глубинные пласты бытия», погружает человека
в созерцание, раскрывает перед человеком «тайное тайных» – Царство небесное.
Как отмечает М. Алпатов, «икона, как магический кристалл, помогала разглядеть
самое существо вещей». Итак, священный цвет иконичен, он есть иконообраз
не-тварного Фаворского света.
Иконичность храмового освещения
Выше уже
говорилось об иконичности света вообще, его восприятии Православием в качестве
иконообраза нетварного Фаворского света. Но иконично и внутрихрамовое освещение
(лампады, свечи, паникадило), которое используется на каждом богослужении
независимо от наличия или отсутствия падающего сквозь окна естественного
солнечного света. Согласно прот. К. Никольскому, возжигание в храме
светильников совершается: «1) в ознаменование того, что Господь, живущий в
свете неприступном (1 Тим. 6.16), просвещает мир духовным светом (Ин. 8.12),
озаряет наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа (2 Кор. 4.6); и святые угодники суть светильники, горящие и светящие,
как Господь сказал о св. Иоанне Предтече (Ин. 5.35); 2) для обозначения того,
что сердце верующих согрето пламенем любви к Богу и святым Его, и 3) наконец,
для изображения духовной радости и торжества Церкви»3. Если свет
вообще – иконообраз божественного света, то храмовое освещение иконично по
преимуществу. Св. Симеон Солунский называет Церковь «свещником Христовым»,
Самого Христа – светильником, а возжигаемый за богослужением свет – «сообщением
божественного просвещения».
Освещение как
онтологичный символ может иметь несколько иконичных значений в зависимости от
характера источника света (свечи, паникадило), места своего нахождения (перед
иконами, в алтаре, в середине храма – от паникадила, через световой барабан)
или части богослужения. Иконичность храмового освещения подвижна и многозначна,
она дополняет и объединяет иконичность всех других элементов богослужения. Св.
Иоанн Кронштадтский считает церковные светильники также ико-ничным символом
божественного огня: «Видя свечи горящие, – призывает он, – восходи мыслию от
огня вещественного к невещественному огню Духа Святого...».
Богочеловеческий
реализм храмового освещения не допускает использования в богослужении
электричества; оно применяется с разрешения епископа для общего (если храм
слишком темный) рассеянного освещения. Здесь можно провести аналогию с
иконописанием. Как при написании иконы применяются только естественные,
природные материалы (дерево, пигменты, масла, растворители), ибо они
произведение рук Божиих, а не рук человеческих (как искусственные материалы),
так и при освещении храма должен использоваться свет, излучаемый естественным
источником. Свет в храме изображает (от слова «образ») сверхъестественный
Фаворский свет, является его иконообразом, его онтологиическим символом и
потому может быть только естественным. Электрический же свет способен послужить
в лучшем случае аллегорией или знаком, лишенным всякого истинного онтологизма.
Строгий суд
над электрическим светом вершит А. Ф. Лосев. Позволим себе привести большую
(при этом наполовину сокращенную) цитату из сочинений философа: «Электрический
свет – не интимен, не имеет третьего измерения, не индивидуален. В нем есть
безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость... В нем нет сладости
видения, нет перспективы. Он принципиально невыразителен... Электрическому свету
далеко до бесовщины. Слишком уж он неинтересен для этого. Впрочем, это, быть
может, та бесовская сила, про которую сказано, что она скучища
пре-неприличная...4 Скука – вот подлинная сущность электрического
света... Нельзя молиться при электрическом свете, а можно только предъявлять
вексель. Едва теплящаяся лампадка вытекает из православной догматики с такой же
диалектической необходимостью, как царская власть в государстве или наличие
просвирни в храме и вынимание частиц при литургии. Зажигать перед иконами
электрический свет так же нелепо и есть такой же нигилизм для православного,
как... наливать в лампаду не деревянное масло, а керосин... Нелепо, а главное,
нигилистично для православного живой и трепещущий пламень свечи или лампы
заменить тривиальной абстракцией и холодным блудом пошлого электрического
освещения»5. Итак, согласно А. Ф. Лосеву, электрическое освещение в
храме несостоятельно с любой точки зрения: богословской, эстетической,
психологической, прагматической.
В течение
многих столетий в храмах при богослужении употребляются два основных материала
– елей и воск, которые, согласно св. Симеону Солунскому, имеют несколько
взаимодополняющих символических значений. «Никакое другое освещение, – как
подчеркивала в конце XIX в. «Настольная книга для священноцерковнослужителей», – не может иметь
символического значения».
О символическом значении православного богослужения в
целом и отдельных его частей писали многие св. отцы: св. Кирилл Иерусалимский,
св. Герман Константинопольский, преп. Максим Исповедник. Особенно выделяется в
этом плане труд св. Симеона Солунского, который можно назвать настоящей
энциклопедией символического, образного, иконичного изъяснения богослужения,
храма, облачений, церковной утвари, всего «храмового действа».
1 В основе православного понимания просвещения (от
слова «свет») лежат представления о нетварном божественном свете,
раскрывающемся в мире как свет веры Христовой. Христианское просвещение
иконично: это высветление, просветление божественным светом самой сущности
человека. Антиподом такого истинного Просвещения стало «просвещение» XVIII века, которое сами «просветители» свели к
получению определенной суммы знаний, а наследники эпохи, совершив подмену
понятий, – к атеистической свободе воспитания, тогда как символом неверия всегда
была тьма, а не свет. Это было связано, на наш взгляд, с утерей именно
иконичных представлений о человеке и свете. Подобная подмена была совершена и в
понимании образования. Христианское образование также иконично: это не
получение и накопление человеком теоретических и практических знаний», а
преобразование, преображение (от слова «образ») души человеческой,
восстановление, высветление в ней образа Божия, потемненного грехом. Поистине
просвещенный, поистине образованный человек – это святой, ибо именно в святом
образ Божий, образ Христов сияет во всей своей чистоте и полноте.
2 Как нам кажется, поздние изображения нимба в виде
диска за головой или над головой святого, принимающего разные формы (например,
овала) в зависимости от ракурса, выбранного художником, действительно делают
нимб условным знаком. Нимбы более раннего происхождения – в виде круга,
заполненного ровным «немерцающим» золотым сиянием, более точно выражают
онтологичный смысл и назначение венчика вокруг головы святого.
3 Св. прав. Иоанн Кронштадтский пишет:
«Светильники, горящие перед иконами, означают, что Господь есть Свет
Неприступный и Огонь поедающий для грешников нераскаянных, а для праведников
Огонь чистительный и животворный; что Божия Матерь есть Матерь Света и Сама
чистейший Свет, немерцающий, светящий всей вселенной, что Она есть Купина
горящая и неопалимая, приявшая в Себя огнь Божества, – престол огненный
Вседержителя, вместе и огнь, попаляющий нечестивых и животворный .для
благочестивых; что святые суть светильники горящие и светящие всему миру своею
верою и добродетелями».
4 Здесь Лосев отсылает нас к Достоевскому; более
точный адресат – Свидригайлов из «Преступления и наказания» и Иван Федорович с
его ночным кошмаром («Братья Карамазовы»).
5 Мы привыкли к электрическому свету, к неоновым
лампам, но знаменитый русский философ принадлежал к тому поколению, на глазах
которого электричество вытеснило из жизни трепетный свет горящего пламени. Его
суд – суд человека, свидетеля и очевидца частичной победы мертвого над живым, и
от этого суда, как бы ни был он строг, нельзя просто так отмахнуться.
3.1.2.11.
Мокеев Г.Я. Якоже горний Ерусалим
(Памятники Отечества, № 3, 1991, с. 74–81.)
Георгий Яковлевич
Мокеев – кандидат архитектуры, специалист в области древнерусского зодчества.
Изыдем любовию, подобно народам, в сретение
Ему, да и в
наш Иерусалим внидет ныне Христос...
Уготовим, яко
горницу, души наши смирением,
да через
причастие вниде в нас Сын Божий.
Св. Кирилл Туровский, XII в.
Городов,
воплотивших в своих структуре, композиции, облике символ 25 престолов Небесного
Града, было на Руси сравнительно немного. К Киеву, Пскову, Кашину, Москве можно
добавить Белоозеро, Калугу, Колу, Вытегру... Здесь же речь пойдет об остальной,
основной массе больших и малых древнерусских городов, воплотивших у себя
несколько иной символ горнего Иерусалима.
Содержание,
смысл градостроительной композиции почти любого старинного русского города
определял, в первую очередь, православный центральный соборный каменный храм
крестово-купольного типа. Храм этот был «принесен» к нам еще в конце X века из Византии греческими зодчими
после Крещения Руси – что было естественно; затем до самого XX века традиционно строился с разными
вариациями внешнего вида русскими зодчими как образцовый. Ныне далеко не просто
выявить уже неведомый или, говоря точнее, давно забытый таинственный
символический смысл общей формы храма, объяснить, как этот смысл храм конкретно
отображал, выражал. Начать, естественно, придется издалека.
Со времени
легализации Церкви и крещения в III веке римского императора Константина Великого
христианские храмы стали строить различными по форме: не только прямоугольными,
«кораблем», но и круглыми, восьмигранными, крестообразными в плане. Причем,
желанием храмоздателей всегда было создать такой храм, который бы воплощал
образ всего мироздания, Вселенской Церкви, отображал бы красоту горнего мира,
небесного рая. В поисках такого идеала было испробовано и применено, казалось
бы, все: гигантизм и необыкновенное благолепие внутри и снаружи (готические
храмы), различные, якобы, небесные формы (своды, купола); иконопись, стенописи,
скульптура представляли лики торжествующей небесной Церкви святых; а
«ангельское» пение, «божественная» музыка возносили дух к небу. Эти поиски
засвидетельствованы всем множеством сохранившихся и не сохранившихся памятников
культовой архитектуры христианского прошлого. Но создание синтетического типа,
идеального образа мироздания, Вселенской Церкви и рая небесного всегда
встречало немало трудностей. Только за период в 700 лет (до Крещения Руси)
христианские храмы Европы и Азии сменили множество типов, форм, образов. Было
найдено, однако, и что-то символически-постоянное.
Зодчие
Запада, слегка изменив римскую языческую базилику, придали храму в плане форму
«латинского» креста, «оформляя» его затем стенами, сводами, колоннами, башнями,
шпилями в разных архитектурных стилях, украшая скромно или сверх меры. Зодчие
православного Востока, также поначалу использовавшие базилику, придали затем
храму в плане форму равноконечного «греческого» креста, конструктивно
вписанного в куб мироздания, увенчав его куполом неба на средокрестии. Появился
указанный центрический крестово-купольный храм в VI веке при византийском императоре
Юстиниане.
Но именно в
это время был богословски сформулирован идеал христианского храма, хотя
фактически он был указан давно, еще в I веке. Св. Андрей Кессарийский (рубеж V–VI веков) привлек внимание к
Апокалипсису св. Иоанна Богослова, написав к нему обширное «Толкование»,
вошедшее вскоре в состав святоотеческой литературы. В I веке св. Иоанн Богослов «видех
град святый Иерусалим нов, сходящ от Бога с небесе,.. и слышах глас велий с
небесе глаголющ: «се скиния Божия с человека...» (Апок. 21. 3,4).
«Истинная скиния есть сия, – указал св. Андрей, – образ ее или, точнее,
преобразование образа, был показан Моисею; ныне же церковь служит ее образом»
(Толк, на Апок. 21. 3, 4).
Любой
византийский храм служил в VI веке образом скинии (был трехчастным), но не воплощал
еще в архитектуре, формах, камне образа небесного Иерусалима. Доказательством
этому служит тот факт, что даже новый крестово-купольный храм не остановился в
своем развитии, а значит не был образцовым, идеальным.
«Замечательная
до сих пор главная характеристика развития византийской архитектуры в следующем
за юстиниановым периоде ограничивается почти тем, что купол, высоко поднявшись
над своим основанием, получил форму цилиндра, покрытого полусферой, и что на
фасадах церквей, представлявших прежде горизонтальные карнизы, начали
выказываться главные своды внутренней церкви. Эти две черты характеризуют
памятники византийской архитектуры преимущественно X столетия» – писал Г. Филимонов еще в
прошлом веке.
Полтысячелетия
потребовалось грекам, чтобы «усовершенствовать» крестово-купольный храм, причем
явно не в конструктивном, а символическом отношении. Надо полагать, после этого
он приблизился к необходимому «идеалу». Очевидно, только в X веке Господь Бог сказал
творцам-зодчим, стоявшим перед этим последним образцом: «Остановись мгновенье –
ты прекрасно!» И как положено – мгновение остановилось на... целую тысячу лет,
свидетельствуя этим, что «идеал» был действительно достигнут.
В самой
Византии новый храм еще только появился, когда греческим зодчим пришлось
«нести» его к нам на Русь. Именно у нас крестово-купольный храм с высоким
верхом и закомарами остановился в своем развитии до XX века. В этой связи можно говорить о
какой-то из двух «правд»: либо о неспособности русских к творчеству в культовом
зодчестве, либо о действительном достижении греками в X веке «идеала», который русские
приняли за «канон», не считая вправе его нарушать.
Что касается
первой из «правд», то она легко устраняется фактом чрезвычайного богатства
типов и форм храмов Московской Руси XVI–XVII веков. Один храм Василия Блаженного
чего стоит. Да и в «стартовых» X–XI веках еще неофиты князья Владимир Креститель и Ярослав Мудрый сразу же
сделали смелый шаг: внедрили на Руси храмовое многовершие-многоглавие, какового
не было ни у греков, ни у латинян. Следовательно, речь должна идти не о
неспособности русских разобраться, что к чему, а действительно о получении от
греков образцового по типу храма. После чего в XI–XIII веках вся новокрещенная Русь
«наполнилась» крестово-купольными храмами с высоким верхом и закомарами, в то
время как сама старушка Византия хранила в своей ризнице весь набор старых и
новых одежд – храмовых форм некогда великого «Второго Рима».
Но как своим
образом небольшой храм может походить на такой величественный Первообраз,
каковым рисуется у св. Иоанна Небесный Град: «хрустально-золотой», с престолом
Сидящего посредине, с неприступными стенами, воротами... Чтобы увидеть эту
«похожесть» необходимо, рассмотреть, как люди Средневековья представляли себе и
изображали Небесный Град во фресках на стенах храмов, в миниатюрах лицевых
хроник, священных книгах...
У нас «под
рукой» нет первых, древнейших изображений, а есть лишь изображения XIII–XVII веков. Но зато есть самое первое
описание Града св. Иоанном Богословом конца I века, которое хорошо всем известно по
последним страницам Библии (Апок. 21. 2, 12, 13, 14, 16, 18). Можно лишь
кое-что подчеркнуть для ясности. Град имеет квадратную в плане стену, а в ней
12 ворот, по трое на четыре стороны. Ворота поручены охранению 12 апостолов. В
описании св. Иоанна (Ин. 21. 18) указано также, что Град может выглядеть кубом.
Небесный престол внутри Града состоит из 25 престолов.
Здесь,
однако, целесообразно напомнить образ Сидящего на престоле, представленный в
видениях пророка Иезекииля (Иез. 1. 10, 15, 16, 22; также 10. 9,10,14). Престол
поддерживают четыре многоочитых херувима, под которыми четыре колеса, а над
ними – свод (это своеобразная опора престола, «подпрестолье»). Над сводом
виднелось подобие самого престола, а над ним – как бы подобие Человека. На
поздних средневековых рисунках в центре Небесного Града изображались престол в
виде куба с Крестом наверху, или Лобное место (Голгофа) с Крестом, или Агнец с
Крестом, или Христос.
На схеме 1
представлен Небесный Град по позднейшим, уже изометрическим или даже
перспективным изображениям XVII–XVIII веков. Внутри Града нередки изображения
рая в виде диковинных растений, над серединой Града – престол, на данной схеме
с колесами под ним.
На схеме 2
Небесный Град показан по более древним изображениям, без стен. В середине Града
– Лобное место с Крестом и рай растений. Ворота Града сдвинуты друг к другу и
«повалены» на четыре стороны (средневековый способ изображения фасадов). В
воротах – 12 апостолов Агнчих.
На схеме 3
Небесный Град изображен уже как храм в виде куба с престолом, поднятым над
храмом колесами арок и держащим Лобное место с Крестом. Престол (барабан), вероятно,
символизировал ангельские дориносные чины. Здесь особенно ясно видна трактовка
закомар как ворот Небесного Града. «Великой церковной стеной высокой и
охраняющей живущих в святом Граде называется Христос; двенадцатью воротами Его
– святые апостолы, через которые мы имеем приведение и вход к Отцу»
(Андрей Кес, Толков, к Апок. 21. 14– 16). Св. Андрей еще раз напоминал, что
«через апостолов населяется сей город».
Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

На схеме 4 –
показан крестово-купольный храм уже в виде трехчастной «скинии»: с запада –
притвор, в середине – «Небесный Град», на востоке – алтарь (горизонтальное
движение к «небу» и что «превыше небес»). Притвор может быть ниже храма, тогда
«Град» возвышается над ним. Но нередко притворы имели второй этаж для балкона
(хора) и его своды оказывались наравне со сводами-закомарами «Града» (у
шестистолпных, восмистолпных храмов). В интерьере центральная часть храма
оставалась двусветной и «Град» из 12 стен-прясел либо крещатый (крест образован
средними широкими нефами) был виден изнутри. Впрочем и наружные дополнительные
закомары-врата могли быть относимы символически к Пресвятой Богородице, св.
Иоанну Предтече, святому покровителю храма, благодаря заступничеству которых верующим
не был заказан вход в Небесный Град и во второе пришествие Христово. В таком
случае, храм мог иметь не 12 закомар-врат, а 14, 16. Галереи для оглашенных
вокруг храма собирали «народы, приходящие в храм со всех сторон».
Только за
период с конца X по середину ХШ века на Руси было построено более 200 каменных
крестово-купольных храмов с высоким верхом и закомарами. Хотя их конструктивный
тип был один, размеры, конкретные формы, зрительная проявленность
(узнаваемость) символа Небесного Града были различными у каждого храма. Храмы
достаточно отличались друг от друга также деталями, строительными материалами,
внешней и внутренней отделкой, а в конечном итоге – обликом, образом. В
основном по внешним архитектурным признакам исследователи древнерусского зодчества
давно сгруппировали храмы в архитектурные школы: Киевскую, Новгородскую,
Полоцко-Смоленскую, Галицко-Волынскую, Владимиро-Суздальскую, а позднее –
Псковскую, Московскую, Ярославскую... В храмах каждой школы «Небесный Град» был
проявлен в разной степени «похожести» на Первообраз.
Киевская
школа зодчества (сначала – общерусская) характерна относительно большими
размерами храмов, монументальностью форм, крупными членениями объемов. Храм,
как «скиния», обычно трехчастен (высокий притвор – «Небесный Град» – алтарь),
нередки галереи для большого тогда еще количества оглашенных. Пилястры или
полуколонны фасадов стоят между закомарами, поддерживая вверху на капителях
водометы. В середине над храмом обычно поднимается сначала верх кубического
«подпрестолья» (трибун), затем мощный престол (барабан), наконец вверху –
Лобное место (лоб) с крестом. «Киевские» храмы стояли и еще стоят в самом
Киеве, а также Чернигове, Новгороде, Смоленске, Галиче, Владимире Волынском,
Рязани...
Смоленская
школа зодчества выделилась в XII веке. Между закомарами фасадов появились пучковые
пилястры, как бы символизировавшие собранные в гармошку стены Небесного Града.
«Подпрестолье» (трибун) над храмом приняло форму «колес» – арок, трехлопастных
арок, выше которых поднимался престол (барабан) с Лобным местом и крестом. Храм
нередко трехчастен, имел приделы, галереи.
Новгородская
школа имела храмы, отражавшие символ Небесного Града скорее всего изнутри,
нежели снаружи (закомары были на севере непрактичны). В итоге это привело к
тому, что в XIII–XV веках небольшие храмы уличных общин получили на фасадах трехлопастные
завершения и стали символизировать уже в целом сам Небесный Престол. То же
самое усвоила в XFV–XV веках псковская школа зодчества, затем с начала XVI века – московская.
Владимиро-суздальская
школа до середины XIII века была, можно сказать, классической. На некоторых храмах (Успенский,
Дмитриевский соборы во Владимире, Рождественский в Боголюбове, Покров на Нерли)
узкие колонки фасадов и опушки закомар были позолочены, отчего грани храма и
его «переводы» бликовали золотом на солнце, и сам храм казался золотым, как
Небесный Град. На стенах закомар (как на экранах телевизоров) можно было видеть
небесный рай, как бы через его ворота: с причудливыми растениями, зверями,
птицами, с уже допущенными туда душами царей Давида, Соломона, Александра
Македонского, даже Геракла... Рай был либо «изображен красками», либо был
«вырезан из камня» и раскрашен. Ниже рая находился «пояс» святых, земных
ангелов. Наверху храм завершался сначала Голгофой (горой), на ней стоял престол
(барабан), увенчанный Лобным местом (лбом) с крестом.
В лучших
своих образцах владимиро-суздальские храмы демонстрируют не только высочайший
художественный вкус, предельную артистичность зодчих, аристократичность
храмоздателей, но и глубокое, тонкое понимание этими строителями христианской
храмовой символики.
На
владимиро-суздальском образце можно подытожить священные темы храма как символа
мироздания, небесного рая, Вселенской Церкви, кратко перечислив их сверху вниз:
голубь – символ Святаго Духа, Крест – символ Христа, Лобное место – престол,
гора Голгофа, горний Град Иерусалим (врата-закомары), рай небесный (внутри
Града виден как бы сквозь ворота-закомары), апостолы – символы христианских
народов («прозрачные» стены ворот-закомар), земные ангелы («пояс» святых),
народы (стены в нижней части), образующие Церковь верующих, притекающие в нее с
четырех сторон света.
Каменный
соборный храм был главной святыней русского города со времен Крещения Руси.
Стоял он внутри крепости, возвышаясь над ней своими закомарами, верхами с
золотыми крестами. Внутренность обычно деревянной крепости наполняли также
клети крома (склада) и маленькие осадные дворы жителей города. Сами жители
вольготно проживали на посаде и в слободах под крепостью, имея дворы, дома,
хозпостройки, огороды, сады, скотину, птицу... Между крепостью и посадом,
используя пространство обстрела перед стеной, обычно размещался городской торг
с рядами, лавками, амбарами, гостиными дворами, кузницами. Такая структура
древнего русского города: храм, крепость, торг, посад была «типовой»,
характерной для сотен городов.
В нашей науке
принято считать, что «город» как явление, есть следствие второго разделения
труда – отделения ремесла от сельского хозяйства, место обмена
сельскохозяйственных проектов на изделия ремесленных промыслов, то есть
торговая точка определенной округи. При этом утверждается, что если в поселении
с крепостью нет ремесленного населения, торговища, то городом его считать
нельзя. Таким образом, из множества функций древнерусского города: жилой,
промысловой, торговой, административной, оборонной, культовой брались один-два
материалистических критерия (торгово-ремесленная функция) и после этого ставили
вопрос о том, были ли вообще города на Руси?
Но «городом»
в Древней Руси называли укрепленное поселение и, прежде всего, «крепость», ее
оборонительные сооружения: стены, ворота, костры (башни). Защита горожан,
населения округи была главной функцией города. Остальные функции поселения
протекали под прикрытием города – он обеспечивал стабильность их осуществления.
И нельзя торга-шеско-ремесленную функцию возводить в критерий существования или
несуществования города. А вот наличие крепости, «града» является таким
критерием.
Если соборный
храм символизировал Небесный Град, как бы опустившийся на землю с неба от Бога,
то крепость знаменовала собой земной Иерусалим. Об этом позволяют говорить
прежде всего появившиеся в Киеве и Владимире Золотые ворота, названные так по
подобию с Золотыми воротами в святом палестинском Иерусалиме (затем в
Константинополе). Во Владимире и Иерусалиме упоминаются также Железные ворота.
Внутри древнерусского города находился кром. А в одном месте Синодальной Библии
XV века русский
переписчик ее написал: «Обиташе Давид в крому» – и это об Иерусалиме времен
царя Давида. Следует, однако, признать, что символика земного Иерусалима в
древнерусском городе была отражена слабо и эпизодически встречается лишь в
крупных стольных городах.
Торговище и
посад оценивались в древнерусском городе более приземленно. Торгующих вообще
как бы изгнали не только из храма, но и из города-крепости (торг снаружи
«града»). Принцип «товар – деньги – товар» процветал за пределами «града» и не
имел к нему никакого отношения (см. рисунок города). Конечно, купцы-гости
ставили храмы на торгу, особенно своим святым заступникам: Николаю Чудотворцу,
Параскеве Пятнице, Козьме и Дамиану, а посадское население возводило храмы на
посаде. Тем не менее, древнерусский город в целом не был просто «местом обмена
продуктов труда», следствием отделения» ремесла от сельского хозяйства.
Горожане в Древней Руси никогда не порывали связи с матушкой-землей, все (даже
ремесленники) занималась сельским хозяйством. И не случайно более 90 %
населения Руси-России всегда было в той или иной степени земледельческим, крестьянским,
а значит духовным. Материальным воплощением этой духовности и являлись древние
русские города, а в них – православные соборные храмы – символы Горнего
Иерусалима.

Рисунок города
НАРУЖНАЯ СИМВОЛИКА РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРАМОВ X–XII ВЕКОВ
|
ФОРМА |
СОДЕРЖАНИЕ |
|
ВЕРХ, «ЧТО ПРЕВЫШЕ НЕБЕС» |
|
|
Голубь символ Крест символ Цата (вверх/вниз) Шар (позднее) Лоб, «чешуя» Кольца, городки,
треугольники «Барабан» «Трибун», позднее
увеличен арками |
Святого Духа Христа Знак достоинства
Царя Царей (небесного/земного) Держава над небесным
и земным царствами (поруч. Михаилу Арх.) Лобное место (от
«черепа» Адама) множество небесных сил Чины небесных сил Престол – небесные
силы (дориносимые чины) «Подпрестолье» –
небесные силы (многоочитые херувимы, кольца) |
|
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТЕН –
НЕБО |
|
|
Арки-закомары Прясла стен Образы Давида, Геракла, Соломона, Растения, птицы, звери |
Врата-апостолы Небесного Града «Экраны» видимого внутри небесного рая Души праведных, попавших в небесное Царство Райские кущи, диковинная растительность, живность |
|
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ –
ЗЕМЛЯ |
|
|
Аркатура со святыми
Стены храма в целом
Стены, нижняя часть |
Земные ангелы близ
рая Христос Христианские
народы, притекающие с четырех сторон света и образующие церковь-храм |

Русь еще в X–XIII веках, отделенная от Святой
Палестины, от святынь земного Иерусалима Диким полем, печенежскими, затем
половецкими кочевыми ордами, избрала преимущественным объектом поклонения и
молитвы само небо, горний Иерусалим, престол Сидящего посреди небесного рая.
Ярким доказательством этого и явились их символы – крестово-купольные храмы с
высокими верхами и закомарами, поставленные по древнерусским городам,
монастырям, весям. Такой духовной направленностью Русь стала ощутимо отличаться
от Византии, католического Запада. За такое ее благочестие она и стала
прозываться русским народом в XVI–XVII веках «Святорусской Землей», или
просто «Святой Русью».
3.1.2.12.
Сомов Г.Ю. Проблемы теории архитектурной формы
(В кн.: Форма в архитектуре. –
М.:Стройиздат, 1990, с. 213-220; 253-255;
273-276; 295,
297-303.)
Георгий Юрьевич Сомов – сотрудник ВНИИТАГ. В книге «Форма
в архитектуре» анализируются закономерности сложения архитектурной формы,
рассматриваются эстетические аспекты архитектурной формы на примерах
христианских храмов.
Воспринимая
архитектурные формы, мы неосознанно связываем их с определенными факторами,
породившими эти формы, со скрытой в них информацией...
Семантические
оппозиции реального и потустороннего, земного и небесного, человеческого и
божественного, находившиеся в основе мировосприятия Средневековья, получали
развитие в архитектурном формообразовании, причем не только в символических, но
и в иконических знаках, развитых семиотических системах. Так, формы готических
соборов, напоминающие сталагмиты, не просто тянулись вверх, но явственно
отвечали идущим сверху потокам, неким силовым линиям, как сталагмиты отвечают
падению капель со сталактитов. В этом смысле сравнение Миланского собора с
застывшим дождем, принадлежащее А. К. Бурову, представляется не просто удачной
художественной метафорой, но обобщением скрытой семантики готического собора
как материализации небесных сил. Эта иконическая знаковая система дополняла
известную текстовую аналогию с кораблем, спасающим души грешников...
Многообразные
значения закрепляются в архитектурном формообразовании благодаря соотнесению с
различными явлениями, прежде всего с традициями самой архитектуры... Например,
трехчастность как принцип построения храма проходит через весь путь развития
крестово-купольных систем. Подобные структурные признаки как носители
информации о традициях имеют обычно богатую предисторию и проявляются в новых
архитектурных формах как знаки традиций, т.е. ассоциируются с образами
исторической архитектуры...
Значения в
архитектурном формообразовании формируется посредством синтеза знаков и через
формирование собственной материальной морфологии... Необходимость развития
новых значений приводит к существенному изменению их формообразования...
Необходимость выражения новых комплексов значений активно меняет материальную
морфологию, заставляя искать новые конструктивные и строительные приемы и
выявляя утилитарные функции пространства. Классический пример – формирование
готических храмов как новое архитектурное явление своего времени. Что стало
здесь главным фактором качественно нового решения? Прежде всего – переход к
ажурной каркасной конструктивной системе, позволяющей создать окна с тонкими
витражами и льющимся сверху светом, ажурные, устремленные ввысь изящные архитектурные
формы с многочисленными элементами символики и декора, развивающими и
обогащающими структуру общей конструктивной системы, таким образом, создать
принципиально новые комплексы значений всего образно-символического,
идейно-эмоционального содержания готики. Сами поиски новых конструктивных
решений направлялись новыми смысловыми, в том числе символическими,
структурами, необходимостью активного выражения связи земного и потустороннего,
организации более развитого и образно воздействующего внутреннего пространства.
Активное устремление пространства и формы вверх символически связывало два мира
световыми потоками, развивало подобный музыкальному сложный строй ажурных
деталей, наполненный развитой символикой, иконическими знаками и текстами...
Сложнейшие взаимообусловленности
семантики и морфологии показал А.Л. Якобсон в исследованиях, посвященных
закономерностям развития культовой архитектуры зрелого и позднего Средневековья
средиземноморских и причерноморских стран. Когда храмы стали создаваться для
людей определенного круга – прихожан городского квартала, обитателей...
монастыря, княжеского замка и др., – их площадь уменьшилась, что привело к
принципиальным изменениям в формообразовании и поиске содержательных образных
характеристик. Вот как формулирует эти перемены А.Л. Якобсон: «...уменьшение
площади церквей все отчетливее и резче сопровождалось повышением их пропорций,
усилением вертикальной оси с целью выделить здания среди окружающей застройки.
Устремленность ввысь масс храма придавала новое эмоциональное звучание
постройкам, рассчитанным на восприятие не только и не столько изнутри, сколько
снаружи, что дало новый толчок интенсивному развитию купольной архитектуры,
специфичной в каждой стране. Экстерьер с течением времени всюду приобретал все
большее значение.
Это имело
последствия, изменившие весь облик архитектурного произведения. Его
художественные качества стали полнее и отчетливее проявляться во взаимосвязи
интерьера и фасадов. Фасад здания стал лучше выражать его композицию и сам
приобрел большее, чем в раннем средневековье, художественное значение».
Мы видим
сложную цепь факторов: социальных, уменьшающих площадь; градостроительных,
делающих более значимыми фасады храмов; наконец – тенденций художественного
освоения сложившихся прототипов. В этой логике формообразования, как и при
формировании готических храмов, трудно увидеть семантику в чистом виде:
формирование значений входит в процесс создания материальной морфологии объекта
и в обнаженном виде не существует. И все же в изменениях архитектурного
формообразования в приведенных ситуациях отчетливо прослеживаются именно
изменения доминирующих смыслов и символов. Вся европейская и ближневосточная
культовая архитектура при переходе от раннего к позднему Средневековью как бы
распрямляется, освобождаясь от тяжести, становится более стройной, светоносной,
нарядной, поворачивается лицом к городскому пространству. В целом создаются
новые комплексы значений: устремленности к небу, стройности и возвышенности. А
это свидетельствует именно о процессах духовного развития, подчиняющих себе
изменения архитектурных форм. Новое мировосприятие определяет новые
семантические структуры, а через них активно влияет на формообразование, на
поиски новых конструктивных и строительных приемов. За различными значениями и
их знаковыми формами, с одной стороны, различными формообразующими факторами –
с другой, происходят мощные сдвиги семантических пластов, исторические
изменения мировосприятия и художественного мышления, которые вызывают активные
изменения формообразования.
Материализация
значений в форме, их закрепление и развитие при формообразовании осуществляются
наиболее полно благодаря профессиональным методам. Прежде всего для этой цели
используются архитектурные формы, уже обладающие богатством значений. Далее
необходимы формы, в которых активно преломляются различные конкретные
обусловленности формообразования. Это позволяет достичь художественной
образности и символичности, отразить тенденции, выявить идейное содержание, в
то же время создать сложно обусловленное, закономерное во всех особенностях
построения, живое, наполненное богатством конкретности архитектурное
сооружение. Весьма интересные проявления этого общего способа формирования дает
древнерусская архитектура. Классическим примером может служить один из древнейших
храмов Руси - Киевская София. Основой для этого гигантского для своего времени
здания послужила крестово-купольная система с традиционными элементами
византийской архитектуры. Однако формообразование храма было во многом
обусловлено конкретными требованиями княжеского заказа. Композиция органично
включила в себя некоторые особенности дворцовой архитектуры. П-образно
огибающие объем с трех сторон обширные и светлые хоры архитектурно решались как
помещения дворцового характера. В их композицию вошли башни с лестницами, также
типичные для дворцовой архитектуры. Благодаря этой конкретной обусловленности
формообразования, вовсе не характерной для византийской архитектуры, отдельные
объемно-пространственные элементы и фасады сооружения получили удивительно многообразное
развитие в системе сложно обусловленных форм. Так, на восточном фасаде со
средней пятигранной апсидой и четырьмя полукруглыми, решенными тремя ярусами с
постепенным понижением высоты элементов с плоскими глухими нишами, образовались
активные различия, возникли элементы живой асимметрии, что внесло в композицию
сооружения сложную живую игру форм. Столь же интересно и живописно в результате
органичного и живого развития асимметрии решались и другие фасады. В целом все
это позволило создать синтез разных значений и знаковых форм. Традиционные
византийские приемы и формы вносили развитую символику восточно-христианский
архитектуры. Системы полуциркульных форм, в том числе многочисленных арочных
элементов, способствовали антропоморфным ассоциациям архитектуры с фигурами
святых, нимбами, ликами, глазницами. Суровые фигуры читаются и в формах апсид,
барабанов и глав. В то же время тонкое использование приемов асимметричного
усложнения фасадов, развитие во внешних формах пространственно-функциональных и
конструктивных особенностей сооружения, выявление контрастных отношений в
сочетаниях основных элементов – все это формирует многообразную информацию о
сложной обусловленности формообразования многими факторами...
Если мы
признаем знаковый характер закрепления в материальных формах определенного
содержания, реальность самих знаков и отношений между ними, то должны допускать
и существование правил, действующих в организации этих отношений. Последнее и
есть синтаксис.
Специфика
формообразования заключается в том, чтобы синтезировать типические при-знаки,
присущие значимым объектам своего времени, и в то же время найти новый,
индивидуальный образ. Классический пример такого символического обобщения -
создание Успенского собора Аристотелем Фьораванти, когда в новой архитектурной
форме и новом образе получают развитие наиболее характерные художественные и
символические черты домонгольской архитектуры, владимирских храмов Юрия
Долгорукого и прежде всего символически значимого для Владимиро-Суздальской
Руси Успенского собора во Владимире. Здесь наглядны процессы синтеза типических
черт, развитие черт образца.
Использование
прототипа или конкретного образца обычно избавляло от необходимости поиска
образно-символических черт архитектуры определенной общности... Использование
образцов – наиболее прямой путь создания типического в художественных образах
архитектуры...
На основе
близких условий формообразования, сходных прототипов, единой символики могут
создаваться весьма различные образы. Так, в культовой архитектуре средневековья
однотипные пространственно-конструктивные системы позволяли создавать
поражающее богатство индивидуальных образов. Чтобы осмыслить, как формируется
эта образная индивидуальность, обратимся, например, к храмам
Владимиро-Суздальской Руси. Напомним, как описывает Н.Н. Воронин специфику
Дмитриевского собора во Владимире и его отличие от других храмов этого региона:
«В литературе установилось мнение, что Дмитриевский собор построен по образцу
церкви Покрова на Нерли. Однако это справедливо лишь постольку, поскольку оба
памятника принадлежат к одному типу четырехстолпного крестово-купольного храма.
Но как Покровская церковь отличалась от храмов Юрия, так и Дмитриевский собор
был столь же глубоко отличен от церкви Покрова. Зодчими собора как бы руководило
желание возвратить его массам тот спокойный, несколько тяжеловесный ритм и
мощь, которые были столь типичны для храмов Юрия Долгорукого. Пропорции плана
еще сохраняют продольную вытянутость, но алтарные апсиды вновь приобретают
характер могучих полуцилиндров. Внутри храма господствует тот же дух
спокойствия, прекрасно выраженный в мерном и торжественном ритме широких арок,
несущих массивный широкий барабан главы с золоченым шлемовидным покрытием.
Однако при всем этом храм отнюдь не приземист и не грузен. В отличие от храмов
Юрия Долгорукого, Дмитриевский собор подчеркнуто величественен и по-своему
строен; но это не утонченная женственная грация церкви Покрова на Нерли, а
могучая прекрасная слаженность и мужественная пропорциональность».
Архитектурное
формообразование существенно различается в зависимости от того, развиваются ли
на его основе художественные образы, имеющие ярко выраженный пафос, что связано
в основном с понятиями «возвышенное» и «героическое», либо не имеющие такого
выраженного пафоса, когда архитектурный объект воспринимается как прекрасное
произведение, как правило, не пробуждая при этом отчетливо выраженных чувств.
Характеризуя
образный строй древних псковских памятников, В.Н. Лазарев писал: «Среди
памятников древнерусской архитектуры псковские храмы являются, пожалуй, самыми
лаконичными по своему художественному языку. Коренастые, приземистые, с мощными
стенами, с многочисленными галереями и притворами, они как бы вросли в землю. В
них великолепно выражена сила и твердость русского характера».
Можно
заметить: если зодчим руководит пафос возвышенного образа, он будет стремиться
скорее к простоте и строгости форм, к их подчинению каким-то важным элементам,
имеющим символическое значение, например, геометрическим центрам пространства,
осям, пространственным раскрытиям. Если же создается произведение, воздействие
которого основано скорее на эстетическом наслаждении, то формообразование будет
подчиняться в большей мере поиску игры форм, их разнообразию и определенности,
яркости и цветовым контрастам.
Символичность
архитектурных объектов придает художественному восприятию возвышенный
характер... Стройность и строгость архитектурных форм по-своему способны
создавать возвышенные образы. Более строгие архитектурные формы тяготеют к возвышенному,
более сложные и разнообразные - к эстетическому восприятию, основанному на
интеллектуальном удовольствии. Это объясняется тем, что визуально сложные
архитектурные формы, пробуждая самостоятельный интерес, становятся при
восприятии источником эстетического наслаждения. Более простые и строгие формы
скорее служат символизации.
Действует
общая тенденция, определяющая формирование художественного образа – символизация
формообразования, которая представляет собой выражение в информационно-знаковой
системе архитектурного объекта существования значительных сил, событий,
явлений, находящихся вне этого объекта.
Композиционные
построения, куда-то ведущие человека, объективно выражают символическое начало.
Такая архитектура создает впечатление чего-то значительного, скрытого, стоящего
за видимостью форм. Возвышенность интерьеров христианского храма – уже в самой
устремленности пространства к льющемуся сверху свету, и эта устремленность
вверх создает возвышенное состояние независимо от сложности формы (нервюр и
витражей готического собора или сложных росписей и богатства иконостаса
православного храма). Произведения изобразительного искусства подчиняются в
данном случае общей структуре сооружения, а главное – символическому смыслу
связи двух миров, способствуя символизации самого художественного восприятия.
Если
строгость и простота форм создает возвышенные образы благодаря символизации, то
их стройность связана с возвышенным благодаря ассоциативности. Аналогия
стройных форм с человеческой фигурой позволяет человеку ощущать себя частью
архитектуры, чувствовать присутствие других, более величественных, подобных ему
сил (т.е. Божественное присутствие. – М.К.).
Геометрические
фигуры (трехмерные или плоскостные), ритмические построения в пространстве и на
плоскости, пропорциональные системы, светотеневые неоднородности, цветовые
соотношения и отдельные цвета как таковые, т.е. различные перцептивные
характеристики обладают определенными художественными качествами, в некоторой
степени независимо от того, в каком художественном образе они реализуются.
Однако чувственный материал не может отрываться от содержательной,
художественной стороны произведений, от художественного воздействия
архитектурного объекта в целом... Очень глубоко и точно характеризовал
соотношение этого материала и сущности искусства Гегель: «Со своей чувственной
стороны искусство намеренно дает нам лишь призрачный мир образов, звуков и
созерцаний, и не следует думать, что, создавая художественные произведения,
человек вследствие своего бессилия и ограниченности фиксирует лишь оболочку
вещей, лишь схемы. Ибо эти чувственные образы и звуки выступают в искусстве не
ради себя и своего непосредственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме
удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают способностью
пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их отклик в душе. Таким
образом, чувственное в искусстве одухотворяется, так как духовное получает в
нем чувственную форму».
КРАСОТА
«Мы допускаем
в прекрасных вещах
лишь столько
отношений, сколько их может
легко и
отчетливо уловить тонкий ум»
Дидро
В
архитектурной форме словно светятся изнутри трудно уловимые, но
облагораживающие ее исторически устойчивые признаки красоты. Архитектурное
формообразование с необходимостью включает в себя эстетическую организацию
объекта. Интуитивно или осознанно зодчий стремится найти эстетически
убедительную форму, выявить главную художественную идею, внешне просто, но
максимально насыщенно по содержанию организовать многообразный визуальный
материал, внести в архитектурную форму черты, которые делают архитектуру
эмоционально созвучной человеку.
Произведение
искусства существует лишь постольку, поскольку переживается человеком как
некоторая действительность, как художественная правда. Целиком овладевая
чувствами и мыслями человека, художественная правда по существу не позволяет
ему любоваться художественной формой как таковой. Приоритет художественной
правды над формой произведения, над эстетикой его структуры особенно ощутим,
когда в процессе восприятия воспринимающий субъект включается в изображаемую
автором действительность, в действия, эмоции и размышления его героев.
Архитектурный
объект существенно отличается от произведений других видов искусства именно
тем, что может восприниматься как объект созерцания, эстетического наслаждения.
Его форма, до некоторой степени самостоятельная по отношению к выражаемой в нем
художественной идее, способна активно воздействовать как «игра форм», поскольку
смысловая нагруженность и символичность архитектурного объекта определяются уже
самой его принадлежностью жизненным процессам... Таким образом, эстетическое в
архитектурном формообразовании не вполне совпадает с художественным. Красота
оказывается относительно самостоятельной категорией в отношении к
художественному образу и формообразованию.
Общей
фундаментальной идеей объективной основы красоты, получившей развитие в
эстетике, начиная с Канта, является идея целесообразности... Если понимать
развитие в форме целесообразного решения не узко и однозначно (лишь как
выявление утилитарной функции или рациональной конструктивной системы), а более
широко – как всестороннее осмысление материально-практических факторов и
системное построение формы при условии художественной образности, то
эстетическая значимость принципа целесообразности становится достаточно
очевидной.
3.1.2.13.
Фокеева Л.А. Куб, шар, пирамида-основные формообразующие символы
православного
храма
(Материал предоставлен на международную конференцию МСА в 2000 г.)
Л.А. Фокеева – преподаватель Томского Архитектурно-строительного университета.
Основная
богословская идея православного храма тесно связана с понятием Церкви
Вселенской. Его объемно – планировочная структура, функциональное зонирование,
система расположения декора полностью подчинены этой идее. Православный храм является
микрокосмической моделью вселенной, образом мира в христианском понимании.
Основными формообразующими символами православного храма, раскрывающими идею
Церкви Христовой, являются квадрат, круг и треугольник и их пространственные
модели – куб, сфера, пирамида (рис. 1). Квадрат и куб символизируют собой мир
материальный, земной, временный; круг и сфера - мир духовный, божественный,
вечный; треугольник и пирамида – это фигуры инверсии, связывающие два мира, –
материальный и духовный.

Рис. 1. Куб, пирамида и шар в объемно-пространственной структуре
православного храма
Квадрат
(куб). Символика
квадрата (куба) как образа мира материального известна с давних времен. Изучая
окружающий мир, древний человек представлял его как пространство спереди себя,
сзади, справа и слева. Отсюда появляются четыре направления пространства.
Символика квадрата тесно связана с символикой числа четыре – это четыре времени
суток, четыре времени года, четыре стихии, четыре первоэлемента и т.д. По
мнению психологов, квадратная форма вызывает ощущение прочности, стабильности,
определенности и подразумевает вещи материальные или просто рациональный
интеллект. В мировой культуре встречается много символов в форме квадрата,
обозначающих землю и мир материальный. В христианской философии четыре – это
четыре духовных первоэлемента, представленных в «Апокалипсисе» Иоанна
Богослова, четыре стороны света, на которые распространяется христианское
учение, четыре Евангелия и четыре евангелиста, как «четыре столпа Вселенской Церкви
и четыре главных ветра единого духа Божия, оживотворяющего Церковь,
распространенную по четырем сторонам света». Святитель Иоанн Златоуст, сближая
церковь верующих с самим зданием церкви, говорит, что «каждый из верующих и все
вместе суть храм, и все народы суть четыре стены, из которых Христос создал
единый храм». Подобный взгляд на храм встречается и позднее. Магистр Петр
Карнатский (XII в.) писал: «...Церковь покоится на Христе и двенадцати апостолах. Стены
означают народы; их четыре, потому что они принимают сходящихся с четырех
стран...». Подобная трактовка храма предполагает, что его стены должны быть
равновеликими, соответствующими четырем сторонам света, а объем храма,
следовательно, должен иметь форму куба. Известно, что еще философ Платон учил,
что земля имеет форму куба. Представления Платона унаследовали переводчики
Библии на греческий язык и александрийские географы. Так, известный
купец-индоплаватель, потом Раифский монах Козьма (VI в.) в своей Космографии говорит:
«Пишем убо ныне первое небо в купе со землею комарою видно (т.е. наподобие
здания с купольным покрытием), край со край связано (край неба с краем земли),
якоже убо подобно тому Писанию предати, тако сотворихом точию по стране
заходней и восточней: те убо две страны – стране еста от дому до убо есть
четвероугольна» (рис.2). Известный нам кубический тип храма (как византийский,
так и древнерусский) с четырьмя стенами, ориентированными по сторонам света,
четырьмя парусами, четырьмя столпами и купольным покрытием является моделью
представлений христиан о вселенной.

Рис 2. Образ
мироздания в виде куба. Миниатюра. Космография Косьмы Индикоплова
Круг
(сфера). Круг или
сфера всегда служили обозначением неба, всего божественного и вечного, символом
возвращения от множественности к единству, символом всеобщего, всеединого,
совершенного. Как полагал Юнг, существуют глубокие психологические предпосылки
такой концепции совершенства: квадрат, соответствующий наименьшему из составных
чисел и множителей символизирует разобщенное состояние человека, не достигшего
внутреннего единства (совершенства), тогда как круг можно соотнести с этим
конечным состоянием единства. Представления о связи между кругом и квадратом
достаточно регулярны в мире универсальных и духовных форм. Круговые знаки,
символизирующие небо, солнце, духовность, встречаются во многих мировых
культурах: в Египте, Греции, Мексике, в языческой Руси и т.п.
В
христианской философии круг и сфера – это также символы совершенства и
божественности. В православном храме местом присутствия Бога считается купол
(при рассмотрении символичного членения храма по вертикали) и алтарь (по
горизонтали). Пространственная структура православного храма подчиняется шести
основным направлениям пространства (из них четыре горизонтальных: запад,
восток, север, юг; и два вертикальных: зенит, надир) и имеет точку инверсии во
времени и пространстве, т.е. место перехода из одного духовного состояния в
другое. Каждое направление имеет свою символическую интерпретацию,
соответствующую представлениям христиан о структуре мирозданья. Главными
являются направления надир – зенит, как символ нравственного возвышения
человека и запад – восток, символизирующие момент в индивидуальном
существовании человека, переход из мира материального, смертного к миру
духовному, вечному. Зенит является символом мира духовного, светлого, всего
высшего и превосходного, он же символично интерпретируется как некое
«отверстие», через которое осуществляется переход или выход за пределы, т.е.
путь из мира явлений в мир истины и вечности. Промежуточная зона – мир земной,
мир видимости и двойственности. Надир в данном случае выступает как мир
подземный, все низменное и темное. В объемно-планировочном решении храма
вертикаль выражена следующим образом: зениту соответствует купол, промежуточной
зоне – объем храма, надиру - его фундамент. Горизонтальное направление имеет
две оси: восток – запад и север – юг. В планировочном решении храма западу
соответствует притвор. Средняя часть храма – это промежуточная зона, это путь
духовного совершенствования человека, его путь к Богу. Восточная часть храма,
соответствующая алтарю, является символом мира духовного, высшего, вечного.
Алтарь православного храма, как правило, имеет форму круга или восьмиугольника,
который представляет промежуточное состояние между квадратом и кругом.
Треугольник
(пирамида). Как
говорилось выше, в христианстве земной храм рассматривается в качестве образа
небесного храма, а его базовая структура определяется соображениями порядка и
ориентации. В широком смысле храм имеет значение мистического «Центра», где
пересекаются два мира – небесный и земной. В мировой символике мистический
«Центр» суть полая гора, восхождение на которую есть путь духовного
совершенствования. Вертикальная ось горы, проходящая от вершины к основанию,
связывается с мировой осью; местонахождение такой Горы – Центр земли. Сходный,
глубокий смысл распространен почти во всех традициях: достаточно упомянуть Гору
Меру у индусов, Хара-березайти (железная гора) у персов, Синай израильтян,
Химинбьорг германцев, это только некоторые и это далеко не полный перечень.
Более того, горные храмы такие, как Боробудур, месопотамские зиккураты,
ступенчатые пирамиды доколумбовой Америки – все были построены по образу этого
символа. Если смотреть сверху, пирамида постепенно расширяется, и в этом
отношении она соответствует перевернутому дереву, чьи корни вырастают из неба,
а листва направлена вниз; она символизирует множественность, расширение
универсума, распад и материализацию. Мистический смысл вершины также
проистекает из того, что это точка соединения неба и земли или Центр, через
который проходит мировая ось, связывающая воедино три уровня. Кроме того, она
служит также фокальной точкой инверсии – точкой пересечения огромного креста
св. Андрея, выражающей связь между различными мирами.
Формологическим
выражением символа мировой горы является пирамида. Ее квадратное основание
символизирует землю. Вершина – отправная и конечная точка всех вещей –
мистического «Центра». Соединение вершины с основанием образует треугольные
грани пирамиды, символизирующие огонь, божественное откровение и тройственный
принцип творения. Поэтому пирамида рассматривается в качестве символа,
олицетворяющего весь процесс творения в трех его основных направлениях.
Православный
храм является ярким примером архитектуры духовной, а символической основой его
объемно-пространственного решения выступает пирамида или треугольник – фигура,
символизирующая инверсию, путь из мира материи в мир духовности. В
подтверждение этому хотелось бы отметить, что первые христианские жертвенники
всегда сооружались на возвышенностях. О таком стремлении приблизиться к Богу,
выразившемся в устроении жертвенников и даже храмов на высотах, много
свидетельств встречается в Библии. Поклонение истинному Богу совершалось на
высоких местах. Ной ставит свой первый жертвенник на вершине горы, где
остановился его ковчег. Авраам приноси свою жертву–сына Исаака на горе Мориа
(одна из двух вершин Сиона). Скинию ставят: Иисус Навин–на Гаризине, Давид–на
Сионе. Храмы Соломона, Зоровавеля, Ирода – стояли тоже на горе. Наконец, первая
христианская Евхаристия совершается в горнице на Сионе. И даже Свою Крестную
Жертву Спаситель совершил на холме Голгофском.
С
психологической точки зрения, треугольник, будучи расположенным квадратом и
кругом, является выражением коммуникации. Говоря объективно, эти три фигуры
символизируют связь (представленную треугольником) между землей, т.е. миром
материальным (квадрат), и небом – миром духовным (круг). И именно пирамида
выступает основой объемно-пространственного решения культовых сооружений
практически всех мировых культур (рис.3). Христианский храм не является
исключением в мировой системе символов, так как именно пирамида с символикой
своих составляющих – наиболее яркое формологическое выражение идеи Вселенской
Церкви Христовой как образа мирозданья.

Рис.3. Пирамида в
архитектуре различных конфессий
Православный
храм, являясь образом мира, символичен в каждом своем элементе (начиная с
пространственного зонирования и внешних форм и заканчивая элементами интерьера
и их расположением внутри храма). Посредством символики своих элементов
христианский храм несет в себе информацию о структуре и взаимодействии макро- и
микрокосма и является материальной, а возможно и энергетической моделью вселенной
и имеет определенное влияние на психику, чувства, сознание и подсознание
человека. А инструментом этого воздействия является символ. Как писал Дионисий
Ареопагит в своей работе «О небесной иерархии»: «Не без основания существа, не
имеющие образа и вида, представляются в образах и очертаниях. Причиною сему, с
одной стороны, то свойство нашей природы, что мы не можем непосредственно
возноситься к созерцанию духовных предметов, и имеем нужду в свойственных нам и
приличных нашему естеству пособиях, которые бы в понятых для нас изображениях
представляли неизобразимое и сверхчувственное; с другой стороны, то, что Св.
Писанию, исполненному таинств, весьма прилично скрывать священную и
таинственную истину премирных умов под непроницаемыми священными завесами, и
через то соделывать ее недоступною людям плотским. Ибо не все посвящены в
таинства, и не во всех, как говорит Писание, есть разум».
3.1.2.14.
Фокеев А.А. Современный храмовый приходской комплекс
–
развитие русских
монастырей
(Материалы международной конференции, М., 2000.)
А.А. Фокеев – преподаватель Томского Архитектурно-строительного
университета.
В настоящее
время перед архитекторами ставятся задачи по проектированию не только отдельно
храма, но и задачи по проектной организации его инфраструктуры. Под
инфраструктурой храма подразумевается комплекс объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность приходского храма. Именно таким образом в современном
представлении определяется приходской храмовый комплекс.
Историческим
прототипом и идейным примером приходского комплекса мог бы выступить
монастырский комплекс и на это есть свои закономерные причины.
Одна из самых
ярких и самобытных идей русского церковного сознания – это представления о
Русской земле как об образе Обетованной земли, Царства небесного (Откр. 21.1,2).
Эта идея подобия Иерусалиму историческому и Иерусалиму небесному воплощалась на
протяжении многих веков при строительстве русских монастырей, соблюдая идейный
принцип подобия и соответствия священным образцам. Планировочная структура
монастыря, планировочный порядок расположения его составляющих является
воплощением Иерусалима небесного (Откр. 21). В соответствии с описанием
монастырь имеет башни и ограду, большинство монастырей тяготеет по форме в
плане к квадрату (рис. 1), а точнее к четырехугольнику, где роль престола
играет монастырский собор, а пострижение в монахи называется принятием
ангельского образа.
Русский
монастырь сочетает в себе культовые сооружения, которые формируют его
центральное ядро, жилые здания (кельи), хозяйственные постройки, которые
обеспечивают хозяйственные нужды. Все здания и сооружения в планировочном
смысле выстраиваются в определенном порядке, подчиняясь порядку,
соответствующему идейной иерархии.

Рис. 1.
Четырехугольник в плане русского монастыря
А – Троице-Сергиева
Лавра; Б – Владычный монастырь в Серпухове; В – Донской монастырь в Москве
Принцип
формирования монастырского комплекса по иерархическим кольцам или уровням
выливается в условно называемое «условие ограниченности». Так, главная площадь
ограничивается сооружениями центрального ядра; парадный двор ограничен
сооружениями второго порядка; хозяйственный двор имел свои ограничения. И,
наконец, сам монастырь ограничивался монастырской оградой. Причем, если
рассматривать принцип концентричности как закономерный при формировании
монастыря, то геометрическая неточность в его реализации объясняется просто:
наши предки не стремились к геометрической точности, этот принцип
реализовывался на символическом, образном уровне.
Расположение
относительно условного центра монастыря и соответственно
архитектурно-художественные качества определяются в зависимости от
символической значимости того или иного объекта. Так, собор, трапезная,
звонница формируют архитектурный и духовный центр монастыря. Кельи, дом
настоятеля формируют второй уровень иерархии. Хозяйственные постройки – третий,
монастырская ограда – четвертый.
Иерархия
объектов монастыря есть образ иерархии небесной. Дионисий Ареопагит в книге «О
небесной иерархии» писал: «...Кто говорит о иерархии, тот указывает на некоторое
священное учреждение, образ Божественной красоты, учреждение, существующее
между чинами и знаниями иерархическими для совершения таинств своего
просвещения и для возможного уподобления своему началу».
Св. Иоанн
Лествичник сказал: «Монахи подражают ангелам, мирские должны подражать
монахам». В этой связи приходской комплекс на уровне архитектурно-планировочной
организации должен стать мирской моделью монастырского комплекса.
В свою
очередь, храмовый приходской комплекс включает в себя, как правило, помимо
храма крестильный храм, трапезную, библиотеку, воскресную школу или
прогимназию. Зачастую при храмах организовываются приюты и богадельни. Храмовый
приходской комплекс для проживания причта включает жилые здания и хозяйственные
постройки для обеспечения хозяйственных нужд прихода. Таким образом, приходской
комплекс – это сложный организм, подобный по своему составу монастырскому
комплексу. Следовательно, соблюдая принцип подобия, творческий подход к
архитектурно-планировочной организации приходского комплекса должен быть
подобным процессу архитектурной организации русского монастыря.
Центральное
место или высшую ступень иерархии в приходском комплексе, конечно, должен
занимать сам приходской храм, подобно собору монастырского комплекса.
Монастырский собор всегда возводился с учетом того, что будет виден отовсюду
«яко зерцало». В дальнейшем развитие композиции центрального ядра ансамбля
происходило в строгой зависимости от параметров первого и главного сооружения.
Таким образом, собор служил мерилом при формировании всей композиции.
Расстояние между сооружениями и их высоты, так или иначе, находились в
зависимости от размеров собора. К примеру, так организовано центральное ядро
Троице-Сергиевой Лавры и Борисоглебского монастыря. Святые ворота обоих
монастырей расположены на расстоянии 3–4 высот близстоящих сооружений. Таким
образом, для входящих в монастырь обеспечивалось восприятие общего вида
композиции центральной группы объектов. Господствующее положение собора в
композиции комплекса отражало присущий мировоззрению эпохи основополагающий
принцип иерархии, поэтому расположение построек монастыря приближается к
концентрической схеме (рис. 2).

Рис.2. Схема
иерархических колец на примере Троице-Сергиевого монастыря
Второй
уровень иерархии объектов приходского комплекса образуют трапезная, часовни,
воскресная школа, церковная библиотека.
Третий
уровень – это жилые здания причта. Следующий уровень – хозяйственные постройки,
мастерские по изготовлению церковной утвари, гаражи. Пятый уровень церковная
ограда с воротами на территорию комплекса.
Существует
достаточно проблем пространственной организации храмовых комплексов в городских
условиях. Анализ композиции русских монастырей может помочь разобраться в
вопросах конструирования пространства приходского комплекса и моделирования его
восприятия.
По
композиционным признакам центрального ядра монастырские комплексы можно
разделить на следующие типы: диагональный, треугольный,
веерный и осевой. Диагональный характеризуется размещением объектов центрального ядра по диагонали,
относительно главного направления Запад–Восток (Антониев-Сийский монастырь,
Александро-Ошевен-ский монастырь, утрачен в 1706 году). При такой композиции
центрального ядра обеспечивается оптимальное восприятие как внешнее, так и
внутреннее. При восприятии от Святых ворот горизонтальный угол зрения в 54°
позволяет видеть сразу всю центральную группу зданий, а расстояние до первого
вертикального сооружения, равное двум его высотам, благоприятно для восприятия
вертикальных размеров зданий.
Размещение основных
построек по вершинам треугольника подразумевает треугольный тип
(Иосифо-Волоколамский монастырь, Тро-ице-Сергиев монастырь). Такой
композиционный принцип при начале восприятия от центральных ворот обеспечивает
последовательное восприятие объектов с серией сменяющихся видов и перспектив
(рис.3).

Рис.3. Пример треугольного типа композиции центрального ядра.
Преображенский монастырь на о. Валаам
В том случае,
если центральное ядро монастыря составляет более трех объектов, они
располагаются по плавной или ломаной дуге, раскрытой в сторону восприятия.
Такой прием
можно назвать
веерным. Он широко применялся в композициях многих монастырей,
формировавшихся в XVI–XVII веках (Кирилло-Бе-лозерский, Спасо-Прилуцкий, Ферапонтов монастыри).
Местоположение объектов центрального ядра при такой композиции выбиралось с
учетом его полного или частичного восприятия от Святых ворот с горизонтальным
углом восприятия примерно 60° (рис.4).

Рис.4. Пример
веерного типа композиции центрального ядра монастыря
Ряд монастырских
ансамблей имеет осевые композиции (Новодевичий монастырь (рис. 5),
Соловецкий монастырь) с расположением объектов центрального ядра по продольной
оси.

Рис. 5. Пример осевой
композиции центрального ядра. Новодевичий монастырь
Все приведенные
приемы, различные по планировочному приему и композиции, одинаковы в главном: в
подчинении всех элементов единому композиционному приему для обеспечения
оптимального восприятия.
Использование
этих композиционных принципов при проектировании современных приходских
комплексов, поможет разрешить многие проблемы по их архитектурно-планировочной
и объемно-пространственной организации в условиях современного города.
Таким
образом, образцом для приходского храмового комплекса выступает русский
монастырь как отражение вселенских идей русского Православия в произведениях
церковной архитектуры.
3.1.2.15.
Щенков А.С. О принципах изучения русской храмовой архитектуры
(Архитектура мира. Запад – Восток:
взаимодействие традиций в архитектуре.
М.: ВНИИТАГ,
1995, с. 35-38.)
Алексей Серафимович Щенков (род. в 1941 г.) – доктор
архитектуры, профессор МАрхИ, историк архитектуры, в частности, истории
реставрации и русского церковного зодчества.
Храмовая
архитектура типологически составляет наиболее изученную группу архитектурных
произведений, поскольку до конца XIX в. это были важнейшие, или одни из важнейших
произведений в любой культуре, в любом регионе. А от некоторых культур помимо
храмов архитектура вообще почти ничего не оставила. И, тем не менее, сегодня
храмовая архитектура оказывается объектом нового, пристального внимания, и
полнота наших знаний о ней подвергается сомнению. Н.Ф. Гуляницкий, писал, что
при изучении храма различные его ценности рассматриваются исследователями чаще
всего раздельно «вне связи с целым и, что особенно печально, в отрыве от
богословской основы храмостроения».
Совершенно
очевидно, что эта неизбежная в минувшие десятилетия оторванность от
богословской основы храмостроения и заставляет сегодня как бы вновь обращаться
в истории архитектуры к данной теме. Хотя было бы совершенно неверно
утверждать, что богословские основы храмостроения являются в нашей науке некоей
«терра инкогнита». Этой темы так или иначе касались и зарубежные византологи –
А. Грабар, О. Вульф, Е. Смит и др., и наши отечественные ученые – В.Н. Лазарев,
Г.К. Вагнер, А.И. Комеч, О.И. Подобедова и др. В то же время нельзя не
признать, что проблема остается, и совершенно законно сегодня вновь
актуализируется.
В названии
статьи стоит «О принципах изучения русской храмовой архитектуры».
Представляется, однако, что основные принципы на сегодня достаточно очевидны.
Главный из них – комплексное рассмотрение различных аспектов содержательности
храмовой архитектуры и анализ их совокупного влияния на архитектурную форму.
Второй принцип – признание в рамках данной темы ведущей роли сакрального
содержания, предопределяющего храмовую специфику. Но коль скоро речь идет о
комплексном рассмотрении, второй принцип требует своего дополнения третьим –
обязательным рассмотрением этого ведущего фактора наряду и в тесной связи с
другими, культурно-историческими факторами, также определяющими содержание
храмовой архитектуры, влияющими на архитектурное формообразование. И, наконец,
четвертый принцип – рассмотрение всех факторов в их исторической динамике.
Конечно, не только церковная догматика оставалась неизменной на протяжении
1000-летней истории российского христианства, но и литургическая практика за
это время менялась лишь в деталях, почти не отражавшихся в архитектуре. И, тем
не менее, происходило порой весьма заметное перемещение акцентов в понимании
значения того или иного явления церковной жизни, той или иной стороны
вероучения. Эволюция, происходившая как в результате имманентного церковного
развития, так и под воздействием меняющихся приоритетов светской культуры,
ощутимо сказывалась на архитектуре.
Сложность
представляется не столько в определении самих принципов, сколько в способах и
путях их применения.
Так, в
области исследования сакрального содержания едва ли не самыми популярными
сегодня являются изыскания в области символики, попытки открыть таинственный
смысл, зашифрованный в архитектурной форме и, якобы, позволяющий по-новому
увидеть ее содержание. На путь изучения символики толкают и общие представления
о культуре Средневековья, которая была, как считается, сплошь символична, и
конкретные тексты отцов Церкви – от Максима Исповедника до Симеона Солунского,
немало писавших о таинственном значении церкви, отдельных церковных пространств
и предметов.
Обращает на
себя внимание тот факт, что в их писаниях в большинстве случаев не
обнаруживается установления жестких соответствий по схеме «это есть то»,
наиболее характерных для символики. Характерно «Тайноводство» преп. Максима
Исповедника, который каждое из приводимых уподоблений предваряет словами: «на
первом уровне созерцания св. Церковь носит образ ...», «на втором уровне
созерцания св. Церковь есть образ ...», «на четвертом уровне созерцания св.
Церковь изображает ... », «на шестом» – одно «называется» другим, показывая тем
самым, что речь идет об уподоблениях, о разъясняющих суть дела образах, а не об
однозначных символах. Вполне можно, видимо, уяснить ситуацию только после
специального изучения проблемы аллегоризма в христианской культуре, проблемы
актуальной и заметно отличной от проблемы символизма.
Если же
обратиться к существу того, что в писаниях Отцов говорится о значении храма, то
становятся очевидными два факта. Во-первых, везде речь идет почти исключительно
о соотношении трех пространств храма – притвора, собственно храма и алтаря. Во-вторых,
раскрывается не только то, что они изображают, но и то, чем они являются. Храм является
святыней, а не изображает ее. Алтарь есть небо на земле, а не
символизирует его. Истолкований может быть много, но все они лишь
интерпретируют то, чем храм реально является. И это реальное содержание храма
раскрывается, выявляется в системе художественных образов. Преобладающую роль
образов, а не символов в средневековом православном храме подчеркивал Г.К.
Вагнер. На характерные черты образа храма, проистекающие из его богословского
осмысления и из связанных с последними нормами благочестия, указывали А.
Грабар, А.Ф. Лосев, А.И. Комеч и др. Но все эти указания носят весьма общий
характер и оставляют широкое поле для историко-архитектурных исследований. В
том числе вопросов о том, как структура и иерархия пространств выражают идею
храма как неба на земле; как тектоника и фактура выражают неотмирный характер
сакрального сооружения; как живопись раскрывает архитектурную идею храма.
Сказанное не
отвергает проблему символики как неуместную в данной теме, а только призывает
определить ее реальное место в проблеме. Представляется, что символы, наряду с
другими выразительными средствами, вплетались в структуру образа, подчинялись
ему, а не наоборот. Лев или грифон могли быть, например, символом Христа, но
эти символы лишь способствовали пониманию образа неба на земле, участвовали в
его формировании.
Рассматривая
храм как образ неба, исследователи часто склонны видеть в нем и образ мира. К
этой идее, полагаю, надо подходить с большой осторожностью, во всяком случае,
когда речь идет о православном храме. Из некоторых текстов можно, кажется,
заключить, что храм с давних времен понимался, как образ мира. Св. Максим
Исповедник прямо пишет, что на втором уровне созерцания «св. Церковь есть образ
мира». Оказывается, однако, что имеется в виду лишь одна идея: горний мир
соединен с дольним, различаясь, но не разделяясь с ним, так же, как в
архитектурной постройке алтарь соединен с храмом. Дольний мир присутствует,
изображается в храме лишь постольку, поскольку он предопределен мистической
связью с миром умопостигаемым. Здесь принципиальное отличие от космогонических
образов и даже моделей в ряде языческих построек, поскольку структура последних
материально изобразительна, а с духовной областью связана на основе чуждых
христианству идей магизма. Эго следует, видимо, учитывать, говоря о храме как
об образе мира.
Выше
указывалось на связь образа храма с богословием. Не менее существенно изучение этой
связи с литургикой – с характером происходящих или происходивших в нем
богослужений. Литургические изыскания давно проводятся в связи с проблемами
храмовой архитектуры, многое объясняя в последней. Здесь – и вопросы устройства
жертвенника в алтаре, и проблема иконостаса. Одна из последних работ этого
направления – изыскание А. Баталова .о чине погребения плащаницы в связи с
годуновской идеей создания храма «Святая Святых». Хотелось бы обратить внимание
на другой аспект проблемы – как литургика предопределяет поведение человека в
храме и, соответственно, его восприятие. Нередко, например, при композиционном
анализе рассматривается смена картин при движении в интерьере храма. При этом
забывается, что подобное движение предусмотрено чипопоследованиями весьма не
часто, в строго определенном, содержательно связанном со службой направлении.
Уместно вспомнить наблюдение Вульфа, что вошедший в византийский (это легко
экстраполируется и на древнерусский. – А.Щ.) храм, сделав несколько шагов,
останавливается, не будучи побуждаем чем-либо к реальному движению. Лишь
взгляд, прослеживает бесконечное переплетение криволинейных форм и
поверхностей. Переход к созерцанию есть, по Вульфу, существеннейший момент
византийского пути к познанию.
Сказанное
выше касалось сакрального, причем православного, содержания храмовой
архитектуры.
Но, как
известно, оно находится в теснейшем взаимодействии с другими содержательно
важными аспектами архитектурного произведения. Ряд этих аспектов, связанных с
влияниями привнесенной в культуру стилистики с политическими амбициями
заказчиков и политическим мирочувствием художников и т.д., успешно изучаются, и
в таком изучении уже немалая традиция.
В других
аспектах вопроса много еще неизученного или малодостоверного. К таким аспектам
я бы отнес то, что касается проблем языческого влияния на храмовую архитектуру.
Явление так называемого двоеверия достаточно известно, но его конкретные
проявления в культуре, в частности – в архитектуре, изучены крайне слабо, а
суждения в этой области нередко, хотя, конечно, не всегда, априорны. Идеи
живучести, влиятельности языческих традиций с середины прошлого века
искусственно педалировались как альтернатива теории византийского влияния на
русскую культуру, поскольку с Византией ассоциировались монархизм, государственная
религия, противостояние прогрессу в западническом его понимании. Думается, что
есть основания согласиться с Г.К. Вагнером, что в ряде случаев, когда в
храмовой архитектуре встречаются сюжеты языческого происхождения (во
владимиро-суздальской, например), правильней говорить не о влиянии, а о
сознательном использовании этого наследия для выражения идей (примерно так, как
античная философия была использована богословием).
Совсем почти
не уделяется внимания синтетичности или синкретичности содержания русской
храмовой архитектуры Нового времени, особенно – классицизма. Здесь
исследователи заняты главным образом проблемами стилистики и формальным
композиционным анализом, оставляя в стороне вопросы, связанные с осмыслением
сакрального содержания храмовой архитектуры этого времени. Не говорится о
взаимодействии традиционных церковных представлений о храме и привносимых
светско-дворцовых и даже ордерно-языческих образов. О том, как при этом
получает или не получает воплощения образ горнего мира. Об изменившихся формах
синтеза искусств и соотнесенности нового синтеза с идеей храма. Стоит задаться
этими вопросами, как начинают складываться определенные ответы. Но
сколько-нибудь достоверный результат потребует, конечно, специальных изысканий.
Сказанное
подводит нас к последнему из заявленных принципов исследования, к вопросу об
учете динамики как в самом культовом содержании храмовой архитектуры, так и в
его взаимодействии с другими содержательными составляющими, со светской
культурой. Что касается самого культового содержания, здесь, как уже сказано,
не было изменений догматического характера, но происходила определенная
трансформация литургической практики, представлений об относительной значимости
ее отдельных компонентов. Как это оказывалось связанным с архитектурой, вопрос
почти полностью неизученный. Укажу лишь на известный феномен возникновения
высоких иконостасов. Распространена версия, согласно которой иконостас стал
развиваться в деревянных храмах, компенсируя отсутствие стенописи, а затем
многоярусные преграды «перекочевали» в каменные церкви. (Такой версии
придерживается, например, Н.Ф. Гуляницкий, давший в одной из своих последних
статей обстоятельный анализ изменений храмового интерьера, вызванных появлением
высокого иконостаса.). Необходимость компенсации отсутствия стенописи –
несомненно, важная причина развития многоярусного иконостаса. Можно вспомнить,
что и в каменной архитектуре он появился прежде всего во Пскове, где стены не
расписывались. Но вряд ли одной этой причиной можно объяснить победное шествие
высокого иконостаса по всем регионам, в храмах, обильно покрытых стенописью.
Видимо, надо искать еще одну причину, лежащую в области содержательной
интерпретации храмового пространства. Как минимум, можно указать на давнюю
православную тенденцию все большего выделения, выявления сакрального значения
алтаря. Уже в византийской архитектуре появился сначала темплон, затем
одноярусный иконостас, наименование царских дверей было перенесено с дверей
храма на центральные врата иконостаса. Многоярусный иконостас оказался, таким
образом, логическим завершением исподволь происходившего процесса. Но что-то,
видимо, подтолкнуло именно на русской почве и именно в XV (или в конце XIV) столетии к этому логичному, но
качественно новому решению.
Наиболее
сложные и весьма интересные проблемы изменяющихся отношений собственно
церковного и внецерковного содержания храмовой архитектуры породил классицизм и
следующие за ним стилистические направления.
В качестве пока
что гипотезы могу предположить, что в этот период происходит расслоение
содержания храмовой архитектуры. Сакральный смысл пространств как бы перестает
нуждаться в последовательном выражении в архитектурных образах. Достаточно
того, что иконостас отмечает место алтаря. Купол, переставший быть
исключительной принадлежностью храмового сооружения, уже мало напоминает о
небе, его кессонированная поверхность в лучшем случае адресует к Пантеону, к
надконфессиональной идее храма. В начале XIX века это могло бы трактоваться как
проявление модного течения «внутреннего христианства», если бы традиция
подобных архитектурных решений не восходила к Ренессансу и французской
классицистической архитектуре. Замечу, что происходящее содержательное
расслоение оказалось весьма стойким. Во второй половине XIX в. в период возрождения ряда древних
церковных традиций и одновременно попыток возрождения русской стилистики в
архитектуре, оба этих течения оказываются разобщенными друг от друга, а
подвижники благочестия этого времени не были озабочены восстановлением прежней
связи художественной формы и сакрального содержания в церковном искусстве и
архитектуре.
Происходящая
автономизация формы и содержания вполне укладывается в русло диффе-ренционных
процессов в культуре Нового времени и как бы дополнительно иллюстрирует их. Но
есть наблюдения и обратного свойства (о которых не приходится сейчас говорить –
это отдельная тема), иллюстрирующие жизненность интеграционных начал в храмовой
архитектуре, связывающих различные аспекты содержания, содержание и
художественную форму.
Изложенное
позволяет, думается, утверждать, что по возможности последовательная реализация
в исследованиях тех принципов, о которых сказано в начале статьи, насущно
необходима не только для изучения русской храмовой архитектуры, но и
архитектуры вообще, и культуры в целом.
3.1.2.16.
Щенков А.С. Проблемы традиционной формы в современном храмостроении России
(Храмостроительство в России. Традиции и современность. – М.: РААСН,
1996, с. 19–24.)
Один из
сложных и злободневных вопросов современной архитектурной практики состоит в
том, почему возрождающееся православное храмостроение отдает решительное
предпочтение формам далеких исторических прототипов, тогда как во все эпохи
храмы строились в архитектурных нормах своего времени.
Представляется,
что архитектурная форма православного храма обусловлена совместным воздействием
трех факторов: сакрального, исторического и бытового. Сакральный фактор
предопределяет стремление выразить в художественном образе храма происходящее в
нем соединение земного и небесного. (Храм осознается как небо на земле и как
дворец Царя Небесного.) Разные исторические эпохи находили различное
архитектурное выражение этой основной идее. Следует вспомнить
дематериализованно легкие аркады ранневизантийских храмов и грандиозное
подкупольное пространство главного из них – Софии Константинопольской. Наряду с
этим можно вспомнить менее крупные и далекие от такой дематериализации церкви
средневизантийского периода, небольшие и массивные новгородские, псковские, раннемосковские
храмы, а также богатые узорочьем русские храмы XVII в. Налицо весьма заметные различия
архитектурных средств и архитектурного образа, но в разные периоды
прослеживаются некие общие принципы архитектурной организации храма.
Всегда
господствует стремление создать внутри храма образ горнего мира. Было бы
слишком долго рассказывать о том, какими средствами это достигалось и как
различные эпохи выбирали из этих средств то, что было наиболее созвучно
культурным нормам их времени. Практически всегда в храме присутствует в том или
ином виде купольная форма – образ мистического неба (даже на почти плоских
потолках деревянных храмов пишется композиция, которая так и называется –
«небо»), С тем же постоянством земная материальность строительного материала
художественно преобразовывается, как бы пропитывается нематериальной сущностью.
Чаще всего это не иллюзорная дематериализация, а именно наполнение материала,
соединение его с чем-то неземным. (Совершенно очевидно, например, что фрески не
уничтожают массивности стен и столбов, но эта массивность становится лишь
подосновой для целого мира неразрывно соединившихся со стенами образов святых,
евангельских сцен и т.д.).
Весьма
распространена иерархическая дифференцированность пространств с соответствующей
дифференциацией их освещенности, сюжетов росписи и т.д. (И все это
перекликается со строем «Небесной иерархии» известных «Ареопагитик»), Различные
по высоте пространства завершаются и соединяются друг с другом сложной системой
куполов, сводов, арок – круглящихся, вздымающихся, перетекающих друг в друга
форм, создающих впечатление «неподвижного движения», движения, по преимуществу
восходящего. Если учесть, что круг, «неподвижное движение» в тех же
«Ареопагитиках» непосредственно связаны с идеей Божества, то становится
очевидной роль соответствующих архитектурных форм в создании образа горнего
мира.
Существенно
заметить, что получается объективизированный образ, образ, который может стать
объектом созерцания и предметом молитвенного соприкосновения; при этом не выражается
художественными средствами человеческая рефлексия, не изображается
психологический, эмоциональный порыв человеческой души (различия двух подходов
к формированию храмового образа зафиксировал А.Ф. Лосев, сопоставляя
художественный строй византийского и готического храма).
Сакральный
фактор, важнейший из тех, о которых мы сейчас говорим, обрисовывает достаточно
определенные рамки, в которые должен вписываться создаваемый архитектурный
образ храма, но он оставляет весьма обширное поле для поиска художественных
средств храмостроения. Это поле заметно сужается, если мы учтем «исторический
фактор». Этот фактор связан с тем, что средства архитектурного
воплощения сакральной идеи вынашивались в течение долгих исторических периодов.
К репродуцированию и распространению принималось то, что одобрялось
коллективным церковным сознанием, проходило проверку временем. Подобный подход,
с одной стороны, связан со свойствами так называемого канонического искусства,
с другой – оказывается проявлением христианской ориентации на соборное
сознание, выделяющее и охраняющее те начала жизни и искусства, которые
максимально отвечают опыту и сознанию Церкви. Каждая творческая инициатива,
опирающаяся на духовный и иной опыт отдельного художника, должна пройти
проверку этим соборным, каноническим сознанием. Соборное сознание может принять
достаточно решительные новации, но на их «проверку» всегда требуется время.
Поэтому в качестве первоочередного критерия выступает канон, исторический
прецедент. Отсюда – такая тяга в церковном искусстве к историческим,
традиционным архитектурным формам. (Первоочередной критерий – не окончательный.
Может выявиться, что во внешне каноническом решении не все устраивает. Тогда в
храме появляются некоторые переделки, а содержащиеся в нем новации если и используются
для повторного применения, то с определенным отбором).
Конечно,
степень соборности, церковности общественного сознания менялась, а в самом
церковном сознании происходили сдвиги, отвечающие изменению общекультурной
ситуации. Следствием этого становились заметные изменения и в архитектурном
формообразовании. Но стремление к сохранению сакрального содержания храмовой
архитектуры всегда заставляло во многом держаться канона, как он виделся в ту
или иную эпоху. Отсюда – историческая преемственность, эволюционность развития
архитектуры храма во все периоды, кроме тех, которые программно порывали с
прошлым (но и там канон не умирал, только резко сокращалось контролируемое им
содержательное пространство). После периодов разрыва в эволюции храмовому формообразованию
приходилось возвращаться к прошлому, чтобы связать распавшиеся нити
преемственности. Хотя очевидно, что невозможно забыть и новый опыт, при любом
возврате воссоздаваемая линия развития несет уже печать и времени воссоздания.
Исторический
фактор имеет еще один важный аспект. Сакральное содержание храма по сути своей
вневременно и экстерриториально. Однако мы могли уже заметить, что вневременное
реализовывалось в исторических формах. С той же степенью определенности можно
сказать, что экстерриториальное выражалось в формах, национально или
государственно локализованных. (Некоторая парадоксальность такого утверждения
вполне согласуется с ан-тиномичностью, диалектичностью христианского
богословия). Вполне очевидное своеобразие грузинской, болгарской, русской
архитектуры не мешает им быть ветвями единого архитектурного древа. Поддержание
национального или регионального своеобразия храмовой архитектуры, закрепление в
ней исторической памяти народа не противоречит идее вселенского единства
Церкви. Поэтому вполне законным с церковной точки зрения оказывается стремление
сохранить, репродуцировать определенные черты архитектуры, указывающие на ее
национальную принадлежность, на специфику исторического пути той или иной
поместной Церкви. И это также актуализирует применение исторических,
традиционных храмовых форм.
Наконец,
несколько слов о бытовом факторе, который можно рассматривать как своеобразную
версию исторического. Речь идет об области привычного, о том, что рядовой
прихожанин считает нормой для православного храма, к чему он привык в церковных
постройках своего города, в конкретной церкви. Область привычного не вполне
совпадает с той, что очерчивается каноном. Бытовые представления охраняют
канон, но в то же время могут требовать необязательного и не замечать важных
отступлений от начертанного авторитетными образцами. (В области архитектуры
бытовое сознание очень внимательно к повторению привычной иконографии –
основных типов форм, отдельных запоминающихся архитектурных мотивов и легко
мирится с аппликационным, неорганичным способом введения этих мотивов). При
определенных его слабостях, с бытовым фактором нельзя не считаться. Нельзя
строить храм с убеждением, что прихожанин привыкнет, по принципу «стерпится –
слюбится». Ведь он должен будет здесь молиться уже завтра, послезавтра, и
нельзя привносить то, что будет его смущать, мешать молитве. Это, как правило,
хорошо понимает заказчик и требует соответствующих решений от архитектора.
Весьма характерен пример реставрации московского Успенского собора в предреволюционные
годы, когда реставрационная комиссия отказалась от мысли снять ризы, чтобы
открыть живопись икон местного ряда иконостаса, поскольку народ привык к тому,
что чтимые образа облечены в ризы. Постановили сделать съемный оклад у одного
образа – Спаса, чтобы снимать его по праздникам и тем постепенно приучать
богомольцев к виду икон без риз.
Все сказанное
приводит к убеждению, что обращение при храмостроении к историческим формам
сегодня совершенно закономерно и неизбежно. Это не значит, что наше время
обречено на несвоеобразную храмовую архитектуру – современный почерк неизбежно
скажется в любой постройке. Это не означает также остановки творчества,
обреченного лишь школярски копировать исторические образцы. Восстановив
какие-то нити прерванной традиции, войдя в сферу характерных церковных
критериев оценки художественной формы, храмовая архитектура откроет для себя,
возможно, совершенно новые горизонты. Сегодня же можно только на основании
изучения исторического опыта стараться уяснить для себя упомянутые критерии
оценки и отчасти же стремиться избежать явного отступления от них, и на этом
пути искать решения сложных творческих задач храмостроения.
3.1.2.17.
Щенков А.С. Проблемы иконографии храма
(Об иконографии и тектонике православного храма. – М., 1996, с. 9–21.)
Православный
храм прошел длительный путь развития. Постепенно отыскивались те средства
художественной выразительности, которые позволяли создать образ, раскрывающий
сакральное содержание храма. Пути поиска отвечали особенностям религиозного
мышления и мирочувствования двух крупных областей христианского мира –
восточной и западной. При общности вероучительных основ, уже в первом
тысячелетии христианской истории сказывались особенности пути этих двух ветвей
христианской культуры. Поскольку наша задача – в исследовании архитектуры
восточной ветви, мы сосредоточим свое внимание на ее характерных чертах,
привлекая западный материал главным образом для того, чтобы на сопоставлении
оттенить специфику восточной архитектурной традиции.
Необходимый
нам краткий исторический очерк следует начать с раннехристианского периода.
Раннехристианский храм окончательно сформировался как особый тип сооружений в IV в., во время активного церковного
строительства, последовавшего за Миланским эдиктом (313). Вскоре было запрещено
совершение литургии по домам, и литургия отделилась от агапы (постановление
Лаодикийского Собора, ок. 360 г.). Но и раньше церкви, как специальное
помещение для совершения таинств, были достаточно распространены. С самого
начала появления специальных храмовых помещений они осознавались как место
особого присутствия Бога. В конце IV в. святитель Иоанн Златоуст говорил, что уже в
преддверии храма тишина переносит тебя с земли на небо, а в самом храме
«составляется общее торжество небесных и земных существ».
В
раннехристианский период особенности западной и восточной традиции
храмострои-тельства не выявлялись еще с достаточной очевидностью. Одним из
господствующих типов храма была базилика, распространенная в западных областях
Римской империи, но одновременно популярная и на Востоке. Следует вспомнить
сирийские базилики (Брад, Турманин, Калат-Семан и др.), базилики Иерусалима и
Вифлеема, первоначальный храм Св. Софии в Константинополе.
В тот же
период стали появляться, сначала на Востоке, потом на Западе круглые храмы.
Среди наиболее важных надо назвать ротонду, соединенную с базиликой Вифлеема
(1-я треть IV в.), и примерно того же времени Святогор-скую (храма Воскресения) ротонду
в Иерусалиме (изображенную вместе с вифлеемской на мозаике в Санта Пуденциана в
Риме – кон. IV в.). На Западе первый круглый храм – Сан Стефано Ротондо (468 – 483).
Ротонда Иерусалимского храма преемственно использовала круглую форму римских
мавзолеев и по-своему развивала тему погребения. С темой погребения и с
Иерусалимским храмом следует, видимо, связывать архитектуру и других круглых
храмов того времени. По сравнению с базиликой круглый храм получил значительно
меньшее распространение.
Раннехристианская
базилика характеризовалась однонаправленным развитием своей композиции от
нартекса к алтарю. Кульминационным пунктом была алтарная абсида, архитектурная
организация которой должна была свидетельствовать о небесном содержании этого
места. О небе напоминала сферического очертания конха с золотофонными или
голубыми мозаиками. Ее полукупол, открытый в сторону наоса, был образом горнего
мира, открытого, отверстого общине верующих.
Следующий
интересующий нас период – ранневизантийская архитектура. В ранневизан-тийском
храме появляется тенденция дополнить вектор запад – восток, заданный движением
к абсиде, вектором низ – верх. В церкви Алахан-монастир (2-я пол. V в.) пространство среднего нефа перед
абсидой открывается вверх с помощью восьмигранного деревянного шатра. Развитием
этого типа становятся купольные базилики. Появление шатровой или купольной
формы может быть отчасти объяснено влиянием храма Воскресения в Иерусалиме. Но
место шатра или купола в базилике совсем иное, нежели в Иерусалимском храме, а
это значит, что для появления купольных базилик, как устоявшегося типа храмов,
требовались и другие основания. Распространенное среди исследователей (Г.
Шульц, Р. Краутхей-мер, А. Комеч) мнение, что выделение среднего пространства
храма было связано с превращением Великого входа в особо торжественный момент
литургии, вряд ли выявляет главную причину изменений. В литургическом чине Вход
– важный, но кратковременный и не самый главный момент. И что особенно
существенно, в Великом входе, как видно из источников VI–VII вв., внимание сосредотачивалось на
исторических переживаниях, связывавшихся с выносившимися священными сосудами.
Это не подталкивало к созданию высокого подкупольного пространства.
Следует,
видимо, искать другое объяснение появлению в базилике купола. Купол – это,
конечно, образ неба (семантика, восходящая еще к римскому Пантеону, о сходстве
купола которого с небесным сводом писал в нач. III в. Дион Кассий). Сирийский источник VI в. уподоблял храм Софии в Эфессе
мирозданию, а купол – небу. Помещаясь вблизи конхи абсиды, ранневизантийский купол
как бы соединяется с ней в единую оболочку, в единый образ горнего мира. (Это
не только в купольных базиликах, но и в менее распространенных центрических
сооружениях типа Сан-Витале.) К этому времени складывается понимание самого
храма как неба на земле. В середине IX в. Патриарх Фотий назвал один из константинопольских
храмов «другим небом». Но это понимание храма не было лишено характерной для
православного мышления антиномичности. Отцы Церкви фиксировали принадлежность
храма и всех его элементов одновременно «и к миру "сверхбытия" и к
земному "бытованию"». (Эту антиномию можно объяснять и комментировать
по-разному. Вот, пожалуй, одно из самых простых объяснений. Храм – небо,
поскольку здесь совершаются небесные таинства. Но он остается принадлежностью
земли, коль скоро люди входят сюда со своими слабостями и заботами, от которых
они не в силах полностью отрешиться). В IX же веке в ряде текстов развертываются
параллели между храмом и царским дворцом, церковь рассматривается как «новый
дворец Царя славы». Это отдельная и важная для Византии архитектурная тема,
отчасти связывающая образ храма со светскими дворцовыми постройками. И здесь мы
снова сталкиваемся с антиномическим мышлением: храм-дворец может пониматься и
как земные покои небесного Царя, и как небесные покои, достигшие земли.
Осознание
особой, небесной природы храма проявлялось самым различным образом. Вход в храм
требовал специальных молитв, в константинопольской Святой Софии утреня
начиналась в притворе (нартексе), откуда потом духовенство и народ входили в
наос, а духовенство через какое-то время – в алтарь. Это были ступени
восхождения к горнему. Новгородский архиепископ Антоний, побывавший в
Константинополе в XII в., описывая этот чин утрени, указывает, что двери в храм назывались
царскими, а в алтарь – райскими.
Может
возникнуть вопрос: если храм – это уже небо, а алтарь – то, что можно назвать
«небом небесе», зачем тогда создавать еще образ неба над молящимися? Христианин
знает, что сейчас он только прикасается области небесного, глубина же горнего
мира многослойна, до конца не постижима, может открыться ему в этой или будущей
жизни лишь в меру достижения святости (апостол Павел был восхищен «до третьего
небесе» (2 Кор. 12.2), а автор VI в. сирийский поэт Балаи, свидетельствовал: «Твое небо
слишком высоко, чтобы мы могли достичь его. Но здесь, в церкви, Ты Сам, столь
близкий, приходишь к нам»). Об этом-то горнем мире и напоминает свод церковного
купола. В реальном храмовом пространстве мысль молящегося устремляется
одновременно и вперед, к алтарю, и вверх, к горнему миру.
И однако от
этого в нем не происходит никакого внутреннего раздвоения, поскольку
православному мышлению присуща определенная парадоксальность и диалектичность,
та ан-тиномичность, о которой уже упоминалось. Как скажет позже св. Григорий
Палама (XIV в.), «всякому богословию, желающему соблюдать благочестие, свойственно
утверждать то одно, то другое, если оба утверждения истинны.
Византийский
храм был не только образом неба на земле, но и образом соединения неба и земли.
Одной из иллюстраций этого служит тот факт, что в конхе, а иногда – в куполе в
доиконоборческую эпоху изображалось Вознесение, т.е. момент, когда воспринятая
Богом человеческая плоть возносится в глубины горнего мира.
Уподобление
храма небу вызвало, поскольку горний мир центричен, стремление к созданию
центричной, уравновешенной композиции. Это сказалось в укорачивании базилик, а
затем, в средневизантийский период – в формировании крестово-купольной схемы и
типа храма с куполом на восьми опорах. Иерархическое устроение горнего мира
(см.: «О небесной иерархии» св. Дионисия Ареопагита) получило отражение в
иерархичности и преемственной взаимосвязи храмовых пространств, все более
замкнутых, все менее освещенных по мере удаления от купола. Существенно, что с
позиции человека, находящегося в храме, цепочка развертывается в обратном
направлении – все больше света и пространства по мере движения к центру и
вверх. Движение кверху подчеркивается ступенчатым вздыманием арок и сводов,
которые, воспринимаясь в ракурсах, пересекались, перетекали друг в друга,
сохраняя иерархический принцип своей взаимосвязи. Как заметил О. Вульф, а вслед
за ним А.И. Комеч, вошедший в византийский храм, «сделав несколько шагов,
останавливается, не будучи чем-либо побуждаем к реальному движению. Лишь взгляд
прослеживает бесконечное перетекание криволинейных форм и поверхностей, идущее
по вертикали (направление, недоступное реальному движению). Переход к
созерцанию есть существеннейший момент византийского пути к познанию».
Перетекание форм столь мягко и уравновешено, что не приходится говорить о
динамичности композиции. Уместен, наряду с образами восхождения, образ
«балдахина», спускающегося сверху и осеняющего храм (образ, связанный с
пространственно-тектоническими схемами Г. Зедльмайра). Соединение в композиции
движения и неподвижности вполне отвечает идеям и лексике богословия: «О
Премудрости же, что она создает себе дом... говорится... что промыслом
совершенным является бытию, и благому бытию всего причина, и на все
распространяется, и во всем оказывается и все объемлет... оставаясь сама по
себе и покоясь вечно и двигаясь, и ни покоясь, ни двигаясь, но, если так можно
сказать, про-мыслительные действия в неподвижности и неподвижность в промысле
неразрывно и совершенно имея.» (Послание Титу-иерарху св. Дионисия Ареопагита.)
При этом следует отметить закрепленную в богословии связь темы круга с образами
божественного. Так, круговое движение души, по тому же Дионисию Ареопагиту,
соединяет ее «с уникально соединенными силами в их стремлении к Единому и
Торжественному – Самому Себе». Круг в иконе «Софии, Премудрости Божьей»
отмечает, как указывает Прохоров, «запредельность» охваченной кругом фигуры
Софии.
Образы
небесного сосредотачиваются, главным образом, в верхней зоне храма, там, где в куполах,
парусах, на сводах (на круглящихся поверхностях) размещены иконные изображения,
раскрывающие тему неба и небесной иерархии. Нижняя же зона только в алтарной
преграде могла иметь иконные изображения, в остальном же господствовали
различные облицовки, мраморные инкрустации, т.е. темы, возможные и в светской
архитектуре. Знаменательно, однако, появление именно в средневизантийский
период икон в алтарной преграде. В архитектуре развиваются две содержательные
темы, которые условно можно назвать «созерцание» и «предстояние». Образ горнего
мира, запечатленный в храме – предмет созерцания; обращенность молящихся к
алтарю (подчеркнутая алтарной преградой с иконами, мозаикой в абсиде) –
реализация предстояния. Каждая тема имеет зону своего преимущественного распространения
и свой главный вектор. Созерцание обращено к верхним зонам храма, предстояние
разворачивается в горизонтальной плоскости и обращено к алтарю. То, что было
сказано в связи с ранневизантийской архитектурой о двух векторах, сейчас можно
повторить применительно к двум сформировавшимся темам: они не противоречат друг
другу, органически сливаются содержательно, взаимно проникают архитектурно.
Нисходящая сюжетная стенопись срастается с поднимающимися «дворцовыми» темами
ордера и облицовок, живопись абсиды относится в равной мере к обеим темам,
горизонтальными линиями притяжения пронизан не только нижний ярус, но и уровень
хор.
Здесь уместно
вспомнить, что, по критериям анализа Пауля Франкля, византийская архитектура
стилистически противоречива, поскольку в ней принцип «разделения» пространств
сочетается с принципом «сложения». Анализ заставляет его сделать вывод:
«Византийская архитектура – это мистическое соединение противоположностей; ее
основа – неспособность выбрать ни одной из полярностей». С этим нельзя не
согласиться с одной поправкой: речь идет не о «неспособности», а о
принципиальном отказе от выбора, о неприятии альтернатив формальной логики.
Заметим, что,
по мнению Франкля, противоречия формообразования в византийской архитектуре
компенсируются или прикрываются художественным эффектом, создаваемым мозаиками.
Соответствующий пассаж следует процитировать, хотя он связан не столько с темой
иконографии, сколько с проблемами тектоники. «Невыносимое соседство и смешение
«сложения» и «разделения» пространства образуют более высокий синтез благодаря
оптической бесплотности, уничтожающей резкие контрасты. Ибо куда зритель ни
взглянет, всюду он видит краски и слабые отражения, в нижней части – мерцающие
мраморные плиты и колонны, в верхней – сверкающие мозаики, сглаживающие резкие
грани, закрывающие своим узором плоскостные стены. Вместо материальной,
телесной толщи стен и столбов художественному восприятию представляется тонкая
поверхность, словно простертая в воздухе... перед глазами зрителя как будто одни
колеблющиеся на невидимых лесах ковры, которые при первом приближении к ним
взлетят как облака... создается впечатление, что стены не определяются силами,
заключенными в них; кажется, что они созданы живой трепетностью воздушной
атмосферы... целое становится вибрирующей средой, над которой возносятся, как
воздушные шары, высокие купола».
Франкль
прекрасно прочувствовал особенности отношения Византии к материалу храма, то,
как преодолевается вещественность ради передачи духовной наполненности
храмового пространства. Но было бы ошибкой предполагать, что результатом стала
зыбкая неопределенность «вибрирующей среды». Пространство сохраняло четкое
зонирование и иерархию.
В
средневизантийский период несколько меняется тематика настенной живописи:
наиболее распространенной темой для купола становится «Пантократор» вместо
«Вознесения». В.Н. Лазарев объясняет это уменьшившимися размерами куполов, куда
уже трудно вписать многофигурную композицию. Но стоит обратить внимание и на то
обстоятельство, что в результате тема восхождения на небо заменилась темой
самого неба, с которого взирает Вседержитель. Одновременно развилась сюжетная
живопись регистров, расположенных ниже купола. (По Лазареву, в барабан, паруса
и конху спустились фрагменты изначальной композиции Вознесения. Заметим, что
фигуры святых, обособившись от изображения евангельской, на земле происходившей
сцены, стали являть уже небесное бытие – небесную Церковь.)
В
византийских провинциях мы встречаем довольно заметные отличия в построении
интерьера церквей и его росписи по сравнению с ведущими типами храмов
метрополии. Крес-тово-купольный храм получает, чаще всего, вместо четырех
изящных колонн в центре массивные крещатые столбы (благодаря чему все
пространство организуется по единому принципу «сложения»). Так происходит в
Закавказье, на Балканах, на Руси. Получают распространение небольшие
бесстолпные храмы. В провинции и, в частности, на Балканах и на Руси получают
распространение фресковые росписи, покрывающие стены практически от пола до
купола. Снизу могла отделяться полоса написанных «полотенец» в рост человека
или ниже (в церкви Успения на Болотове, сер. XIV в., эта полоса чуть шире одного
метра). В других случаях роспись могла начинаться почти от пола (в Боянской
церкви в Болгарии, XIII в., цокольная часть составляет менее полуметра). Для темы дворца места
уже не оставалось, к молящимся приблизился мир святых. В образах стенописи,
разделенных на горизонтальные пояса-регистры, существовала тематическая
ранжировка, прослеживалась тема восхождения к горнему. Принцип расположения
сюжетов в схеме сводился к следующему. В нижнем регистре располагались фигуры
святых, выше – сцены земной жизни Спасителя, еще выше – изображения ключевых
для дела человеческого спасения евангельских событий. Наконец, в куполе помещался
лик Пантократора. В крестово-купольных храмах сложился еще один принцип
группировки тем: евангельские сцены заняли ветви креста – более важное, более
освещенное пространство, тесно связанное с куполом. В угловых компартиментах
писались лики святых. Тематика росписей подчеркивала иерархию пространств.
Формировалась все та же картина горнего мира, но только приблизившегося к
человеку. Дополнительное развитие получила и тема «предстояния» включением в
систему росписей сцены Благовещения. Благовещение – начало истории
человеческого спасения и в этом смысле – дверь в Царство небесное. Именно
поэтому это событие стало изображаться в виде двухчастной композиции по бокам
алтарной абсиды (а затем стало обязательной иконографической темой царских
врат), акцентируя значение алтаря, связывая его с регистром евангельских тем в
росписи. В указанном варианте внутреннего убранства, получившем затем развитие
на Руси, мы видим реализацию все тех же двух тем, сосуществование тех же
векторов, что и в храмах византийской метрополии средне- и поздневизантийского
периода. Только тема созерцания несколько активизировалась и тесней соединилась
с темой предстояния.
Разбирая
интерьер православного храма, мы дошли, наконец, до того типа его убранства,
который пришел на Русь. Теперь следует сказать несколько слов о внешнем виде
православной церкви. Эту тему мы начнем с ранневизантийского периода.
Распространено мнение, что в этот период внешнему виду храмов не уделялось
особого внимания. Отчасти, видимо, это действительно могло быть так. Сакральная
сфера была внутри храма, внешняя же оболочка принадлежала земному миру и потому
могла существенно не отличаться от окружающих зданий. Но все-таки дом Божий
должен был быть не просто домом. Действительно, в качестве наиболее
специфической черты этого типа зданий выделялись широкие и приземистые
купольные формы. На некоторых церквах найдены следы внешней облицовки,
придававшей сооружениям торжественность и парадность, отсутствующую в грузных
необлицованных массах.
В
средневизантийский период мы находим значительно большее внимание к внешнему
виду храмов. Специальное оформление получают окна, обыгрывается пластика стен.
Особое значение приобретают главы храмов. При меньшем, чем в ранневизантийский
период, диаметре купола в это время ставятся на более высокие барабаны. Это
было нужно для лучшего освещения центральной части храма, для усиления в
интерьере вертикального вектора композиции. Во внешнем же облике это позволяло
выделить главу, позволяло этому специфическому знаку храма не потеряться при уменьшившемся
размере купола. Но, конечно, купол не мог выполнять во внешнем облике храма
только функцию информации о типе сооружения. Он должен был свидетельствовать
все о той же основной идее – что здесь небо снисходит на землю. Причем,
византийская архитектура дает два типа такого свидетельства. В первом глава
снаружи сохраняет сферическую форму. При наиболее последовательном воплощении
этого типа полусфера главы опирается на аркаду оконных завершений барабана или,
лучше сказать, вырастает из них. Ниже тема подхватывается арками позакомарного
завершения стен, с востока выдвигаются округлые абсиды. То «неподвижное
движение арок и сводов, которое мы отмечали в интерьере, выступает и во внешнем
облике храма. Как бы от избытка переполняющей его силы, храм начинает излучать
свою энергию вовне. Чаще это круглящееся движение проявляется сдержанно, не во
всех возможных элементах постройки. В Мирелейон в Константинополе (X в.) сфера и аркада главы дополнены
только закомарами рукавов креста крестово-купольной системы, остальные покрытия
прямолинейные. В церкви Гюль-Джами (XII в.) круглятся все закомары и абсиды, но
сферический купол покоится на горизонтальном карнизе.
Второй тип
внешней организации византийского храма скрывает купол под коническим
покрытием, закомары – под двускатными и односкатными кровлями, абсидам придает
граненую форму или скрывает их за почти прямой стеной. Этот тип одновременно и
являет, и прячет особенности храмовой архитектуры. Являет постольку, поскольку
центром композиции по-прежнему остается глава, а под ней угадывается купол.
Прячет, поскольку характерные черты храма даны здесь в буквальном и переносном
смысле прикровенно. Этот тип тоже чаще всего реализуется «не по полной
программе». В церкви Богородицы в Салониках, например, конические покрытия
глав, но конус малых западных глав опирается на арки барабанов, ветви креста
имеют щипцовое покрытие, соседние прясла – односкатные, а вот хоры под
нартексом – позакомарные. Наиболее последовательно второй тип организации
фасадов реализовался в закавказской – грузинской и армянской – архитектуре. Там
все барабаны с коническим покрытием, все кровли скатные. Абсиды скрыты за
прямой стеной, и только узкие вертикальные ниши в восточной стене отмечают
трехчастную структуру алтаря. Арочная тема присутствует, впрочем, и здесь – но
уже в виде декоративных аркад стен и барабанов.
Оба указанных
типа осмысления наружного оформления храма находят себе параллель в
аскетической литературе, в рассуждениях о внешнем виде подвижника. О святых
говорится, что наружу и «сквозь тела проникает внутренний свет их» (цитата из
св. Иоанна Златоуста – IV в. – в наставлении преп. Каллиста и Игнатия – XIV в.). В то же время для окружающих
подвижник во многом непостижим: он «всех видит и обсуждает определительно
верно, сам не будучи ни от кого видим и обсуждаем верно, хотя у всех на виду
находится» (Каллист и Игнатий). Подвижнику полезно скрывать свои дарования:
«Будь во всем смирен – в осанке, в одежде... всячески постарайся достигнуть
того, чтобы люди не хвалили тебя» (преп. Антоний Великий – IV в.). В наружной архитектурной
организации храма мы видим в принципе созвучное аскетическим идеям
одновременное раскрытие и сокрывание его мистической силы и значения.
В русской
практике, как мы знаем, развивался главным образом первый тип храмов, с
активным выявлением круглящихся форм. С XVI в. появляется даже уширение в нижней
части покрытия куполов (например, после переделки завершений – в Успенском
соборе в Москве), положившее начало развитию так называемых луковичных глав.
Такое покрытие не просто способствовало заметности купола, оно как бы
демонстрировало его энергетическую, смысловую наполненность. И в то же время
обратная кривизна, переход покрытия вверху в шлемовидную форму препятствовали
впечатлению надутости или чрезмерной материальной тяжеловесности купола.
Особую (и
довольно сложную) проблему составляет понимание сути распространенного на
русской почве пятиглавия или вообще многоглавия. Толкование пятиглавия, как
символа Христа и четырех евангелистов, придется, видимо, отвергнуть. Прежде
всего потому, что такое объяснение весьма позднего происхождения. Первая его
фиксация – в истории Татищева, приписывавшего такую интерпретацию Патриарху
Никону и указывавшего, что старообрядцы восстают против многоглавия. Второе
возражение против указанной трактовки – содержательное. Уравнивание Спаса
Христа и учеников естественно в иконописи, изображающей человеческий облик
воплотившегося Бога и соразмерных ему людей. Но в отвлеченных символах,
каковыми выступают в рассматриваемой интерпретации церковные главы,
соразмерность и однотипность изображений Творца и творений вряд ли были
уместны.
Не дают
необходимого полного объяснения и чисто утилитарные версии происхождения
многоглавия, служившего, будто бы, главным образом, лучшему освещению храма или
хор. Подобная роль многоглавия объяснима в пятинефных соборах, вроде киевской и
новгородской Софии. В наиболее же распространенных трехнефных постройках
боковые компартименты, над которыми ставились малые главы, ограничивались
наружными стенами, где без труда можно было сделать окна. Кроме того, усиленное
освещение угловых компартиментов или же хоров привело бы к нарушению строго
выдерживавшейся иерархии в распределении света в интерьере. Наконец, в
византийской архитектуре встречаются примеры постановки боковых куполов без
барабанов, когда они вовсе не способствуют освещению интерьера (Гюль-Джами, XII в.).
Скорее
пятиглавие можно объяснить совместным действием нескольких причин. И одна из
них – чисто композиционная. При достаточно больших размерах храма и ограниченном
техническими возможностями строителей диаметре купола у храма получались
непропорционально широкие «плечи», за которыми скрывалась «глава». Многоглавие
исправляло такое положение дел. В этом, видимо, одна из причин многоглавия в
киевской Софии. Из-за этого же появлялись главы над нартексом в зоне, наиболее
удаленной от главного купола. Такое объяснение, впрочем, не всегда годится. В
церкви в Вира (в восточной Фракии, XII в.) диаметр купола больше длины рукавов
крестообразного главного пространства, а угловые компартименты понижены. В этой
ситуации боковые главы мало что добавляют к силуэту храма. И тем не менее
церковь пятиглавая. В церкви же Гюль-Джами, как мы уже упоминали, боковые
купола поставлены без барабанов и в силу этого тоже мало влияют на силуэтное
решение. Наиболее важной представляется другая причина появления пятиглавия:
стремление отразить многослойность, иерархичность горнего мира (решив попутно
какие-то композиционные или технические задачи). Эта многослойность получает
при пятиглавии определенное выражение в интерьере храма и, более отчетливо, в
его внешнем виде. Реализуется композиционная идея единства подобных друг другу
элементов, находящая свою опору в богословии. Богословская мысль утверждает,
что единство, подобие преодолевает всякое разделение везде, где господствует
небесная благодать (разделение есть плод грехопадения). В Церкви «все получают
единую природу, неспособную к разделению – природу, которая позволяет более не
считаться с многочисленными и глубокими различиями между людьми».
Множественность личностей образует при этом (по Леонтию Византийскому – VI в.) «воипостазированную природу». При
таком значении идеи общей природы трудно даже сказать, что многогла-вие
демонстрирует в большей степени – иерархию горнего мира или же его единство.
Добавим, что с учетом глав над нартексом их общее число не лимитируется цифрой
пять. Получались храмы трех-, пяти-, шести-, семи-, тринадцатиглавые (на Руси).
Числовая символика могла быть здесь разной или отсутствовать вообще, а указанные
нами идеи иерархичности и единства прослеживаются в равной мере везде.
Эти
заключенные в многоглавии идеи не относятся к числу главных в храмоздании.
Пя-тиглавие не привилось в Закавказье, спорадически появлялось в храмах
византийской метрополии и на Балканах. После первых многоглавых храмах на Руси
(Преображенский собор в Чернигове, Софийские соборы в Киеве и Новгороде и
немногие другие) пятигла-вие появляется в перестроенном Успенском соборе во
Владимире, а затем уже только в Москве в XV в. в особой функции повторения
исторического образца. В Успенском соборе Владимира пятиглавие по-своему
уникально: это единственный многоглавый храм в княжестве, да и во всей русской
архитектуре последней трети XII в. Видимо, его появление должно было исправить
диспропорцию между размерами главы и шириной корпуса, появившуюся после
всеволодовской обстройки первоначального храма. Образцом же могли служить
многоглавые храмы Киева, сохранявшего авторитет великокняжеской столицы (по
предположению Г. Павлуц-кого, образцом могла быть Десятинная церковь).
Весьма
существенной чертой внешнего облика православных храмов рассматриваемых
периодов является их центричность. Она присутствует уже в купольных базиликах
ранневи-зантийского периода и позже на Балканах, с особой четкостью прорисовывается
в крестово-купольных постройках и в храмах с куполом на восьми опорах. Эта
центричность отражает, безусловно, центричность горнего мира, органически
связывается с центричностью построения интерьера.
Характерность
этой черты явственно проступает при сопоставлении восточной и западной
христианских традиций. В западном мире с раннехристианских времен сохраняется
преобладание базиликального храма. В каролингскую эпоху ненадолго появляется
центрический тип церкви с экседрами, примыкающими с четырех сторон к квадрату
храма, и с башней на колоннах посреди его (Жерминьи-де-Пре, 805 г.). Затем
появляются базилики с поперечным нефом и башней над средокрестием. В 1920-е гг.
дискутировался вопрос о том, получилась ли романская базилика за счет удлинения
центричного каролингского сооружения или путем прибавления трансепта и
развитого хора к базилике раннехристианской. Интереснее, видимо, вопрос о
происхождении центрического каролингского храма. Г.А. Саркисиан отмечал наличие
в нем восточных черт. Думается, что нельзя исключать византийское влияние
(определенное взаимовлияние восточной и западной культур происходило
постоянно). В этот период, как известно, в Западную Европу устремилось
множество греческих художников, спасавшихся от гонений со стороны иконоборцев.
С их появлением связаны многие фресковые и мозаичные работы, отчасти они могли
повлиять и на формирование структуры храма. Конечно, отчасти, поскольку
высокая, квадратная в плане башня, увенчанная деревянным шатром, не могла нести
ту же смысловую нагрузку, что и византийский купол. Это тоже был вертикальный
вектор, напоминающий о горнем мире. Но именно напоминающий, указывающий; здесь
скорее наставление, чем приглашение к созерцанию. Подход, созвучный отношению
западного христианства к иконе. (Для западного человека икона ценна не столько
мистической связью с изображенным первообразом, а сколько как поучительная
наглядная иллюстрация определенной духовной идеи или события. Характерно, что
Карл Великий запретил почитание икон, разрешив их только как украшение храмов –Libri Carolini, франкфуртский собор 794 г.) Тот же
смысл поучения или призыва получает башня над средокрестием в романских храмах,
хотя в некоторых из них в высоте башенного пространства и делали маленький
купол, слабое напоминание о небосводе.
В наружном
виде башня с шатровым верхом тоже была не образом неба, а напоминанием, знаком
тяги к небесному. Весьма существенно, что в романской архитектуре башня над
средокрестием чаще всего дополняется одной или двумя башнями у входа в храм.
Вместо центричности складывалась двухцентрость. Церковь обретала образ корабля,
«корабля спасения», с несколькими мачтами (не случайно нефы храма по-немецки
так и именуются – кораблями). Построение храма основывается при этом на
оппозициях: средокрестие и вход, правая и левая башни входной части. Это вполне
отвечает схоластическому мышлению западного Средневековья, основанному на
формальной логике и стремящемуся к соединению «естественного опыта с
чувственными образами трансцендентных вещей». Характерно, что западное богословие
стремится и троичность Божества осмыслить через оппозиционные пары, по Фоме
Аквинскому – противопоставления. В то время как православное подчеркивает
важность преодоления оппозиций. «Двоица преодолевается, ибо Божество превыше
всякого противопоставления. Совершенство достигается в Троице, которая первой
преодолевает двоичность» (св. Григорий Богослов, слово 23).
В свете
сказанного интересно проследить, как избегали темы парных башен на Руси. «Дежи»
киевской Софии невысоки и нарочито асимметричны, та же асимметрия в Софии
Новгородской, в соборах Антониева и Юрьева монастыря. В Спасском соборе
Чернигова вторая башня нартекса пристроена только в конце XVIII в. В Дмитровском соборе Владимира над
уничтоженной в 1830-е гг. галереей в 1806 г. были поставлены с запада две
симметричные классицистические колокольни. До того была только одна колокольня
в северо-западной части галереи. Хотя она завершалась характерным для XVII в. шатром, можно предположить, что
это завершение сменило башню XIII в., т.е. и здесь не было парных элементов, а была
живописная композиция разновысоких объемов. Во всех случаях дополнительные
вертикали подчинялись главному куполу, что вместе с компактностью основного
объема храма определяло центричность композиции целого.
Вышеизложенное
обрисовывает основные иконографические черты как византийского, так и русского
православного храма. Пока нами из русских упоминались только домонгольские
объекты, но все сказанное легко распространяется и на более поздние постройки –
новгородские, псковские, раннемосковские.
Прежде чем
перейти к дальнейшему изложению уместно, видимо, задаться вопросом: в какой
мере то видение содержания храма, которое мы старались выявить, привлекая
отзывы современников, богословские и аскетические тексты, в какой мере это
видение было присуще зодчим, строительной артели, в особенности на Руси с ее
«загадочным и непонятным» молчанием. Ответ, по нашему мнению, складывается из
двух тезисов.
Во-первых,
следует вспомнить мнение С.С. Аверинцева о сходстве в восприятии мира
ученых-богословов и некнижных людей русского Средневековья «с той самой
разумеющейся разницей, что первые понимали общее содержание своей эпохи с
большой отчетливостью, а вторые довольствовались смутными и
недифференцированными представлениями». Если при этом принять, что зодчие
относились не к самому необразованному слою общества, то придется признать, что
они ориентировались и в доступном богословам «общем содержании» своей
профессии.
Во-вторых,
следует иметь в виду, что мы имеем дело с каноническим искусством,
ориентированным на некие модели, которые служат образцом и критерием оценки
создаваемого произведения. Как отмечают исследователи, основа канона – в
иконографических образцах и правилах построения произведений. В области русской
архитектуры мы не находим зафиксированных правил построения (кроме,
естественно, технических рецептов – приемов разбивки плана и т.п.). Но при этом
совершенно очевидна роль набора иконографических образцов, определяющих
канонические черты структуры и, отчасти, стилистики произведения. Сложившийся
канон при необходимости компенсирует недостаток богословского образования или
мистического опыта отдельных мастеров, обеспечивая соответствие сооружений
определенным вероучительным нормам и традициям.
Организующая
и регламентирующая роль канона позволяет понять и принципы работы зарубежных,
инославных мастеров в области русского храмостроения. Они должны были
подчиняться требованиям канона, а поскольку канон всегда предполагает
вариативность в конкретных воплощениях общей модели, перед ними открывалась
возможность привнесения в постройки привычных им строительных приемов и
архитектурных мотивов. Дополнительная свобода появлялась в силу определенной
размытости границ между архитектурным каноном, архитектурной традицией и сферой
вариатавного архитектурного творчества. В отдельных случаях отступление
приезжего мастера от привычных форм могло, пусть не сразу, осознаться как
нарушающее что-то существенное в привычной иконографии. И тогда корректировка
производилась какими-то изменениями декоративного убранства памятника, отбором
и трансформацией новационных мотивов при их использовании в последующих
постройках.
3.2.
Зарубежные авторы
3.2.1.
Геллей Генри. Русский библейский справочник
(скиния, храм, Откровение)
(Торонто, 1984, с. 135-140; 226-229; 730-731.)
Генри Г. Геллей –
американский исследователь Библии, с 1898 года – пастор, автор «Библейского
справочника», переиздававшегося с обновлениями 24 раза, начиная с 1924 года.
ИСХОД
Сам Бог дал образец
скинии в деталях (Исх.25.9). Повеление это записано дважды: «так и сделайте» и
в главах 35 по 40, где детали повторяются дословно – «так и сделали сыны
Израилевы все работы».
Скиния была
«образом и тенью небесного» (Евр.8. 5). Для еврейского народа она имела особое
временное значение и в то же время была «образом будущего» (Евр. 9 и 10).
Скиния и
храм, который был построен позже по образцу скинии, были центром еврейской
национальной жизни.
Таким
образом, Богу было угодно запечатлеть важные мысли в сознании человечества,
имеющие отношение в будущем к христианству.
Моисей был на
горе Синае первый раз 40 дней и ночей (Исх.24.18. 24.18). Первый раз Бог вручил
ему две каменные скрижали (таблицы) и детали постройки скинии.
Размеры
скинии следующие: 14 м в длину, 5 м в ширину и 5 м вышиной.
Скиния была
сделана из перпендикулярных брусьев, покрытых завесами. Она всегда ставилась
лицевой стороной на восток.
На северной и
южной стороне было по 20 брусьев и 6 на западной, длиной в 4 1/2
м и шириной в 7 см. Брусья были из дерева ситтим (твердая акация), обложенные
чистым золотом. В конце каждого бруса было по два шипа, чтобы стоять прямо и по
два серебряных кольца, соединенные шестами из дерева ситтим, которые проходили
через золотые кольца в брусьях.
Десять покрывал,
каждое длиной в 10 1/2 м и 1 м 75 см шириной, были
сделаны из тонкой льняной ткани, голубого, пурпурного и червленого цвета, с
искусно вышитыми херувимами. Покрывала сцеплялись золотыми крючками в голубых
петлях, чтобы сливались в одну целую завесу. Это одно большое покрывало
составлялось из 10 покрывал, шириной в 18 м с востока на запад и в юг, а
запасные 5 м висели на западном конце. Занавеса эта покрывала остов скинии из
обложенных золотом брусьев.
Палатка
покрывала скинию. Она была сделана из материала козьей шерсти, всего 11
покрывал, каждое длиной в 14 м и в 1,75 м шириной, соединявшиеся крючками из
меди. Ее длина с востока на запад была 18 м и с севера на юг 13 м. Второе
покрывало было из красной бараньей кожи, а поверх этих двух покрывал еще одно
из кож барсука (тюленя или дельфина).
Это тройное
покрывало палатки из материала козьей шерсти, красной кожи и барсуковой кожи
поддерживалось коньковым брусом.
Пять западных
метров скинии представляли из себя правильный куб. Он считался местом
жительства Бога. В нем был только ковчег Завета, и туда входил первосвященник
только один раз в год. Это «тень будущего» (Евр. 9.24).
Ковчег Завета
был сделан из дерева сит-гим и обложен чистым золотом. Он был похож на ящик,
размером в 1 м длиной и 60 см шириной и 60 см вышиной. В нем хранились две
скрижали с 10 заповедями, сосуд с манной и расцветший жезл Аарона.
Крыша ковчега
Завета была из чистого золота и на ней были два херувима на противоположных
концах с распростертыми крыльями. Лица их обращены друг к другу и склонены вниз
к крышке. Крышка ковчега Завета, находясь сверху двух скрижалей закона,
символизировала собой место встречи закона и благодати и указывала на «тень
Христа». Херувимы были символом великой заинтересованности небесных жителей в
плане избавления человеческого рода. Об этом писал апостол Петр: «во что желают
проникнуть ангелы» (1 Петр. 1.12).
Ковчег Завета
был потерян где-то в Вавилоне во время пленения. В (Откр. 11.19) мы читаем, что
Иоанн видел ковчег Завета в «храме», но это было лишь в видении и не означает,
что он видел вещественный ковчег Завета, потому что на небе «не будет храма»
(Откр. 21.22).
Святая святых
занимало девять восточных метров скинии. В ней был стол с хлебами предложения
на северной стороне и светильник на южной стороне. Жертвенник курения стоял
около завесы. Он был «тенью» церкви.
Завеса была
сделана из тонкой льняной ткани голубого, пурпурного и червленого цвета, с
искусно вышитыми херувимами. Она отделяла святое от святая святых или, так
сказать, Божью престольную комнату от человеческого зала ожидания. В момент
смерти Христа на Кресте завеса в храме разодралась надвое (Мф. 27.51), что
означает, что с тех пор открылась дверь непосредственного общения человека с
Богом.
У входа в
святилище, с восточной стороны, была еще одна завеса (ширма). Она тоже была
сделана из тонкой льняной ткани цвета голубого, пурпурного и червленого.
Светильник
был из чистого золота. Он имел вид стебля с шестью ветками, отходившими с обеих
сторон, по три на каждой стороне. Его высота была 1 1/2 м
и 1 1/4 м в ширину. На нем воскурялись благовонные
курения. «Это всегдашнее курение перед Господом в роды родов» (Исх.30.7,8).
Светильник в
Соломоновом храме был сделан по этому же образцу и, возможно, был включен в
храмовую утварь, которую вавилонские пленители унесли с собой в Вавилон, а
потом вернули (Езд. 1.7).
Светильник в
Иродовом храме дней Христа мог быть одним из этих двух. Он был взят в Рим в 70
году по Р.Х., изображен на Титовой арке и с «почетом положен в христианской
церкви в Иерусалиме, в 533 году по Р.Х. С тех пор о нем ничего не известно.
Изображение на Титовой арке может быть весьма точным изображением первого
светильника. Светильник может быть «тенью» Слова Божьего, хотя в Откровении
(1.12,20) светильник является символом Церкви.
Стол хлебов
предложения. Стол был 1 м длиной, 1/2 м шириной и 3/4
м вышиной. Сделан он был из дерева ситтим (акации) и обложен чистым золотом. На
нем клались двенадцать хлебов, которые заменялись новыми каждую субботу. Стол стоял
на северной стороне святая святых. Он был символом благодарности Богу за
ежедневную пищу (Лук. 11.3).
Медное море –
это большой медный умывальник, в котором священники умывали руки и ноги перед
служением у жертвенника. Он служит символом очищения от греха и «тенью»
очищения через кровь Христа или даже намеком на христианское крещение.
Скиния была
огорожена забором в 45 м длиной, 23 1/2 м шириной и в 2 1/4
м вышиной. На восточной стороне забора были ворота. Ограда стояла на медных
столбах на расстоянии 2 1/4 м. Сцеплялась она крючками и
кольцами из серебра, вложенными в углубления из меди. Ворота на восточной
стороне были размером в 9 м шириной, сделанные из голубого и червленого
полотна.
Жертвенник
для приношения курений имел форму квадрата в полметра, сделанный из дерева
ситтим (акации) и обложенный чистым золотом. Стоял перед завесой. «Всегдашнее
курение пред Господом в роды ваши» (Исх.30.8). Жертвенник был символом
постоянной молитвы (Откр. 8.3–5).
Жертвенник
всесожжения для сжигания животных. Квадратной формы в 21/2
м и высотой в 1 1/2 м. Он был из дерева ситтим и
обложенный медью, внутри наполненный землей. Вокруг жертвенника были ступеньки
для обслуживающих священников. Он стоял на восточной стороне от скинии у входа
во двор. Огонь на жертвеннике, чудесно зажженный, никогда не потухал (Лев.
9.24; 6.9). Был символом того, что грешник не имеет доступа к Богу, как только
через кровную жертву. Это символ и «тень» смерти Христа.
ВТОРАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН
Храм
400 лет Израиль
пользовался скинией, как местом пребывания Бога среди них и Бог был этим очень
доволен (2 Цар. 7.5-7). Но когда появилось желание построить храм, Бог выразил
участие в указании, каким должен быть этот храм и дал «в записях планы Давиду»
(Пар. 28.19; Исх. 25.9). «Дом, который следует выстроить для Господа, должен
быть весьма величественен, на славу и украшение перед всеми землями» (1 Пар.
22.5).
Храм был
построен из больших камней, кедровых балок и досок, обложенных внутри храма
золотом (3 Цар. 6.14–22; 7.9–12).
В главном
храм был построен по планам скинии, увеличенным в два раза, принимая локоть за
75 см. Длиной храм был 27 1/2 м, шириной в 9 м и высотой
14 м (3 Цар. 6.2).
Храм был
обращен лицом на восток. Западных 9 м храма составляла святая святых, остальная
часть храма в 18 м длиной считалась святилищем или храмом (3 Цар. 6.16–20). Они
были разделены завесой (2 Пар. 3.14).
Во святая
святых был помещен ковчег Завета, с распростертыми над ним херувимами (3 Цар.
6.23–28). Во святая святых около завесы посредине стоял золотой жертвенник
воскурений. Пять золотых светильников и пять столов с хлебами предложения были
на северной и столько же на южной стороне (3 Цар. 7.48,49; 2 Пар. 4.8).
Спереди храма
на восточной стороне был притвор, одинаковой ширины с храмом, глубиной в 4,5 м.
В притворе по обеим сторонам стояли два медных столба, каждый 1,5 м в диаметре
и свыше 10 м вышиной (3 Цар. 6.3; 7.15-21).
Вплотную к
стене храма, на северной, южной и западной стороне были сделаны пристройки в
три яруса, которые служили боковыми комнатами для священников (3 Цар. 6.5-10).
Перед храмом
стоял медный жертвенник для жертвоприношений, размером в 9 кв. м и 3 1/2
м вышиной (2 Пар. 4.1). Есть предположение, что жертвенник этот стоял на том
месте, с которого Авраам приготовлялся принести в жертву своего сына Исаака.
Место это теперь называется Скала купола, на котором стоит магометанская
мечеть. Недалеко стояло литое море для омовения священников при
жертвоприношениях размером в 5 м в диаметре и в 2 1/2 м
глубиной, которое стояло на 12 медных волах.
Кроме этой
умывальницы еще было 10 меньших умывальниц, 5 на северной и 5 на южной стороне
для омовения жертвоприношений (3 Цар. 7.38,39; 2 Пар. 4.1-6).
Храм был
окружен «большим двором» и «внутренним двором» (3 Цар. 6.36; 7.12), размеры
которых не указаны. Возможно, что в «большом дворе» находились царские палаты.
В постройке
храма принимало участие 30 000 израильтян и 150 000 хананеев (3 Цар. 6.38).
Весь строительный материал приготовлялся на месте обработки, а на месте
постройки «ни молотка, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было
слышно в храме при строении его» (3 Цар. 6.7).
Соломонов
храм стоял 400 лет (970–586 до Р.Х.). Храм Зоровавеля простоял 500 лет (520-20
до Р.Х.). Храм Ирода–90 лет (20 до Р.Х. и70летпоР.Х.).
Божьи храмы
Скиния. Скиния была только палаткой и местом
Божьего обитания на протяжении 400 лет. Большую часть времени она стояла в
Си-ломе (Исх. 25–40).
Храм
Соломона. Его слава
была весьма кратковременной. Он был разграблен через 5 лет после смерти Соломона,
а позже разрушен вавилонянами в 586 г. до Р.Х.
Синагоги. Синагоги появились во время
пленения. Они не были храмами, а небольшими зданиями среди рассеянных
израильтян.
Храм
Зоровавеля. Он был построен
после возвращения израильтян из плена (см. Ездра и Неемия). Он простоял 500
лет.
Храм Ирода. Он был построен Иродом из мрамора и
золота. Храм времени Христа. Этот храм был изумительной красоты. Разрушен
римлянами в 70 лет по Р.Х. (см.: Ин. 2.13 и ниже.).
ОТКРОВЕНИЕ
Новый
Иерусалим (Откр. 21.9–27).
Библия
начинается с сада, а кончается городом. Святой город Новый Иерусалим – невеста
Христа, жена Агнца
Город из
золота (21.18,21) появляется в безграничном блеске и великолепии.
Измерение
города (21.16) 12 000 стадий (2 414 км) – длина каждой стороны, или расстояние
вокруг. Четырехугольный. Четырехугольной формы была святая святых в скинии.
Один куб – 5 м с каждой стороны, а святая святых в храме Соломона куб составлял
10 м каждой стороны.
Стена имела
144 локтя (65 м). Ее высота? Или толщина? Или высота, то тогда город должен
возвышаться над стеною в середине.
Измерения
умножаются на 12, что, возможно, является символом и подписью Божьего народа.
1000, умноженное на 12, представляет собой столицу Божьей искупленной
вселенной. 12, умноженное на 12 (144), – ее стена. 12 ворот имели надписи 12
колен. 12 оснований, с вписанными именами 12 апостолов. Из всего этого можно
сделать заключение, что слава города является результатом фундаментального
труда, совершенного Израилем и апостолами на протяжении веков. Дерево жизни
имеет 12 сортов фруктов и дает плод 12 раз в год.
Общий образец
города со стенами и рекой жизни возможно был передан по образцу древнего
Вавилона, который был четырехугольный, его стены на протяжении 96 км вокруг; 90
м высоты, а все сто ворот из меди, и город был разделен посредине рекой Евфрат.
Все ворота из
жемчужин, 12 оснований построены из драгоценных камней: ясписа, сапфира,
халкидона, смарагда, сардоникса, сардолика, хризолифа, вирилла, топаза,
хрисопраса, гиацинта, аметиста.
Они подходят
к названиям 12 камней на нагруднике первосвященника с 12 именами колен (Исх.
28.15–30), которые может быть, могли служить тусклой фотографией, данной в
далеком прошлом, по которой Господь действовал для будущего.
Некоторые из
этих камней, возможно, не были теми же самыми, как теперь они называются. Здесь
приводим цвета, которые дают следующие камни: яспис – бриллиант, сапфир – голубой,
халкидон – небесно-голубой, смарагд – зеленый, сардоникс – белый и красный,
сардолик – ярко-красный, хризолиф – золотой, вирилл – цвет морской волны, топаз
– прозрачно-зеленый, хрисопрас – пурпурный, гиацинт – красный, аметист – фиолетовый.
Город из
золота, стены из алмаза, ворота из жемчужин. Основание из драгоценных камней. Дословно
ли все это будет или же здесь представлено символически – это что-то такое
необыкновенно славное, великолепное, выше нашего представления.
3.2.2.
Отто Демус. Мозаики византийских храмов
(Индрик, М., 2001, с. 14-65.)
Отто Демус (1902–1990) – знаменитый австрийский исследователь средневекового искусства Византии и Западной Европы. Изучение византийского искусства О. Демус сочетал с практической работой в службе по охране памятников искусства на территории Австрии. Весной 1939 г. ученый отправляется на Сицилию, с тем чтобы принять участие в конгрессе византинистов. Оттуда он перебирается в Англию, пополнив тамошнюю колонию ученых-эмигрантов с континента. Итог лондонского периода жизни ученого – две монографии. Одна из них была посвящена мозаикам нормандской Сицилии, а в другой О. Демус анализировал систему мозаического убранства византийского храма в целом.
КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРА
СРЕДНЕВИЗДНТИЙСКОГО ХРАМА
Ансамбль
византийской монументальной живописи существенно проиграет, если рассматривать
его как сумму отдельных композиций. Эти композиции не задумывались как
независимые произведения. Их создателей в первую очередь заботили
взаимоотношения образов друг с другом, с архитектурным обрамлением и со
зрителем. В случае с храмовым убранством – той областью, в которой византийское
искусство достигло, быть может, своих наибольших высот, – каждый отдельный
элемент есть часть органичного, неделимого целого, построенного на основе
определенных принципов. Как кажется, в классический период средневизантийского
искусства – с конца IX до конца XI в. – эти принципы формируют удивительно последовательно составленную
структуру, в которой некоторые параметры допустимы и даже необходимы, тогда как
других избегают, поскольку не находят нужным с ними считаться. Эта система не
была чисто формальной – для ее создания богослов был нужен не меньше, чем
художник. Но иконографическая и художественная стороны были всего лишь
различными аспектами лежащего в основании этой системы единого принципа,
который – пожалуй, весьма приблизительно – можно определить как установление
непосредственной связи мира зрителя с миром образа. Эти взаимодействия в
византийском искусстве были, конечно, теснее, чем в средневековом искусстве
Запада. В Византии между зрителем и образом не существовало дистанции,
поскольку зрителю было доступно священное пространство образа, а образ, в свою
очередь, формировал пространство, в котором двигался зритель. Последний был
скорее «участником», чем «зрителем». Не стремясь к иллюзионизму, византийское
религиозное искусство упразднило четкую границу между миром реального и миром
идеального.
Теория образа
По существу,
с этой идеей связан любой образ, и смысл существования византийского
изобразительного искусства в целом основан на учении, развивавшемся в связи с
христо-логическим догматом. Эта доктрина сформировалась во время иконоборческих
споров VIII и IX вв. Согласно Феодору Студиту и Иоанну Дамаскину, отношение образа к
своему первообразу подобно отношению Бога Сына к Богу Отцу. В соответствии с
идеями неоплатоников, первообразу приписывается потребность самовоспроизводства
в образе, точно так же, как материальному объекту свойственно отбрасывать тень,
и подобно тому, как Бог Отец породил Сына и создал иерархию видимого и
невидимого миров. Следовательно, вселенная становится непрерывной цепью
образов, расположенных в нисходящем порядке, начиная с Христа – образа Бога, и
включает в себя человека, символические предметы и, наконец, изображения,
созданные художником. Все эти образы – естественная эманация различных первообразов
и действующего через них Божественного архетипа. Процесс эманации сообщает
образам часть святости архетипа хоть образ и отличается от своего первообраза
по сущности, он тем не менее идентичен ему по смыслу, и воздаваемая образу
честь посредством образа достигает прототипа.
...Учение об
образах породило три принципа, которые имеют первостепенное значение для всей
последующей истории византийского искусства. Во-первых, изображение, если оно
создано «правильным способом», есть магический двойник первообраза, магически
же ему идентичный. Во - вторых, изображение священного персонажа достойно
почитания. В-третьих, у каждого образа есть место в постоянно действующей
иерархической системе.
Иконопочитание
влияло не только на композицию образа – оно определяло и выбор его материала.
Вопрос о «веществе» образов играл в иконоборческих спорах значительную роль.
Предпочтение драгоценностей было всего лишь естественной реакцией
иконопочитателей на утверждения иконоборцев, считавших неуместным изображение
Божества из обычных и дешевых материалов. Мозаика, уподобляющаяся самоцветам и
источающая золото, наравне с эмалью должна была казаться веществом, наиболее
достойным тех божественных идей, которые она призвана выражать. Отчасти именно
потому так велика и даже определяюща ее роль в процессе развития живописи
послеиконоборческого периода. В мозаике использовались чистые, светящиеся
цвета, которые испытали на себе очистительное действие огня и считались самым
подходящим средством для воспроизведения неземного величия божественных
первообразов.
Архитектурные и технические условия
Византийцы
считали, что сами первообразы состоят друг с другом в определенных
иерархических отношениях, и потому образам надлежало передавать эти связи.
Каждое изображение должно было занимать соответствующее место в иерархии
значений, центр которой отводился вознесенному на самый верх образу
Вседержителя. Бесспорно, иерархическую систему образов, основанную на тех же
принципах, которые управляли всей византийской церковной организацией, можно
было воплотить лишь с помощью архитектурного обрамления, выстраивавшего
иерархию предназначенных для живописи объемных ячеек. Чисто
повествовательный цикл сюжетов в западном духе или какая-нибудь дидактическая
система могли располагаться в любом месте и в любом порядке вне зависимости от
того, шла ли речь о декоре порталов, фасадов, интерьеров или о витражах. Однако
византийская программа всегда нуждалась в особом обрамлении, причем именно в
том, в котором она сложилась и к которому приспособилась. Этим обрамлением стал
классический представитель средневизантийской церковной архитектуры – храм типа
вписанного креста с куполом в центре.
Становление этого архитектурного типа было длительным
процессом, а к окончательному решению вели несколько конкурирующих друг с другом
путей. Сама эта идея, как кажется, возникла не позже чем в VI в. Зодчие, представлявшие различные
архитектурные традиции, выбирали для решения проблемы разные исходные точки:
они отталкивались от центрического плана свободного креста, от октагонального
плана, от центрально-купольной базилики, от полубазиликального плана типа
Салоник и Анкиры и т.д. Некоторые промежуточные варианты, такие как
константинопольский тип храма с пятью нефами, храм с обходом или храм-триконх,
были своего рода предварительными опытами, и в конце концов от них отказались в
пользу классического типа вписанного креста. История этой эволюции поддается
почти телеологической интерпретации. Она свидетельствует о сознательном поиске
окончательного решения, которое должно было соответствовать литургическим
потребностям и эстетическим идеалам своего времени. Локальные различия уступали
дорогу поискам этого идеального типа, и после того как он окончательно
выработался, его уже ни разу не отвергли, сделав основой всей дальнейшей
эволюции. Даже колебания масштаба не затрагивали главную идею. Окончательный
вариант, полностью сложившийся к концу IX в., был непривычно совершенен и с литургической и формальной точек зрения
почти не требовал доработок. Высочайшее совершенство типа могло бы привести к
его омертвению, если бы основная идея этой архитектуры не оказалась настолько
гибкой, что обеспечила простор для вариаций.
План такого здания фактически представлял собой
крестообразное пространство, образованное пересекающимися сводчатыми нефами и
увенчанное высоким куполом, который располагался над центром здания. Углы между
рукавами креста заполнялись пониженными сводчатыми компартиментами, так что
план постройки вписывался в квадрат, но объемная композиция ее завершения
оставалась крестообразной. С востока к квадрату прибавлялись три апсиды, с
запала его предварял нартекс, а иногда и два. Наиболее примечательное качество
этой архитектурной схемы – гибкость, присущая ей потому, что ее
пространственный замысел воплощали сводчатые перекрытия здания: это была
концепция, выраженная именно в сводах, а не в плане. И последний,
действительно, мог сколько угодно видоизменяться, оставляя непоколебимым сам
принцип. Крест с куполом в центре совмещался с любым, даже с базиликальным
планом, или, точнее, почти всякий план можно было подогнать под идеальную
систему перекрытого сводами пространства. Очертания сводов оставались
постоянными. Они были образом вечного и неизменного небесного мира,
противопоставленного по земному изменчивому плану основания, который зависел от
особенностей местности, площади участка, целей строительства и капризов моды. И
какими бы разнообразными ни были планы нижней части здания (то есть того
пространства, в котором движется зритель), взгляд зрителя, устремленный кверху
(по направлению к тому, что можно было бы назвать оптическим пространством),
всегда встречал знакомые очертания золоченых сводов. Впечатление от храма
всегда определяет купол, и даже современный зритель в первую очередь смотрит
туда. От купола его глаз постепенно возвращается к горизонтальной точке зрения.
Процесс постепенного восприятия интерьера, начиная с
купола и заканчивая его нижней зоной, полностью соответствует эстетическим
свойствам византийской архитектуры. Византийская постройка в отличие от
готической не воплощает в себе структурную энергию роста, не передает
тяжеловесность материи, что так часто встречается в романских сооружениях, не
демонстрирует идею совершенного равновесия сил, как это делает греческий храм.
В сущности, византийская архитектура – архитектура «висячая»: ее своды
спускаются сверху и ничего не весят. Колонны осмысляются эстетически и выглядят
не как несущие конструкции, а как свисающие подвески или корни. В них нет
ничего, что указывало бы на несомую ими тяжесть: отсутствует и энтазис, и
ремешок, и каннелюры, и цоколь; форма капителей также не предполагает
выполнения колонной роли опоры. Впечатления такого рода отнюдь не являются
изобретением современного зрителя – о них недвусмысленно свидетельствуют
византийские экфрасисы. Архитектоника развивающегося сверху вниз здания вполне
соответствует иерархическому мышлению, проявившемуся во всех сферах
византийской жизни, от политики до религии, что хорошо видно на примере
иерархической концепции цепи образов, отображающих высший архетип.
Иерархия образов идеально вписана в крестово-купольную
систему сводов. За каждым изображением закрепляется определенное место,
соответствующее его значению и степени святости. Византийская архитектура –
прежде всего архитектура сводов, которая имеет дело с верхней зоной здания, и
поэтому для византийской декорации наиболее пригодны как раз церковные своды.
Образ в пространстве
Храм – идеальный иконостас; он в своей целостности
является образом, реализующим концепцию божественного мироздания. Только в этой
общей для персонажей и для зрителя среде последний может почувствовать себя
очевидцем священных событий и собеседником святых. Он не отрезан от них, но
физически включен в состав огромного образа-храма и, окруженный сонмом святых,
участвует в событиях, которые лицезреет.
Так как образам приходилось существовать в пространстве,
обычно принадлежащем зрителю, и делить его с ним, их размещение в отдельных
ячейках – трехмерных элементах, бывших, так сказать, наростами на основном
пространстве, – оказалось нужнее, чем когда-либо. Более того, поскольку
изображения не были звеньями связной цепи повествования, то им не следовало
сливаться друг с другом. Композиции должны были иметь четкие границы и занимать
определенное место, подобно тому, как изображенные в них события и персонажи располагаются
в иерархической системе. Для этой цели употреблялся такой прием, как снабжение
каждой ячейки особой рамой. Элементы интерьера, особенно находящиеся в верхней
части здания, выделяются или особой формой, присущей им как компонентам
пространства, или, как в нижней зоне, обрамляющей их орнаментированной
мраморной облицовкой спокойных тонов. Эти мраморы серого, коричневого,
красноватого и зеленого оттенков в украшенных мозаикой византийских церквях
покрывают практически все вертикальные поверхности стен интерьера. Мозаикам
остаются лишь ниши, внутри которых композиции кажутся драгоценными камнями в
скромной оправе. Нет ничего более чуждого монументальным мозаичным декорациям
этих храмов в центральных регионах империи, чем обычай украшать мозаиками все
стены без разбора – принцип, характерный для памятников XII в. на Сицилии, в Венеции и в других
колониальных форпостах византийского искусства. В самой Византии мозаика
никогда не теряла свойств драгоценного камня в массивной оправе. Изображения не
перестают быть обособленными элементами пространства. Их взаимодействия
основаны не на тесных контактах в пределах плоскости, а на замысловатой системе
пространственных отношений.
Идеальная иконографическая схема храма
типа вписанного креста
...Мы можем обнаружить ведущие принципы, если увидим в
них не только богословские и церковные концепции, различающиеся в зависимости
от времени, места и назначения храма, но и предпосылки вариаций архитектурной
схемы. Для такого анализа важны не столько предложенные разными толкователями
частные интерпретации целого или элементов византийской культовой постройки и
ее декора, сколько сам факт появления таких толкований, равно как и то, что
некоторые из них легли в основу средневизантийской герменевтики. Рассматривая
проблему под таким углом, мы вправе выделить три интерпретационных системы,
комбинацию которых можно найти в каждой византийской декоративной системе
ведущего, централизованного типа.
Византийский храм прежде всего – образ космоса,
символически воспроизводящий небо, рай (или Святую землю) и земной мир. Они
формируют упорядоченную, иерархическую систему, которая простирается от
изображающей небо купольной сферы до земной зоны, соответствующей нижним частям
интерьера. Чем выше относительно архитектуры храма располагается изображение,
тем большую святость ему приписывают.
Второй тип толкований трактует собственно топографию
храма. Здание воспринимается как образ (и, следовательно, образ, магически
тождественный первообразу) мест, освященных земной жизнью Христа. Этот подход
делает возможным появление очень детализованной топографической герменевтики, с
помощью которой каждая часть храма отождествляется с определенным местом Святой
земли. Взирая на цикл образов, верующий может совершить символическое паломничество
в Святую землю, просто разглядывая изображения в местной церкви.
Третий тип символической интерпретации был основан на
христианском календаре. С этой точки зрения храм есть «образ» отраженного в
богослужении праздничного цикла, и поэтому изображения в храме располагаются в
соответствии с богослужебной последовательностью церковных праздников. Даже
изображения святых в какой-то мере следуют календарному порядку их памятей, а
организация крупных повествовательных циклов и особенно сцен, связанных с
Пасхой, часто зависит от порядка Евангельских чтений. Отношения между
отдельными сценами основаны не на «историческом» времени обычного
повествования, а на «символическом» времени богослужебного круга. Этот круг
замкнут и повторяется каждый год, в течение которого наступает определенный
праздник, и тогда очередной образ, становящийся объектом поклонения, выступает
на первый план с тем, чтобы по истечении времени вернуться на место, которое
ему предстоит занимать весь остаток года. Очевиден глубокий контраст между этой
концепцией времени и другим способом ее восприятия, который заложен в западную
декоративную схему. В последнем случае ряд сцен иллюстрирует историческую
последовательность событий, у которой есть четко выделенные начало и конец, а
также определенное направление, совпадающее с развитием рассказа. Между тем в
строго регламентированной системе византийской декорации элемент времени
символичен; он объединен с топографическим символизмом здания и потому тесно
связан с пространственным началом. Течение времени превращено в вечно
повторяющееся вращение вокруг неподвижного центра. Две эти концепции времени
соответствуют двум господствующим архитектурным типам: на Западе – базилике с
ее ритмичным движением от входа к апсиде, от начала к концу, а в Византии –
центрической купольной постройке, в которой отсутствует подчеркнуто
акцентированная ось и движение не имеет цели, будучи всего лишь перемещением
вокруг центра.
Все три византийские системы толкований –
космически-иерархическая, топографическая и богослужебно-хронологическая – до
такой степени соответствуют доминирующему архитектурному типу храма вписанного
креста, что по существу их можно счесть выработанными именно для такого здания.
Только внутри этой оболочки можно было как следует разместить иконографическую
схему, созданную согласно указанным принципам. Поэтому каждая попытка
приспособить такую программу к другим архитектурным типам должна была
столкнуться с большими трудностями и, следовательно, привести к ослаблению
первоначального замысла, что и в самом деле можно наблюдать в провинции.
Три зоны
Средневизантийская система мозаичного убранства самым
очевидным образом делится на части, соответствующие тройственному единству
неба, рая, или Святой земли, и земного мира. В храме легко можно выделить три
зоны: первая – зона куполов и сводов верхнего уровня, в том числе конхи апсиды;
вторая – зона тромпов, парусов и верхних частей стен и третья – зона нижних или
второстепенных сводов и нижних частей стен. Эти три зоны в большей части
случаев разграничивались скульптурными космитами – опоясывающими все здание
узкими полосами из резного камня или стука.
Купола и апсиды. В верхней зоне, небесной сфере
храмового микрокосма, находятся только изображения наиболее священных лиц
(Христа, Богоматери, ангелов) и тех сцен, в которых небо было либо местом
действия, либо источником или целью изображаемого события. С IX до конца XI в. византийское искусство использовало только три варианта купольного
убранства: «Вознесение», «Сошествие Святого Духа» и образ Пантократора-Вседержителя
во славе.
«Вознесение», «Сошествие Святого Духа» и Пантократор,
кроме всего прочего, удовлетворяют формальным условиям средневизантийского
купольного декора еще и потому, что у них есть естественный центр, вокруг которого
можно развернуть композицию. Апостолы, ангелы или пророки, подобно спицам
колеса, располагались соответственно вокруг медальона с возносящимся Христом,
Этимасией (уготованным престолом) или полуфигурой Пантократора в центре. Купол
воспринимался как оболочка реального пространства, как коло-колообразная форма,
и его декор фактически был частью пространства. Стоящие и сидящие фигуры
совершенно естественным образом стоят и сидят вокруг возвышающегося над ними
центрального изображения. Полость купола – совершенный эквивалент воображаемого
пространства, которое могли бы занимать эти фигуры, если бы события происходили
в реальности: купол – та оболочка, которая в точности соответствует
пространственной концепции. В таком искусстве по понятным причинам неуместна
иллюзионистическая передача пространства: потребность в пространственном
реализме можно было гораздо проще удовлетворить описанными средствами, чем с
помощью самых искусных иллюзионистических уловок. Фигуры стоят или сидят на
границе материального пространства, или, вернее, они формируют и закрепляют эти
границы. И если за ними и за плоскостью изображения нельзя почувствовать
пространство, то, несмотря на это, пространство, причем пространство реальное,
существует перед изображением.
Центральный медальон (с Христом, Этимасией или
Пантократором) размещен таким образом, что его можно различить при взгляде с
запада на восток. Мозаики нижней части купола тоже располагаются с учетом этой
зрительной оси. Дело не только в том, что в восточной его половине собраны
важнейшие с точки зрения иконографии фигуры, которые поэтому обращены на запад
и предстоят зрителю в почти фронтальных позах. Кроме того, они симметрично
расположены относительно центральной оси этой точки зрения, из-за чего перед
зрителем оказываются священные образы: в «Вознесении» – это Богоматерь с
ангелами и Петром и Павлом, в «Сошествии Святого Духа» – фронтальные фигуры
Петра и Павла, сидящих на престолах, в куполах с Пантократором – фронтальные
архангелы и пророки. Восточная часть купола – своего рода «фасад»
здания-изображения, там находятся его самые существенные детали. Фигуры же
западной, недоступной зрителю половины купола, напротив, представлены в более
взволнованных и менее застывших позах. Таким образом, пространственная
структура подобной композиции рассчитана на зрителя, который стоит лицом к
востоку и смотрит в купол. Западная половина купола покажется этому зрителю
более крутой, а восточная – более плоской. Если он стоит под западной пятой
купола, то для того, чтобы взглянуть на его «заднюю» сторону, ему придется
обернуться и посмотреть вверх под крутым углом, и его физическая и духовная
позиция будет отражена в позах фигур, размещенных в этой части купола или
барабана. Таким образом, структура всего купола, который в действительности
правилен и радиальносимметричен, в соответствии с динамикой взгляда зрителя
окажется асимметричной.
Искусство украшать купола изображениями – величайшее
достижение средневизантий-ской монументальной живописи. В нем наиболее полно
реализовалась идея монументального образа, понятого как форма, существующая в
реальном пространстве. В этой оболочке пространства фигуры расположены и
движутся в соответствии с динамикой их восприятия зрителем. Такой прием –
превращение материального пространства в пространство действия фигур – редко
использовался как до IX, так и
после XIII в.
Концепция пространства, совпадающего с изображением, была основным принципом
классического искусства сред-невизантийского периода
В нартексе средневизантийской церкви была своя
собственная небесная зона, отмеченная образом Пантократора над главным входом и
одним или несколькими купольными композициями, посвященными Эммануилу или
Богоматери. К небесной зоне самого храма принадлежала и конха главной апсиды. В
церквях господствующего типа вписанного креста здесь неизменно помещалась
фигура Богоматери, то сидящей (тогда использовался тип Панахранты), то стоящей
(в типе Оранты Платитеры или Одигитрии).
Впрочем, в Византии существовал и другой вариант декора
апсиды – изображение Христа в конхе. Он был очень распространен в
доиконоборческое время, а по прошествии раздоров прижился в провинции. После
900 г. в собственно Византии и Греции этот тип был закреплен за лишенными
купола храмами продольного плана, в которых апсида была «высочайшим» и священнейшим
вместилищем образа. В купольных церквях апсиде отводилось второстепенное место
и, следовательно, она больше всего подходила для изображения Богоматери,
занимавшей в иерархии второе место после Христа.
Боковые апсиды в отличие от главной не подчинялись столь
строгим правилам. Однако они в первую очередь были связаны с «предысторией»
Христа и Искупления, поскольку в них изображали или родителей Богоматери –
Иоакима и Анну, или предтечу Мессии – Иоанна Крестителя. Именно в соответствии
с этой обычной программой толкователи интерпретировали жертвенник как символ
места рождения Христа – Вифлеемской пещеры.
Праздничный цикл. Вторая из трех зон византийского
храма посвящена жизни Христа, изображениям праздничного цикла. Она вмещает в
себя монументальный календарь хрис-тологических праздников и вместе с тем
является образным эквивалентом Святой Земли. Классический цикл XI в. состоял, по крайней мере теоретически, из
двенадцати сцен двунадесятых праздников: «Благовещения», «Рождества»,
«Сретения», «Крещения», «Преображения», «Воскрешения Лазаря», «Входа в
Иерусалим», «Распятия», «Воскресения» («Сошествия во ад»), «Вознесения»,
«Сошествия Святого Духа» и «Успения Богоматери». В живописных циклах к этому
ряду зачастую прибавлялись несколько изображений, которые демонстрировали
историю Страстей Христовых – это были «Тайная вечеря», «Омовение ног», «Поцелуй
Иуды», «Снятие со Креста» и «Уверение Фомы». К числу поддававшихся развитию тем
относится история детства Христа (история Марии и Иосифа, «Поклонение волхвов»,
«Бегство в Египет») и история Его проповеди (цикл чудес и притч). Постепенное
увеличение находящейся в наосе серии христологических сцен в конце концов
привело к распаду литургического цикла праздников, поскольку их образы
поглощались более полным иллюстративным циклом, удержавшим лишь немногие черты
иерархизированных программ X и XI вв.
Поскольку в наосе было мало доступных ниш, в объемные
ячейки могло попасть лишь определенное количество изображений из развернутого
цикла. Строгих правил, которые определяли бы выбор привилегированных образов,
размещавшихся в тромпах и нишах наоса, не существовало. Однако некоторые
факторы все же влияли на этот выбор и сказывались на окончательном решении.
Первым была архитектура церкви – она предрешала количество изображений, располагающихся
в нишах. Вторым фактором стали художественные особенности композиций –
предпочтение отдавалось тем, которые сочетались с выгнутыми участками.
Богословские соображения составляли третий и решающий фактор. Требовалось
учитывать ранг и достоинство образов и соблюдать их определенную
последовательность, соответствующую богослужебному календарю. В конце концов на
основе этих определяющих принципов сложилась более или менее прочная традиция.
Эта традиция, частности, предполагала размещение «Благовещения» в
северо-восточном углу наоса, впереди и слева от зрителя, то есть либо в
северо-восточном купольном тромпе, либо на столбах триумфальной арки, начиная с
фигуры ангела, изображенной слева. За ним следовало «Рождество Христово» в
юго-восточном тромпе. После этого правила уже не действовали: остаток цикла
наоса в разных храмах составляли разные изображения.
Те сцены, которым не было места в нишах наоса,
приходилось выносить во второстепенные компартименты интерьера – например, в
трансепт или в нартекс. Если была такая возможность, их размешали в люнетах,
окруженных мраморной облицовкой стен. «Распятие» и «Сошествие во ад» обычно
располагались симметрично по отношению к центральной оси на обращенных к западу
стенах, которые видел стоящий лицом к востоку зритель. «Успение», как правило,
располагалось над главным входом, на западной стене наоса. В храмах, где в
наосе не было ниш и парусов, весь евангельский цикл приходилось изображать в
трансепте; этот вариант возобладал начиная с XII в. и позже. Дополнительные циклы в памятниках классической эры
средневизантийской декорации встречаются редко: они включают лишь жизнь
Богоматери (обычно эти сцены изображали в нартексе) и несколько ветхозаветных
сцен, которые считались не иллюстрациями к подробному рассказу, а типологическими
прообразами и помещались в боковых капеллах алтаря.
Сонм святых. В третьей и самой нижней зоне
централизованной системы сюжетные изображения отсутствовали: лишь отдельно
стоящие фигуры составляли «сонм апостолов и мучеников, пророков и праотцев,
священные образы которых наполняют наос». Эти фигуры распределялись в
соответствии с двумя взаимодействующими принципами: первым был учет их ранга и
функций, вторым – учет календарной последовательности. Преобладал первый
принцип. Святители и праотцы располагались в главной апсиде или рядом с ней, в
нисходящем иерархическом порядке – от ветхозаветных праотцев, через пророков и
учителей первых веков христианства, к скромным служителям Восточной Церкви.
Наос наполняли мученики, поделенные на несколько разрядов: святые
целители-бессребреники изображались вблизи алтаря, святые воины – на столбах и
арках центрального купола, а все прочие – главным образом в трансепте,
размещаясь там в соответствии с порядком их памятей в литургическом календаре.
Третью категорию составляли святые монахи, изображения которых находились в
западной части церкви, охраняя вход в нартекс и наос. Святые жены и
канонизированные цари изображались в нартексе. Но этот порядок ни в коем случае
не был неизменным. Он открывал дорогу вариациям, зависящим от посвящения
данного храма и от его архитектурного типа. Один из главных вариантов был
характерен для церквей, центральный купол которых опирался не на большие тромпы
(где было место для сюжетных изображений), а на меньшие по размеру паруса,
которые можно было украсить лишь одиночными фигурами. Четырьмя такими фигурами
бессменно оказывались четверо евангелистов, сидящих на престолах и записывающих
свои Евангелия. В храмах этого типа узкие подпружные арки купола заполнялись
медальонами с предками Христа или святыми мучениками.
Впрочем, при всем разнообразии вариантов расположения в
византийских храмах одиночных фигур существовали строгие эстетические каноны,
регулировавшие способы изображения святых в зависимости от специфики их
архитектурных обрамлений и их иконографической важности. Эти фигуры можно
разделить на четыре группы, куда войдут сидящие фигуры, фигуры, стоящие во весь
рост, поясные изображения и фигуры в медальонах. Сидящие фигуры встречаются
только на изогнутых поверхностях; изолированно сидящими могли быть только
Христос, Богоматерь и евангелисты. Первые два персонажа (в апсидальных и
подобных им композициях) всегда изображались фронтально, лицом к зрителю.
Евангелистов, напротив, постоянно показывали склоненными, в трехчетвертном
ракурсе, который становится естественным следствием их наклонного положения в
пространстве парусов, оказавшихся единственным отведенным для этих фигур
углублением.
Самым удобным местом для стоящих фигур стали вертикальные
стены, цилиндрические своды и вертикальные части арок. Размещенные таким
способом фигуры было бы трудно признать частью великого сонма святых, которые
наполняли храм. Именно об одиночных фигурах святых с большим правом, чем о
других элементах храмовой декорации, можно сказать, что они делили со зрителем
пространство церкви. Они были ближе зрителю и реально, и духовно; они были его
идеальными представителями в иерархии вселенной. И вряд ли стоит говорить о
том, что размеры стоящих фигур и уровень их расположения менялись в зависимости
от их ранга внутри этой иерархической системы.
На более низкой иерархической ступени находятся
полуфигуры или бюсты. Они изображались только на вертикальных архитектурных
элементах с четкими границами и акцентированным основанием, благодаря чему эти
фигуры обосабливались от остальных. Люнеты, неглубокие и невысокие ниши, а
также некоторые участки распалубок были идеальным местом для такого рода
изображений. Они никогда не располагаются на широких плоскостях без четкой
нижней границы. Особым типом полуфигурных изображений являются образы святых
столпников, чьи торсы кажутся как бы вырастающими из столпов или всаженными в
них
Прочие части здания, в особенности крестовые своды,
распалубки, узкие горизонтальные регистры стен и тому подобные участки, обычно
заполнялись медальонами. Так, треугольные сегменты крестовых сводов никогда не
украшались другими разновидностями фигуративных изображений. Очевидно,
византийцы чувствовали, что полуфигура, чья пространственная реальность как бы
смягчалась круглой рамой и которая не воспринималась как «стоящая» в реальном
пространстве, была единственным изобразительным мотивом, соответствовавшим
почти горизонтальному участку свода. С другой стороны, круглая форма медальонов
нуждалась в поддержке архитектурного или линеарного обрамления, благодаря
которому они не казались бы вращающимися или беспорядочно плавающими. Именно
поэтому медальоны крайне редко помещаются на крупных нерасчлененных
поверхностях стен и всегда заключаются в узкие фризы, треугольники и т.д. В
вершинах арок медальоны расположены так, что головы изображенных обращены к
зрителю. Таким образом, они кажутся вертикальными и позволяют подчеркнуть
главную точку или ось зрения. Поэтому их головы обычно ориентированы на центр
наоса, то есть на центр подкупольного квадрата. Медальоны в вершинах боковых
арок обращены или к центральной оси, или к западу, лицом к зрителю. Первый
вариант соответствует храму со строго центрическим планом, второй же – более
удлиненной постройке.
Художественное единство
Деление убранства византийского храма на три зоны, с
одной стороны, соответствовало идее выражаемого образами действия, а с другой
стороны, концепции самих образов. Декор верхней зоны, откуда изгонялись все
нарративные и сиюминутные детали, декларировал вечное присутствие священного начала.
В средней зоне происходит совмещение вневременного и исторического элементов,
что связано с особым характером праздничных образов, которые одновременно
изображают исторические события и отмечают вехи вечно повторяющегося цикла
священного года. В нижнем же уровне храма, в его третьей зоне нет ни
нарративных сцен, ни догматических изображений. Ведущая идея этой части
храмовой декорации – единение всех святых в Церкви. Они – части огромного
изображения, обрамлением которого становится само здание храма.
Пространство. Благодаря отказу от передачи
пространства с помощью перспективы византийский художник мог выявить
эмоциональную ценность уровня расположения изображения и его расстояния от
зрителя в их самой чистой форме. Византиец, рассматривая мозаики, воспринимал
изображения неискаженными, несмотря на их большую высоту, и чувствовал себя
поднятым на их уровень, вознесенным над землей. Таким образом, византиец не
только духовно, но и зрительно попадал в пределы небесной сферы, образованной
священнейшими образами; он становился участником священных событий, оказывался
в святых местах, магическими двойниками которых были изображения. Двигаясь
вдоль главной оси храма и взирая оттуда на осеняющие его священные изображения,
он мог совершить символическое паломничество. Он не был прикован к одной точке,
как западный зритель, имевший дело с системами декора, чьи иллюзионистические и
перспективные построения как будто существовали лишь для одной-единственной
точки зрения: когда византиец шествовал вдоль литургических осей храма, вместе
с ним двигался ритм куполов и сводов, и изображения обретали жизнь, не теряя
своих иконных качеств.
Лишь те части храма, куда византиец не имел права войти,
представали перед ним в строго определенном виде. Но даже они связаны с целым и
участвуют в общем движении. Взгляд зрителя направляется от одной части к
другой, обегает вокруг конхи апсиды и спускается по полукруглым стенам. В зоне
сводов здания каждый элемент плавно перетекает в соседствующие с ним формы, и
поэтому скользящий по ним взгляд не встречает на своем пути непреодолимых
преград или акцентов. Даже края стен скруглены так, чтобы взгляд мог перебегать
с одной стены на другую. И это не только спроецированное в прошлое впечатление
современного зрителя, но вдобавок и осознанное достижение византийского
декоративного искусства, что доказывают такие документальные свидетельства об
эстетических взглядах того времени, как средневизантийские экфрасисы. Эти
экфрасисы вновь и вновь подчеркивают, что взгляд зрителя, вместо того, чтобы остановиться
на одном элементе убранства, должен блуждать в постоянно меняющихся
направлениях. Сама лексика этих описаний, как стихотворных, так и прозаических,
намекает на активное движение вокруг центра храма. Григорий Назианзин
рассказывает о церкви, построенной его отцом, как о «храме, вращающемся вокруг
своих восьми колонн», «вырастающем из купола книзу» и «окруженном обходами».
Прокопий, описывая Святую Софию, подчеркивает, что глаз зрителя не должен
задерживаться ни на одной из частей храма, ибо, как только он останавливается
на одной из них, его сразу же привлекает соседняя. Еще более откровенен Фотий,
написавший в энкомии Новой церкви: «Кажется, что святилище вращается вокруг
зрителя; многообразие видов побуждает последнего поворачиваться снова и снова,
и его воображение приписывает это вращение самому зданию».
Экфрасисы этой эпохи проясняют и еще одну проблему. Они
описывают живописное убранство в выражениях, подчеркивающих реальность
присутствия изображенных сцен и персонажей. Это качество храмового декора, с
точки зрения формы выраженное в его пространственном характере и в той
жизненности, которое сообщает ему движение зрителя в пространстве, не поддается
фотофиксации. Убранство византийского храма обнаруживает свои выдающиеся
качества только в своем собственном пространстве, в котором и для которою оно
было создано.
Свет. К этой пространственной среде принадлежит и
естественный свет. Византийский художник не изображал пространство, а
пользовался им, включая его в свои образы и помня о существовании пространства
между изображением и зрителем. Точно так же он никогда не изображал и не
показывал свет, исходящий из определенного источника. Вместо этого художник в
изображениях использовал реальный свет, учитывая эффекты, производимые им в
пространстве между изображением и глазом зрителя, с тем, чтобы нейтрализовать
создаваемые им помехи. Первым способом использования света было включение в
образ сверкающих и излучающих свет материалов, и, прежде всего золота,
организация которых не только создавала ощущение богатства колорита, но
вдобавок освещала композиции, помещенные в объемные ниши. Самое сильное
освещение отмечало смысловые и композиционные центры изображений, которые в
классическом византийском искусстве совпадали друг с другом. Свет окружает
главные фигуры подобно ореолу святости. В соответствии с перемещением зрителя и
движением солнца эти блики меняют свое положение, но, благодаря особенностям
формы отведенных для изображений участков пространства, всегда играют вокруг
фигур основных персонажей. По ночам выразительные силуэты фигур проступают на
золотой поверхности, поверх которой беспокойно мерцают отсветы свечей и лампад.
Византийские образы включали и использовали не только
свет, отражаемый золотом, но и естественный свет, лившийся из окон, которые
прорезали крупные композиции, купола и апсиды.
Цвет. В других случаях художники регулировали
эффекты слишком сильного или слишком слабого освещения при помощи более темных
или светлых цветовых оттенков. Хотя основные цвета более или менее
регламентировались иконографическими канонами, всегда существовала возможность
разнообразить употреблявшиеся оттенки. Занимавшимся этим мастерам, с тем чтобы
добиться ясности формы и идеи, приходилось учитывать особенности декорируемого
ими пространства. Общее распределение тонов следовало членению храма на три
зоны. Так, в верхней зоне, то есть в куполах и на сводах верхнего уровня,
употреблялись самые светлые тона, среди которых преобладали чуть подцвеченный
белый и золотой. Светлые цвета соответствовали идее невещественного небесного
великолепия, но они были нужны и для того, чтобы выявить находящиеся на большой
высоте разработанные формы, вопреки сверкающему и поглощающему цвет золоту,
которое их окружало. Использование более темных тонов привело бы лишь к
образованию силуэтов, тусклых островков в золотом море. Следующая зона, то есть
праздничный цикл, допускает большее богатство цвета. Но даже здесь колорит ярок
и насыщен светом, в то время как темные и мрачные тона отсутствуют. Впрочем,
эти тона господствуют в нижней зоне, где изображены фигуры святых. Здесь
цветовая гамма состоит из темно-коричневого, темно-зеленого, глубокого синего и
фиолетового тонов, гармонирующих с цветами мраморной облицовки. Таким образом,
цветовая организация мозаик помогает подчеркнуть иерархическую структуру всей
системы.
3.2.3.
Клеман Оливье. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви
(М., 1994, с. 122-123; 215.)
Оливье Клеман
родился в 1921 г., тридцати лет принял крещение в Православной Церкви, по образованию
историк, специалист по православному богословию. О. Клеман – профессор
Свято-Сергиевского богословского института в Париже, редактор французского
православного журнала, автор многих книг, среди которых «Византия и
христианство» (1964).
Камни и люди
«Бог построил
человека, чтобы человек строил для Него»: а строил церкви, но также – в их
явном или скрытом излучении – общество, культуру, «евхаристические» отношения
между людьми и между человеком и землей. Бог делается бесконечно близким в
хлебе жизни, в пище воскресения. Вокруг этого огненного зачатка должно
выстраиваться все остальное.
Когда трое собираются во имя Твое, они уже составляют
Церковь. Взгляни на сонмы собравшихся здесь: их сердца приготовили святилища,
прежде чем наши руки построили его в прославление Твоего Имени. Пусть храм из
камня будет так же прекрасен, как храм внутренний. Соблаговоли поселиться и в
том, и в этом. На наших сердцах, как и на этих камнях,– печать Имени Твоего...
Бог
построил человека, чтобы человек строил для Него. Он построил для нас мир, мы
строим Ему дом. Прекрасно, что человек может воздвигнуть обиталище для
Вездесущего...
Он кротко
обитает среди нас. Он притягивает нас узами любви. Он пребывает среди нас и призывает
нас встать на небесный путь, чтобы жить с Ним...
Бог явился
среди людей, чтобы люди встретили Его.
Тебе–
Царство небесное,нам– дом Твой!.. Здесь священник приносит хлеб во Имя Твое, и
Ты даешь Тело Твое в пищу...
Твое небо
слишком высоко, чтобы мы могли достичь его. Но здесь, в церкви, Ты Сам, столь
близкий, приходишь к нам.
Трон Твой
воздвигнут на огненном основании: кто дерзнет приблизиться к нему? Но
Всемогущество живет и пребывает в хлебе. Кто хочет, может подойти и есть.
Балаи. На освящение новой церкви.
Церковь
выражает смысл мира, сообщая миру свою прозрачность и открывая его для
таинства. И тогда мир предстает как церковь.
Церковь есть совершенный образ чувственного мира. Вместо
неба у нее божественное свя-тилище,вместо земли– неф во всей его красоте. Мир,
напротив, предстает церковью: вместо святилища– небо, а вместо нефа– чудная
земля.
Св. Максим Исповедник. Тайноводство,
3.
Точно так же
церковь выражает смысл человека: его тела, души, сердца-духа. Человек же,
становясь церковью, делает из своего тела неф посредством аскезы,
увенчивающейся претворением жизненной энергии в любовь: из души своей –
святилище, где предлагает Богу логосы, духовные сущности вещей: это есть
созерцание космоса в Боге. Наконец, он делает из духа своего жертвенник, где
все – и он сам в том числе – воссоединяется с Божеством: и это есть видение
Бога и приобщение к Богу, то есть «обожение».
Церковь подобна человеку. Вместо души у нее святилище,
вместо духа– священный жертвенник, вместо тела – неф. Она есть образ и подобие
человека, в свою очередь сотворенного по образу и подобию Божию. Через неф, как
через тело, обретается практическая мудрость; через святилище, как через душу,
совершается духовное толкование природных созерцаний; через божественный
жертвенник, как чрез духа, достигается проникновение в видение Бога.
Человек,
напротив, есть мистическая церковь. Через неф своего тела он выявляет свои
деятельные возможности.... через святилище души вручает Богу духовные сущности
вещей... через жертвенник духа взывает к тишине, которой исполнено сердце
Божественного Слова; мощный глас, превосходящий всякое знание. В церкви человек
соединяется с Божеством в той мере, в какой это дозволено ему... и получает
печать ослепительного сияния.
Св. Максим Исповедник. Тайноводство,
6.
Божественное
искусство, явившее себя в строении мира, узнается не только в солнце, луне и
звездах, но действует и на земле, в более тонкой материи. Рука Господа не
оставила в небрежении тела мельчайших животных (а тем более души), ибо в каждом
из них есть свойственная только ему черта– например, способ защиты. Не оставила
она в небрежении и земные растения, из которых каждое несет на себе печать
божественного искусства: существует множество корней, множество листьев,
множество плодов, множество разнообразных видов. Взгляни: это совпадает с тем,
как в написанных под руководством божественного вдохновения книгах Провидение
сообщает роду человеческому премудрость вышечеловеческую, сея в каждой букве
какую-либо спасительную истину в той мере, в какой эта буква в состоянии нести
ее, и начертывая таким образом как бы путь Премудрости. Ибо если мы признаем,
что автор Писания – сам Бог, то не может быть сомнения, что вопрошающий природу
и вопрошающий Писание с необходимостью придут к одним и тем же заключениям.
Ориген. Комментарий на Псалом, 1, 3.
В видимых
формах, как и в словах Писания, Слово и скрывается, и являет себя. Видимое есть
начертание невидимого. Божественная идея – logos, порождающий, структурирующий и
наполняющий энергией любую вещь, – и умолкает, и высказывается в этой вещи:
умолкает в небрежении или алчности человеческой по отношению к вещам;
высказывается, когда человек дает имена тварям как вдохновленный любовью поэт.
Материя инфравизуальна; она есть игра энергий, математическая абстракция. Форма
– свидетельство невидимого.
По отношению к Писанию мы говорим, что слова суть
облачение Христово, а их смысл – Его Тело. Слова скрывают, смысл раскрывает. То
же самое происходит в мире, где формы видимых вещей подобны облачению, а идеи,
согласно которым они сотворены,– подобны плоти: первые скрывают, вторые
раскрывают. Ибо Слово, Создатель и Законодатель мира, скрывается, открываясь, и
открывается, скрываясь.
Св. Максим Исповедник. Атbiguа.
3.2.4.
Мэтьюз Томас. Преображающий символизм византийской архитектуры
и образ
Пантократора в куполе
(Восточнохристианский
храм. Литургия и искусство. –
Центр
восточнохристианской культуры,
СПб., 1994, с. 7-14.)
Томас Мэтьюз – ведущий современный американский исследователь церковного
искусства.
Структура, которая появляется в византийской архитектуре IX в. и повторяется с небольшими
вариациями в последующие столетия, представляет собой, если выразиться совсем
просто, пространственный крест, несущий центральный купол. Крест, самый
универсальный из христианских символов, изображает победу Христа над смертью и
новую жизнь, которая утверждается благодаря этой победе. Это не есть какой-то
абстрактный знак или иероглиф – это инструмент, посредством которого
совершается личное преображение верующего в Христа. Апостол Павел выражает
позицию христианина так: «Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне
Христос (Гал. 2.19–20). А я не желаю хвалиться, разве только Крестом Господа
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе
ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь» (Гал. 6.14–15).
Входя в здание церкви, верующий телесно входил в пространство Креста.
Оказавшись внутри, он литургически приобщался к Крестной Жертве Христа. Он
склонялся для получения благословения от епископа в крестчатых одеждах, который
держал над ним драгоценный Крест, и сам многократно осенял себя крестным
знамением. Эти повторы на разных уровнях символизируют и осуществляют
отождествление верующего с распятым Христом, сформулированное св. апостолом
Павлом. Иоанн Дамаскин в VIII в. заметил:
«Сила Бога в его победе над смертью, а явлена она нам в Кресте».
Однако в византийском церковном здании доминирует не
крест, а скорее купол. Лежащий на четырех или восьми арках, на парусах или тромпах,
разделенный на восемь, девять, двенадцать или шестнадцать секций, купол
увенчивает центральный световой колодец, являющийся ядром внутреннего
пространства. Символическая интерпретация этой формы несколько сложнее. Назвать
купол просто (и в то же время вычурно) «сводом небесным» – значит дать ему
наименование, которым Карл Леман определял космологическую символику свода в
язычестве. А она, как уже было доказано, не может быть перенесена на
христианский церковный декор. Чтобы постичь христианское сооружение в
христианских же терминах, требуется известное усилие.
Поскольку мы собираемся говорить о символике
византийского купола, необходимо рассмотреть его иконографию. В византийской декоративной
программе его семантический смысл определяет поясное изображение
Христа-Пантократора. Держа Евангелие в левой руке и благословляя правой,
Христос смотрит вниз через своего рода окулюс, в обрамлении которого часто
используется мотив радуги. Интерпретация этого образа – вопрос первостепенной
важности, ведь именно это изображение господствовало в центральном нефе
византийской церкви, подобно Распятию в готическом соборе, которое было поднято
над преградой и доминировало в пространстве. Образ Пантократора в вершине
купола как бы увенчивает всю систему декора внутреннего пространства, состоящую
из сюжетных композиций и отдельных иконных образов. Однако само изображение
Пантократора привлекало мало внимания исследователей, что затрудняло его
правильное понимание.
Так как же верующий был соотнесен с этим изображением? Я
позволю себе предложить для сравнения образ, взятый из совершенно другой
культуры, как модель, которая в определенной степени поясняет назначение образа
Пантократора в куполе и, соответственно, поможет его интерпретировать. В
качестве альтернативы нашим обычным иконографическим методам рассмотрим
буддийскую и индуистскую мандолу, которую Александр Сопер в своей полемической
статье о декоре купола на Востоке сопоставил с византийской купольной
декорацией. Центральный круг мандолы занимает божество – вневременное
начало. Радиусы, идущие из круга, указывают направление четырех сторон
сотворенного мира. Очевидно зрительное сходство этой композиции и византийского
расположения образа вневременного Бога-Христа внутри круга, откуда по четырем
направлениям развертывается творение. Аналогия здесь, однако, не просто
зрительная.
По определению Джузеппе Туччи, мандола – это
«прежде всего карта космоса» или «вселенная в ее схематическом начертании,
эманации и обратном свертывании... геометрическая проекция мира, сведенная к
модели», это «космограмма».
Из сокрытого первоначала – абсолюта или единого, которое неизменно, вечно,
постоянно и всемогуще, эманирует все сущее в тварном мире. Разумеется, эта
концепция творения, совершенно отличная от христианской. В индуистской доктрине
бесконечное проецирует себя самого и посредством майи полагает пределы в мире
опыта: временные, пространственные, пределы в желаниях, в познании и рождении.
В христианской традиции, напротив. Бог творит небеса и землю, которые
совершенно отличны от Него Самого, и творит Он по свободной воле, а не по
необходимости.
Тем не менее,
в определенном смысле и византийская церковь представляет собой кос-мограмму. В
центре ее стоит Христос, который, словами апостола Павла, «есть образ Бога
невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо Им создано все, что на небесах и
на земле, видимое и невидимое... Все Им и для Него создано» (Кол. 1.15–16).
Хотя в христианстве творение – это не эманация божества, оно все же
подразумевает некое непрерывное действие, совершаемое Творцом: все тварное
возвратилось бы в небытие, если бы Бог перестал поддерживать его существование.
Именно так объясняет это Григорий Нисский: Бог есть Вседержитель, «ибо Он
держит в ладони земную сферу и измеряет рукой глубину моря. Он объемлет в Себе
всякое духовное творение, дабы все могло пребывать в бытии, управляемое Его
вседержительной властью». Эта же мысль звучит и у св. Дионисия в объяснении
Символа веры, предназначенном для мирян. Бог называется Вседержителем, «ибо все
пребывает в Нем, Он содержит и обнимает все... Он все творит из Себя, подобно
источнику, который все сохраняет и все возвращает в Себя Самого, и подобно
опоре, которая все подпирает. Он поддерживает мир, как Вседержитель... дабы
ничто не исчезло и не лишилось своего совершенного местопребывания». Нельзя не
заметить, насколько отчетливо этот же «вседержительский» аспект Творца выражен
в образе Пантократора: расположенный в вогнутой чаше свода, он буквально
охватывает пространство под ним, где находится тот, кто на него смотрит.
Пантократор в куполе – это всеобъемлющий Христос.
В мандоле
вокруг абсолютно единого показаны ступени трансформации проявления его сущности
в тварном мире. В соответствующем же ярусе византийской космограммы мы находим
небесные силы, ангелов, которые являются посредниками, передающими божественную
волю в тварный мир. Ангелы могут быть изображены в соседних куполах, как это
имеет место, например, в киевском большом соборе Св. Софии или в скромной
скальной церкви Эльмали-Килиссе в Каппадокии. Когда сооружение имеет лишь один
купол, ангелы обычно занимают зону барабана, располагаясь под изображением
Пантократора. Император Лев Мудрый определяет их как «Его слуг, чье бытие
превыше материального... посредников в отношениях человека и Бога».
Смысл мандолы,
однако, двойствен: по Туччи, он одновременно и экзо- и эзотеричен. Это не
только космограмма, но и психограмма; то есть это не просто условный чертеж
устройства мироздания и схема, указывающая, как человеку вырваться из сетей майи,
как выйти из временного мира и снова слиться со всеединым. Это средство для
осуществления преобразования. Целью является не интеллектуальное постижение
сложности мироздания, а подлинное отождествление посредника с высшим существом.
Соответственно, структура живописной мандолы, которая висит на стене,
повторяется в монументальной планировке и декорации потолков храмов, куда
верующий входит физически; кроме того, она имеет свой прообраз в реальной мандоле
мироздания, которую посвященный как бы очерчивает вокруг себя. Дж. Туччи
детально описал создание этой упрощенной мандолы: тщательность, с
которой должно быть выбрано место; очистительные ритуалы, которым неофит должен
подвергнуться, прежде чем войти в него; следование предзнаменованиям;
сосредоточение, необходимое для того, чтобы в конце концов достичь
«преображения» и перехода в иную реальность.
Именно здесь,
в том, что связано с эзотерическим смыслом мандолы, аналогии с
византийской иконографической программой наиболее убедительны. В византийской
изобразительной системе место смотрящего – внутри системы, точно так же как
место индо-буддийского неофита – внутри мандолы. Входя в церковь,
верующий «облекается во Христа» (Гал. 3.27) в совершенно буквальном смысле, он
оказывается под этим образом, как под покровом, он стоит под изображением
Христа, подчиняясь Ему. Центральный неф византийской церкви был местом,
предназначенным преимущественно для прихожан. Краутхаймер пытался представить
неф как место, отведенное для священнослужителей и императорского двора; однако
существенно то, что он не был огражденным пространством, да и византийские
истолкователи Божественной литургии не оставляют сомнений, что центральный неф
отводился мирянам. Купол венчал народ Божий, собранный для участия в литургии.
Смысл
византийского купола, таким образом, связан со смыслом помешенного в нем
изображения Пантократора, а оно, в свою очередь, по своему смыслу восходит к
литургическому действу, которое происходит под куполом. Войти в церковь–
значило поместить себя внутрь такого же преображающего символа, каким была и
рисованная мандола. И хотя Евхаристия совершенно отлична от богослужения
мандолы, ее цель – тоже преобразование, то есть преображение участника литургии
в Христа; так же как цель богослужения мандолы – трансформация в Будду
или абсолют. Именно об этой стороне литургии рассуждает Карл Юнг в своем эссе
«Преображающий символизм мессы». К сожалению, знакомство Юнга с литургией
ограничивалось латинской мессой. А преображающий символизм он рассматривает
только в плане пресуществления – постоянной темы рассуждений западных теологов.
Византийские же авторы придавали особое значение преображающему символизму,
который коренится в двойственном назначении литургии. По существу,
литургическое действие – это освящение и причастие; и то и другое имеет целью
внутреннее уподобление верующего Христу.
Первая
половина литургии – это литургия слова, руководство в божественном откровении.
Несомненно, существен тот факт, что неизменным атрибутом Пантократора является
книга Евангелия, поскольку торжественный вынос Евангелия со свечами и кадилом,
то есть Малый или первый вход – это кульминация первой половины литургии, и
происходит он прямо под куполом. Затем идет чтение Евангелия, важнейший момент
в наставлении верующих – диакон совершает его на возвышении под куполом перед
вимой. Действие чтения и сопровождающих песнопений сравнимо с очищением,
которое выполняет индийский аскет в богослужении мандолы. Вот как
говорит об этом Максим Исповедник: «Святое Евангелие вообще служит символом
свершения века сего, а в частности оно показывает совершенное уничтожение
древнего заблуждения у уверовавших. Для людей деятельного склада – это
умерщвление и конец плотского закона и мудрования, для людей же умозрительного
склада – это собирание воедино многих и различных логосов и возведение их к
всеобщему Слову, после того как прекратится естественное созерцание в его
пестроте и многообразии». Чтение Евангелия, таким образом, очищает умы верующих
и возводит их к Первопричине».
О многом, как
правило, говорят и надписи, которые иногда сопровождают изображение
Пантократора. К примеру, уникальное повторение образа Пантократора, которое
можно видеть в центральном куполе церкви Каранлик-Килисе в Гереме, обрамляет
стих из Псалтири: «Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть,
есть ли разумеющий, ищущий Бога» (Пс. 52.3) – псалом о неведении и темноте
грешников. Но это только одна сторона дела, поскольку художник повторил образ
Пантократора в другом куполе, находящемся прямо над алтарем. Тут Христос
открывает книгу, так что виден текст: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8.12) – слова, которые
обычно и воспроизводятся, если Евангелие изображено открытым. Пантократор в
куполе – это тот, кто просветляет, кто ведет следующих за ним по пути Света.
Вторая
половина литургии – это Евхаристия, кульминация которой – причастие,
принимаемое верными под куполом на возвышении перед вимой. Именно в причастии
христианин подходит в этом мире ближе всего к осуществлению идеи христианской
жизни, к уподоблению себя Христу и отождествлению с Ним. Этот преображающий
символизм наиболее важен для понимания смысла церковного здания и образа
Пантократора. По Максиму Исповеднику, «святым причастием пречистых и
животворящих Тайн [показывается] общность и тождество с Богом по
сопричастности, воспринимаемые через наше подобие [Ему]; посредством причащения
человек удостаивается стать из человека богом... [Иисус Христос] безусловно
преображает нас сообразно Самому Себе, уничтожая в нас признаки тления и даруя
нам первообразные тайны, являемые здесь посредством чувственных символов».
Николай
Кавасила указывает, что в отличие от приема обычной пищи, которая превращается
в тело вкусившего, в таинстве преобразование происходит иначе: тот, кто вкушает
Тело и Кровь Христовы, преображается во Христа, ибо «высшая и божественная
природа побеждает земную». Говоря об этом, Николай Кавасила прибегает к очень
выразительной метафоре: «Когда железо помещено в огонь, оно становится огнем;
огонь, однако, не приобретает свойств железа; и так же, как при взгляде на
раскаленное добела железо нам кажется, что это огонь, а не металл, ибо все
признаки железа были разрушены действием огня, так и, увидев Церковь Христову,
единую с Христом и причастную Его святому Телу, мы не увидели бы ничего иного,
кроме Тела Господня». Это мистическое преображение христианина в более высокое
и совершенное существо во Христе есть действие, которое связано с образом
Христа в куполе. Христос в куполе – это целое, совершенное существо, которым
взирающий на Него становится в причастии.
Цитата из
Кавасилы напоминает и о том, что христианское преображение – соборно; речь идет
не об индивидууме, а о «Церкви Христовой» и ее единении с Христом. Вот почему
причащение предваряется возгласом священника: «Святая – святым», на который
следует ответ: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, слава Бога-Отца».
Максим Исповедник толкует этот стих как предзнаменование будущего единства всей
Церкви во Христе. Надпись вокруг изображения Пантократора иногда соотносится с
этим соборным смыслом таинства, например, в церкви Перивлепты в Мистре:
«Утверди тех, кто верует в Тебя, Господи, Церковь, которая утверждена на Твоей
честной Крови». В Св. Софии в Трапезунде надпись, обрамляющая изображение
Пантократора, также намекает на воздвижение Церкви Нового Иерусалима: «С небес
призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти,
дабы возвещали на Сионе имя Господне, и хвалу Его – в Иерусалиме» (Пс.
101.20-22).
Этот процесс
преображения – ключ к символике византийской церкви. Византийская церковь
представляла собой особый род пространства, строго центрично прилегающего к
вертикальному столбу света под чашей купола. Купол очерчивал мистическое
пространство, где человек предстоял Богу. Здесь верующий был в действительном
центре творения, на одной вертикальной оси со своим Господом, который находился
прямо над его головой. Сюда входили не для того, чтобы решать загадки
иконографии, а чтобы быть преображенными или восхищенными. Здесь, должно быть,
испытывали чувство трепета, однако в конечном итоге это было ощущение не ужаса,
но единения со Христом. Вспомним, что один из основных эпитетов Христа в
Евангелии – philanthropos или «человеколюбец». Именно в этом ключе выдержано
описание Николаем Месаритом образа Пантократора в константинопольской церкви
Св. Апостолов. Мы видим лишь полуфигуру, сказано у него, «поскольку Он
пребывает на небе в лоне Отца Своего и желает соединиться с людьми на земле
вместе со Своим Отцом, ибо сказано: "Я и Отец Мой придем и обитель у него
сотворим" (Ин. 14.23). Потому Он и виден, говоря словами Песни Песней, что
Он смотрит через окно, наклоняется вниз к центру – через обрамление,
расположенное у верха купола, подобно пылким возлюбленным». В этом смелом
сравнении, заимствованном из Песни Песней, Месарит описывает Христа, Который
взирает на людей через окно, как горящего любовным желанием соединиться с
возлюбленной. Христос в куполе – это любящий человечество Бог, с Которым можно
соединиться в Божественной литургии. Комментарий Максима Исповедника
завершается следующими словами: «Им (причащающимся) дано быть и называться
богами, поскольку весь Бог всецело наполнил их, не оставив в них ничего, что
было бы лишено его присутствия».
Говоря о
символическом смысле церковного здания, нельзя обойти психологическое значение
этого процесса. В терминологии Юнга мандола есть символ слияния в одно
целое, психологическое выражение всеобщности сущего, целостности, к которой
стремится все, Поскольку Христос – это совершенное существо, которым и должен
стать христианин, Пантократор в куполе – своего рода христианская мандола.
Остается лишь сожалеть, что Юнг, чьи познания по истории религии простирались
от Китая до доколумбовой Америки, был, по-видимому, не знаком с этой стороной
восточного христианства.
3.2.5.
Нюстрем Эрик. Библейский словарь
(скиния, Иерусалимский храм)
(Торонто, 1989, с.418–420; 478–485.)
Эрик Нюстрем (+1897)
- шведский исследователь Библии, автор «Библейского словаря», изданного в 1868,
1887 и 1896 гг.
Скиния (евр. – мишкан)
Скиния, или
шатер (Евр. 11.9), – слово, которое преимущественно употреблялось для
обозначения той палатки, которую Моисей по повелению Божию устроил в пустыне в
качестве помещения для богослужений. Эта скиния называется также «скинией
откровения» (Исх. 38:21) и «скинией собрания», потому что народ собирался
вокруг нее для богослужения.
По образцу,
указанному Господом Моисею (Исх. 25.9,40; 26.30; Деян. 7.44; Евр. 8.5), скиния
была построена в пустыне у Синая под руководством Веселиила и Аголива (Исх.
31.2, 6; 35.30, 34) из драгоценных материалов, большую часть которых народ
вынес из Египта (Исх. 3.21 и дал.; 12.35 и дал.); одного только золота было 29
талантов и 730 сиклей, а серебра 100 талантов и 1775 сиклей (Исх. 38.24 и
дал.). Дары израильтян для скинии были так обильны, что собранного было более,
чем нужно (Исх. 25; 35; 36.3 и дал.). Скиния представляла продолговатый
прямоугольник, 15 метров длины, 5 м ширины и 5 м вышины (Исх. 26.15 и дал.;
36.20 и дал.). Продольные стороны были обращены на юг и север, вход был с
восточной стороны. Продольные и задние стены были сделаны из дерева ситтим,
обложены тонкими листами золота и прикреплены шипами к литым серебряным
подножиям. Наверху они были соединены шестами из того же дерева, обложенными
золотом; эти шесты вкладывались в золотые кольца на концах вертикально стоявших
брусьев. На восточной стороне не было брусьев, а только пять столбов из дерева
ситтим, обложенных золотом, снабженных золотыми крючками и утвержденных на
медных подножиях. Составленный таким образом остов покрывали четырьмя
различными покрывшгами. Первое и самое внутреннее состояло из тонкой льняной
ткани, искусно вышитой изображениями херувимов с отливом голубого, пурпурного и
червленого цвета. Следующие покрытие было из лучшей козьей шерсти, третье из
красных бараньих кож и четвертое или верхнее из более грубых и поэтому менее
подверженных порче синих кож. На пяти столбах, которые стояли перед входом с
восточной стороны, висела богато вышитая завеса шириною в 20 локтей из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и белого виссона (Исх. 27.16).
Внутри скиния
была разделена на две части четырьмя столбами из дерева ситтим, обложенными
золотом, подобно первым, но утвержденными на подножиях из серебра вместо меди
(Исх. 26.32; 36.36); на этих столбах висела такая же завеса, как только что
упомянутая (Исх. 26.31 и дал.;3б.35; Евр. 9.3). Оба внутренние помещения,
вероятно, были разделены так, как и в храме: 2\3 скинии были заняты передним
помещением, называемым святое, а одна треть – задняя – святая святых;
следовательно, святое было длиною 10 метров, шириною 5 метров и высотою 5
метров. Святая святых представляла помещение в форме куба с одинаковой длиной,
шириной и высотой в 5 метров. Ни святое, ни святая святых не имели окон, чем объясняется
постоянная необходимость в освещении во время богослужения.
Скиния была
окружена двором в 50 метров длины и 25 ширины, расположенным с запада на восток
и окруженным завесами или полотнищами, повешенными на столбах, обложенных медью
в 7,5 м вышины, с перекладинами и крючками из серебра. Эти столбы были
утверждены на медных подножиях по 20 на продольных сторонах и по 10 на
поперечных (Исх. 27.9 и дал.; 38.9 и дал.). Завесы двора были сделаны из такой
белой крученой пряжи, кроме завесы у входа, на восточной стороне, которая была
сделана из голубой, червленой и пурпурной шерсти и крученого виссона (Исх.
27.16; 38.18). На этом дворе в западном направлении стояла скиния; ближе ко
входу – жертвенник всесожжения, а между жертвенником и скинией – умывальник
(Исх. 40.6,7, 29,30).
В Скинии
находились различные священные предметы. За первой завесой, в святом, куда было
позволено входить только священникам (Евр. 9.6), помещались жертвенник курения,
стол для хлебов предложения и светильник. Жертвенник курения стоял посредине
перед завесою (Исх. 30.6 и дал.; 40.26 и дал.). На северной стороне от
жертвенника курения, т.е. направо от входа, стоял стол для хлебов предложения
(26.35; 40.22 и дал.); на южной стороне, т.е. налево – золотой светильник
(26.35; 40.24). За второй завесой, в святая святых, куда входил только
первосвященник и, притом, однажды в год (Евр. 9.7), стоял ковчег Завета.
В первый день
первого месяца второго года после выхода из Египта скиния была воздвигнута
(Исх. 40.17) и вместе со всеми принадлежностями торжественно помазана священным
елеем (ст. 9 и дал.), после чего Слава Господня в облаке опустилась и наполнила
скинию (40.34). О ее освящении кровью (Евр. 9.20) упоминается: в Исх. 29.36 и
дал.; Лев. 8.15,18.
Предназначенная
для того, чтобы странствовать с Израилем по пустыне, скиния имела такое
устройство, что ее легко было разбирать и носить, а также легко ставить снова.
Попечение о ней и ее переноска были доверены левитам. Облачный столп был
водителем по пустыне и, когда он поднимался, израильтяне отправлялись в путь
(Исх. 40.36; Чис. 9.17 и дал.); когда столп останавливался, израильтяне
воздвигали скинию посреди своих шатров, которые разбивались вокруг нее
четырехугольником под различными знаменами колен (Чис. 2).
После того,
как израильтяне осели в стране обетованной, скиния была поставлена в Си-ломе
(И. Нав. 18.1), где она и оставалась во все время Судей (19.51). Изредка о ней
упоминается под названием дома Божия (Суд. 18.31), дома Господня (1 Цар.
1.24;3.15) или храма Господня (1.9; 3.3). Во время Самуила ковчег был взят
оттуда и перенесен в Кириафиарим (1 Цар. 7.1), а во время Саула скиния стояла в
Номве (1 Цар. 21.1 и дал.). Когда Давид взял ковчег в Иерусалим, то он устроил
для него новую скинию (2 Цар. 6.17; 1 Пар. 15.1). Давидова скиния упоминается в
нескольких местах (2 Цар. 7.2; 12.20; 15.25; 3 Цар. 1.39; 2.28); в то же время
в царствование Давида и Соломона древняя скиния находилась в Гаваоне, где
регулярно приносились жертвоприношения (1 Пар. 21.29); следовательно,
богослужение одновременно совершалось в двух святилищах. Так, например, в 1
Пар. 16 говорится, что Давид приносил жертвы в той скинии, которую он поставил
в Иерусалиме, где и совершалось богослужение (ст. 1 и дал.), но также, что он
установил жертвоприношение на жертвеннике перед Господом в скинии в Гаваоне
(ст. 39 и дал.). В 3 Цар. 3 рассказывается, что Соломон, принесши жертву в
Гаваоне, «где был главный жертвенник», и получивши там откровение от Господа
(ст. 4 и дал.), пошел в Иерусалим и совершил жертвоприношение перед ковчегом
(ст. 15; срав. 2 Пар. 1.3 и дал.). Когда был построен храм, Соломон повелел
принести старую скинию вместе с ее принадлежностями в Иерусалимский храм (ЗЦар.
8.4; 2 Пар. 5.5), где все это хранилось, как священное воспоминание, по всей
вероятности, до самого разрушения города Навуходоносором.
Храм (евр. – бейт-микдаш, т.е. дом
святилища)
Первоначально
это слово обозначало отделенный круг для упражнения в искусстве гадания, затем
вообще помещение, отделенное для религиозных целей, или здание, посвященное
божеству. Этим словом в Библии иногда называются те капища, которые язычники
строили для своих богов, например, храм (капище) Навуходоносора в Вавилоне (2
Пар. 36.7); храм Артемиды в Ефесе (Деян. 19.27), как и маленькие серебряные храмы,
которые были копией главного (Деян. 19.24). Однако же идольские храмы часто
называются просто домами, например: «дом Дагона» (1 Пар. 10.10), дом бога
Нисроха (4 Цар. 19.13) и т.д. Этим же словом также назывались те помещения,
которые израильтянами были посвящены Иегове. Скиния, например, называется домом
Господним (1 Цар. 1.7) и храмом (ст. 9; 3.3), также и то святилище, которое
было построено в Иерусалиме (3 Цар. 7.21; 4 Цар. 24.13).
Иерусалимский
храм (евр. хекал, т е. чертог, как в Притч. 30:28) называется в Ветхом Завете
часто домом Господним (ЗЦар. 8.10; 2 Пар. 3.1;5.1), также домом Божиим (Езд.
1.4; 3.8) и храмом Господним (Срав. Езд. 3.6,11; Агг. 1.2; 2.15). В Новом
Завете также встречаются все эти три наименования Иерусалимского храма: «храм
Божий» (Мф. 26.61); «храм Господень» (Лк. 1.9); и «дом Божий» (Мф. 12.4); «дом
Отца Моего» (Ин. 2.16) и также просто «храм» (Мф. 23.16; Лк. 11.51; греч.-дом).
Обыкновенное наименование храма в истории Иисуса и апостолов – «святилище»,
греч.-иерон (Мф. 4.5; Деян. 2:46 и т.д.), изредка «храм Божий» (Мф. 21.12). В
новозаветных оборотах речи подлинное (греч.) слово – храм (наос) обыкновенно
обозначает самое здание храма (Мф. 23.35; 27.51; Лк. 1.9) в то время, как более
общее слово «хиерон» – святилище употребляется для обозначения принадлежащих к
храму притворов; следовательно, повсюду, где говорится о том, что Иисус или
апостолы (которые не были еврейскими священниками) входили в храм, учили в
храме и т.д. (Мф. 21.12; Лк. 24.53; Деян. 21.26), в переводе это различие
исчезает.
Храм является
символом: 1) храма Тела Иисуса Христа (Ин. 2.19 и дал); 2) тел и личностей
христиан, как храма Божия и обители Святого Духа (1 Кор. 3.16 и дал.; 6.19, 2
Кор 6.16); 3) христианской Церкви (Еф 2.21; Откр. 3.12,2 Фес. 2.4); 4) неба –
«храм Божий на небе» (Откр. 7.15;11–19; 16-17).
В Новом
Иерусалиме св. Иоанн не видел храма, ибо «Господь Бог Вседержитель – храм его,
и Агнец» (Откр. 21.22).
Иерусалимский храм
Со времени
Соломона в Иерусалиме были один за другим три храма, которые нужно различать.
Первый храм, построенный Соломоном, существовал с 1004 до 588 г. до Р.Хр. Когда
Давид решил построить дом Иегове, то Бог через пророка Нафана удержал его от
этого (2 Цар. 7); тогда Давид собрал материал и драгоценности для постройки
храма и это дело завещал своему сыну Соломону, когда тот воцарится (1 Пар. 22;
28; 29). Соломон тотчас же по воцарении приступил к делу; он заключил союз с
тирским царем Хирамом, который доставлял ему кедровое и кипарисовое дерево и
камень с Ливана, а также послал искусного художника Хирама, чтобы руководить
работами (3 Цар. 5; 2 Пар. 2), так что храм начали строить уже на 4 году
царствования Соломона, через 480 лет после исхода евреев из Египта (3 Цар.
6.1), или в 1011 г. до Р.Хр., на холме Мориа в восточной части Иерусалима, на
том месте, которое Давид по прекращении моровой язвы, предназначил для этой
цели, поставив там жертвенник и совершив жертвоприношение (1 Пар 21.18 и дал.;
22.1). Здание было готово через семь с половиною лет в 11 году царствования
Соломона, т.е. в 1004 г до Р.Хр. (3 Цар. 6.37 и дал.), после чего храм был
освящен с большим торжеством (3 Цар. 8.2 Пар. 5–7).
Для
построения храма и его частей Давид оставил Соломону данный ему Богом образец
«все сие в письмени от Господа» (1 Пар. 28.11 и дал.); вообще же храм был
устроен по образцу скинии, но только в гораздо большем размере, что
усматривается из подробных описаний в 3 Цар. 6; 7.13 и дал.; 2 Пар 3.4 и дал.
Собственно
храм представлял прямоугольное здание из тесаных камней (30 м длины, 10 м
ширины и 15 м высоты во внутренней его части, с плоской кровлей из кедровых
бревен и досок. Посредством промежуточной перегородки из кедрового дерева дом
был разделен на 2 помещения: внешнее – святое, 20 м длины, 10 м ширины, 15 м
высоты и внутреннее – святая святых, 10 м длины, ширины и высоты, так что
сверху святая святых оставалось 5 м до потолка храма, это помещение называлось
горницами (1 Пар. 28.11; 2 Пар. 3.9). Изнутри стены были обшиты кедровым
деревом с резными изображениями херувимов, пальм, плодов и цветов, сплошь
обложенных золотом (3 Цар. 6.22). Потолок также был обшит кедровым деревом, а
пол – кипарисовым: и тот и другой были обложены золотом. Дверь с дверцами из
оливкового дерева, украшенными изображениями херувимов, пальм, цветов и
обложенная золотом, представляла вход в святая святых. Перед этим входом
висела, подобно как и в скинии, завеса из искусно сделанной многоцветной ткани
(2 Пар. 3.14), прикрепленная, быть может, к тем золотым цепям, которые были
протянуты перед входом в святая святых (Давир) (3 Цар. 6.21). Входом в святое
служила двухстворчатая дверь из кипариса с косяками из оливкового дерева,
дверцы которой могли складываться и бьии украшены подобно двери в святая
святых. Том 1.

ПЛАН ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА ВО ВРЕМЕНА
ХРИСТА
|
1 – Святая святых; 2 – Святое; 3 – Жертвенник всесожжения; 4 – Умывальница; 5 – Двор священников; 6 – Двор израильтян; 7 – Ворота в двор израильтян; 8 – Двор женщин; |
9 – Никаноровые ворота; 10 – Двор язычников; 11 – Восточные ворота; 12 – Притвор Соломонов; 13 – Царский портик; 14 – Внешние стены; 15 – Комнаты для различных целей. |
Перед зданием
храма находился притвор 10 метров ширины и 5 метров длины (3 Цар. 6–3; 2 Пар.
3.4), перед ним или при входе в него стояли два медных столба по имени Иахин и Воаз,
каждый по 9 м вышиною, с капителями, искусно сделанными с углублениями и
выпуклостями, и украшенные гранатовыми яблоками, сетками плетеной работы и
лилиями. Высота этих столбов была по (3 Цар. 15 и дал.; Иер. 52.21 и дал.), 18
евр. локтей, не считая капителей в 5 локтей (2,5 м); а по (2 Пар. 3.15) высота
их, не считая капителей, составляла 35 локтей, наконец, по (4 Цар. 17.18) – 3
локтя. Высота этих столбов, вероятно, была та же, что и притвора; о ней не
говорится в (3 Цар. 6), но во (2 Пар. 3.4) она указана в 120 евр. локтей (60
м); некоторые видят в этом указание на башню, поднимавшуюся высоко над
столбами; другие предполагают здесь описку. Вокруг продольной задней стены
самого храма была пристройка в три этажа с комнатами для принадлежностей богослужения
и запасов; она соединялась с храмом таким образом, что потолочные балки
пристройки были укреплены на выступах стен храма; эти выступы в каждом этаже
делали стены храма на локоть тоньше, а комнаты настолько же шире; поэтому
нижний этаж пристройки был пяти локтей ширины, средний шести и верхний семи.
Вышина каждого этажа была 2,5 м (3 Цар. 6.6 и дал.); поэтому стены самого храма
значительно возвышались над боковой пристройкой, и на них было достаточно места
для окон, через которые свет проникал в святое (3 Цар. 6.4). Святая же святых,
подобно скинии, была темной. В боковую пристройку входили через дверь на южной
стороне, откуда витая лестница вела в верхние этажи (3 Цар. 6.8).
Далее, вокруг
храма были построены притворы, из которых ближайший к храму, внутренний двор
для священников, был построен из 3 рядов плитняка и одного ряда кедровых
брусьев (3 Цар. 6.36); вокруг него был внешний притвор, или большой двор для
народа, закрывавшийся выложенными медью воротами (2 Пар. 4.9). Полагают, что
это тот притвор, который был увеличен Иосафатом и в (2 Пар. 20.5) называется
новым двором. Из (Иер. 36.10), где внутренний двор называется «верхним двором»,
видно, что он был расположен выше внешнего; по всей вероятности, и самый храм
был расположен выше верхнего двора, так что все здание было построено
террасами. Из (4 Цар. 23.11; Иер. 35.2,4; 36.10) видно, что большой двор был
обстроен комнатами, портиками и т.п. для различных надобностей. О размерах
внешнего двора ничего не сказано в Библии; вероятно, он был в два раза больше
внутреннего двора, который равнялся 300 фут. (100 м) длины и 150 фут. (50 м)
ширины, следовательно двор был 600 фут. длины и 300 фут. ширины (200×100
метров).
В святая
святых храма был ковчег Завета, поставленный между изображениями херувимов,
которые были 10 локтей (5 м) вышины и сделаны из обложенного золотом оливкового
дерева с крыльями в 2,5 м длины, распростертыми так, что одно крыло каждого
херувима касалось боковых стен, два же других крыла соединялись концами над
ковчегом. Херувимы стояли на ногах с лицами, обращенными к святому (3 Цар. 6.23
и дал.; 2 Пар. ЗЛО и дал.). В святом стояли следующие предметы: жертвенник для
курения из кедрового дерева, покрытого золотом, 10 золотых светильников, каждый
с 7 лампадами, 5 по правую и 5 по левую сторону перед задним отделением храма,
и стол для хлебов предложения с их принадлежностями (3 Цар. 7.48 и дал.). По
мнению некоторых, в храме находилось 10 столов для хлебов предложения.
На внутреннем
дворе стоял медный жертвенник всесожжения 5 метров в высоту (2 Пар. 4.1) с его
принадлежностями: тазами, лопатками, чашами и вилками (3 Цар. 7.40,45,45; 2
Пар. 4.11,16); затем большое медное море, или водоем, стоявшее на 12 медных
волах (ЗЦар. 7.23 и дал.; 2 Пар. 4.2 и дал.) и на 10 искусно сделанных
подставах с 10 медными умывальниками для ополаскивания жертвенного мяса (3 Цар.
7.27 и дал.; 2 Пар. 4.6).
Когда храм
был готов, его освятили великолепным торжественным жертвоприношением. Так как
медного жертвенника не хватало для размещения жертв, то Соломон освятил среднюю
часть двора перед храмом, как большее место для жертвоприношения (ЗЦар. 8.64; 2
Пар. 7.7). Царь принес здесь в жертву 22 000 волов и 120 000 овец (2 Пар.
7.15). Преклонив колена на возвышении из меди, он призвал благословение Божие
на храм и на всех молящихся в нем (3 Цар. 8; 2 Пар. 6). После молитвы сошел с
неба огонь, поглотил всесожжение и жертвы и слава Господня наполнила дом (2
Пар. 7.1).
Храм
Соломонов был ограблен уже во время царствования его сына Ровоама египетским
царем Сусакимом (3 Цар. 14.26), а остальное серебро и золото царь Аса послал в
дар сирийскому царю Венададу, чтобы склонить его заключить с ним союз против
Ваасы, царя израильского (3 Цар. 15.18,19). Так исчезла слава храма и
внутренняя и внешняя! Впоследствии разрушения храма чередовались с его
восстановлениями. Храм был ограблен израильским царем Иоасом (4 Цар. 14.14),
обобран иудейским царем Ахазом, чтобы подкупить Феглаф-фелласара (4 Цар. 16:8),
затем Езекиею, для уплаты дани Сеннахириму (4 Цар. 18.15 и дал.).
Восстановления же производились Иоасом (4 Цар. 12.5 и дал.), Иоафамом (4 Цар.
15.35). Манассия окончательно осквернил храм, поставив в нем истукана Астарты,
идольские жертвенники и коней, посвященных солнцу, и поселив там блудниц (4
Цар. 21; 23.7,11); все это было удалено благочестивым Иосиею. Вскоре после
этого пришел Навуходоносор и вывез все сокровища храма (4 Цар. 24.13) и,
наконец, когда Иерусалим был разрушен его войсками, сгорел также и храм
Соломонов до самого основания (4 Цар. 25.9; 2 Пар. 36.19) в 588 г. до Р.Хр.
после 416-летнего существования.
Храм Зоровавеля
Когда
персидский царь Кир в 536 г. до Р.Хр. разрешил евреям, жившим в Вавилоне,
возвратиться в Иудею и построить храм в Иерусалиме, он выдал им священные сосуды,
которые Навуходоносор принес в Вавилон; кроме того, обещал им поддержку и
повелел своим подчиненным всячески содействовать евреям в этом деле (Езд. 1.2 и
дал.; 6.3 и дал.). Тогда Тиршафа, т.е. персидский правитель Иудеи, Зоровавель и
первосвященник Иисус, тотчас же по возвращении в опустошенный Иерусалим, начали
постройку жертвенника всесожжения на его прежнем месте и восстановили
жертвенное богослужение (Езд.3:1 и дал.). Они достали рабочих, привезли
кедрового дерева с Ливана и таким образом положили вторично основание храму во
втором месяце второго года после возвращения из Вавилона, в 534 г. до Р.Хр.
(Езд. 3:7 и дал.). Многие из стариков, видевших первый храм, при этом громко
плакали, но многие также радостно восклицали. В это время вмешались самаряне и
своими интригами добились того, что работы по восстановлению храма были
приостановлены на 15 лет, до второго года царствования Дария Гистаспа в 520 г.
до Р.Х. (Езд. 4.24). Этот царь, ознакомившись с повелением Кира (Езд. 6.1 и
дал.), отдал вторичное приказание относительно постройки храма и необходимой
материальной поддержке (Езд. 6.6 и дал.). Ободренные пророками Аггеем и
Захарией, князья и народ поспешили с продолжением работ и храм был готов в 12
месяце 6 года царствования Дария в 516 г. до Р.Х., после чего он был освящен
жертвою всесожжения, состоявшей из 100 волов, 200 овнов и 400 ягнят, и жертвою
за грех, состоявшей из 12 козлов. После этого закололи пасхальных агнцев и
отпраздновали праздник опресноков (Езд. 6.15 и дал.).
По повелению
Кира, этот храм должен был иметь 60 локтей в вышину и 60 в ширину,
следовательно, по размеру значительно больше Соломонова храма (Езд. 6.3),
однако же из Езд. 3.12 и Агг. 2.3 видно, что он многим казался незначительным в
сравнении с первым, хотя не следует понимать, что здесь имеются в виду его
внешние размеры. По роскоши и славе он не мог сравниться с первым храмом, ибо в
нем не было ковчега Завета и, следовательно, также отсутствовала «шехина», как
видимый знак божественного присутствия. Святая святых была пуста; на месте
ковчега был положен камень, на который первосвященник ставил кадильницу в
великий день очищения. В святом был только один золотой светильник, стол для
хлебов предложения и жертвенник кадильный, а на дворе жертвенник всесожжения,
сложенный из камня (1 Мак. 1.21 и дал.; 4.45 и дал.). Аггей утешал народ тем,
что придет время и слава этого храма превзойдет славу прежнего, и что здесь
Господь даст мир (Агг. 2.9); это пророчество сбылось в 3-м храме (который был
увеличенной копией второго), ибо в нем учил Христос. Второй храм также имел
притворы с комнатами, колоннадами и вратами (1 Мак. 4.38).
Этот храм был
ограблен Антиохом Епифаном и осквернен идолопоклонством (1 Мак. 1.21 и дал.;
1.46 и дал.; 4.38), так что даже «мерзость запустения» – жертвенник, посвященный
Юпитеру Олимпийскому, был поставлен на жертвеннике всесожжения в 167 году до
Р.Х. (1 Мак. 1.54; 2 Мак. 6.2). Храбрые Маккавеи восстали за свободу, изгнали
сирийцев, восстановили святилище, после 3-летнего унижения, вновь освятили храм
(1 Мак. 4.36 и дал.) и укрепили гору храма стенами и башнями (1 Мак. 4.60;
6.7).
В память
восстановления храма был установлен 25 декабря 164 г. до Р.Х. Иудою Маккавеем и
обществом израильским новый праздник обновления (храма), евр. ханука, причем
его должно было праздновать в течение 8 дней после 25-го декабря. Он
праздновался еще во времена Иисуса Христа и упоминается у (Ин. 1.22).
Впоследствии
этот храм постигли новые удары, например, когда Помпей после 3-месячной осады
взял его в самый день очищения и на его дворах произвел ужасное кровопролитие,
хотя без ограбления; или когда Ирод Великий с римскими войсками взял его
штурмом и сжег некоторые из надворных построек.
Храм Ирода
Храм
Зоровавелев показался тщеславному Ироду Великому слишком незначительным и он
решил перестроить его, придав ему большие размеры. Он начал эту работу на 18
году своего царствования, приблизительно за 20 лет до Р.Х., или в 735 г. Рима.
Самое здание храма было готово через полтора года, а дворы – через 8 лет, но
внешние пристройки сооружались в продолжение целого ряда лет. Во время
всенародного выступления Иисуса Христа срок постройки храма определялся в 46
лет (Ин. 2.20), т.е. с 20 г. до Р.Х. по 26 г. после Р.Х. Вся работа была
закончена только во время Агрип-пы 2-го (64 г., после Р.Х.) – следовательно,
только за 6 лет до окончательного разрушения. Так как евреи не допустили, чтобы
храм Зоровавелев был сразу разрушен, то Ирод, уступая их желанию, убирал части
старого храма по мере постройки новых, почему этот храм долгое время назывался
«вторым храмом», хотя увеличенным и украшенным. Этот храм Ирода требует однако
же особенного внимания, так как он украшал Иерусалим во дни нашего Спасителя.
Он учил на его дворах и предвозвестил его гибель, когда ученики указывали Ему
на роскошь и драгоценности храма (Лк. 21.5 и дал.). Этот храм, который со
своими дворами занимал площадь, равную одной стадии (Иосиф Флавий) или 500 кв.
локтей, т.е. 250 м2 (Талмуд), т.е. почти то же пространство, что и
теперешняя площадь. Храм, был построен террасами, так что каждый из внутренних
дворов был расположен выше внешнего, а самый храм возвышался на западной
стороне и, обозреваемый из города и его окрестностей, представлял
величественное зрелище. «Посмотри, какие камни и какие здания», – сказал Иисусу
один из Его учеников (Мк. 13.1). Внешний двор, который был доступен также для
язычников и нечистых, был окружен высокой стеной с несколькими воротами; он был
вымощен разноцветными плитами; с трех его сторон шла двойная колоннада, а с
четвертой, южной стороны – тройная колоннада под кедровой крышей, которая
поддерживалась мраморными колоннами в 25 локтей вышиною. Эта южная колоннада,
самая лучшая и большая, называлась Царским портиком. Восточная была названа
притвором Соломоновым (Ин. 10.23), вероятно, как сохранившаяся с более древних
времен. На этом внешнем дворе продавали волов, овец и голубей и сидели
меновщики, предлагавшие деньги для размена (Мф. 21.12; Ин. 2.14). С внутренней
стороны этот двор был отделен от внутренних дворов храма каменным парапетом в 3
локтя вышиною и террасой в 10 локтей шириною. На этом парапете в нескольких
местах были помещены доски с греческими и латинскими надписями, которые
воспрещали неевреям под страхом смертной казни проходить дальше. Такая доска из
Иродова храма недавно найдена в Иерусалиме с греческой надписью следующего
содержания; «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды и каменной
стены вокруг храма. Кто будет застигнут в нарушении этого правила, пусть сам
несет ответственность за смертную казнь, которая за это следует». Даже сами римляне
с уважением относились к этому запрещению. До какой степени евреи проявляли
фанатизм по отношению к преступившим это запрещение, указывает случай с Павлом
и Трофимом (Деян. 21.28; срав. Еф. 2.14 о преграде). Самое место храма внутри
этой преграды было со всех сторон окружено стеною, которая с внешней стороны
была 40 локтей (20 метров) вышины, а с внутренней только 25 локтей (12,5 м)
вследствие уклона горы, так что туда должно входить по лестницам. Сперва
вступали на двор женщин, имевший 135 кв. локтей (67,5 м2).
Главные из
ворот, которые вели во двор женщин, были восточные или Никаноровы ворота,
покрытые коринфскою медью, которые назывались также красными (Деян. 3.2, 10).
(Некоторые полагают, что эти ворота были во внешней восточной стене.) Со двора женщин
попадали через несколько ворот на расположенный выше вокруг здания храма
большой двор – 187 локтей длины (с востока на запад) и 135 локтей ширины (с
севера на юг). Часть этого двора была ограждена и называлась двором израильтян;
внутренняя его часть называлась двором священников; здесь стоял большой
жертвенник всесожжения 30 локтей длины и ширины и 15 локтей высоты и
умывальница, предназначенная для священников, а дальше, в западной части со
входом с востока, находилось само здание храма. Величину и великолепие этих
дворов с их пристройками, стенами, воротами и колоннадами, кроме Талмуда,
блестяще описал Иосиф Флавий. О царском портике, который тянулся вдоль южного
края храмовой горы с востока на запад, он говорит так: «Это было самое
замечательное произведение искусства, которое когда-либо существовало под
солнцем. Кто смотрел с его вершины вниз, у того кружилась голова от высоты
постройки и глубины долины. Портик состоял из четырех рядов колонн, которые от
одного края до другого стояли друг против друга, все одинакового размера.
Четвертый ряд до половины был вделан в окружавшую храм стену и состоял,
следовательно, из полуколонн. Три человека требовалось для того, чтобы
обхватить одну колонну; высота их была 9 метров. Число их было 162 и каждая из
них оканчивалась коринфской капителью удивительной работы. Между этими 4 рядами
колонн было три прохода, из которых два крайние были одинаковой ширины, каждый
по 10 метров, имея 1 стадию длины и более 16 метров вышины. Средний проход был
наполовину шире боковых и в 2 раза выше их, высоко возвышаясь над боковыми
сторонами». Предполагают, что имеется в виду в (Мф. 4.5), как «крыло храма».
Внешняя
стена, которая окружала все дворы и возвышалась высоко над уровнем земли,
представляла особенно с западной и южной сторон замечательнейший вид глубоких
долин у подножия горы. Раскопки последних лет показали, что южная стена храма,
которая возвышается на 20–23 метров над теперешней поверхностью, тянется сквозь
массы развалин до 30 метров в глубину под землей, – следовательно, эта стена
возвышалась на 50 метров выше горы, на которой она была построена. Вполне
понятно, каких огромных трудов стоило возведение таких стен и планировка
храмовой горы, особенно когда подумаешь о том, как огромны те камни, из которых
складывались эти стены. Если посмотреть на большие каменные плиты, например, в
«стене плача» или на «арке Робинзона» и подумать о том, что здесь стена
спускается глубоко под землю, пока не достигнет монолитной скалы, то не
удивляешься изумлению, которое выражают Иосиф Флавий и ученики Христа.
Само здание
храма было расположено 12 ступенями выше двора священников, в северовосточной
части храмовой горы; оно было построено на новом фундаменте из огромных белых
мраморных плит и богато выложено золотом внутри и снаружи. Его вышина и длина
вместе с притвором достигали ста локтей, ширина с севера на юг от 60 до 70
локтей; на каждой стороне притвора были выступы в 20 (или 15) локтей, так что
ширина его достигала 100 локтей. Притвор внутри был 10 локтей в глубину (с
востока на запад), 50 локтей ширины и 90 высоты, с порталом в 70 локтей вышины
и 25 локтей ширины без дверей, внутри сплошь покрытый золотом. Храм, как и
прежний, был разделен на святое и святая святых. Портал имел две открытые
двухстворчатые двери 55 локтей вышины и 16 локтей ширины, они служили входом в
святое; над ними было украшение в виде огромной золотой виноградной лозы с
кистями в человеческий рост.
При входе
висела вавилонская завеса, сотканная из священных цветов. В святом, которое
было 40 локтей длины, 20 ширины и 60 вышины, стоял золотой светильник, стол для
хлебов предложения и жертвенник для курения. Стена с дверью и завеса отделяли
святое от святая святых, которое было 20 локтей длины и ширины и 60 высоты и
внутри было совершенно пусто. Эти и другие определения размеров Иродова храма,
основанные на сведениях Иосифа Флавия и других, нельзя считать безошибочными.
По сведениям раввинов, между обоими помещениями не было стены, а только двойная
завеса из двух полотнищ с промежутком в один локоть. Об этой завесе Талмуд
говорит, что «она была толщиною в ладонь, выткана из 72 нитей утока, причем
каждая нить была скручена из 24 нитей; она была 40 локтей длины и 20 ширины».
Это бьша та завеса, которая разодралась при смерти Христа (Мф. 27.51; срав.
Евр. 6.19; 9.3; 10.20). До крыши храма над святилищем оставалось еще 40 локтей,
которые, по всей вероятности, употреблялись, как верхние горницы. С боковых и
задней сторон храма были, равно как и в Соломоновом храме, пристройки в три
этажа, внутри 10 локтей ширины и все вместе 60 локтей высоты, так что самый
храм возвышался на 40 локтей выше их. Крыша была двухскатная, низкая,
украшенная золотыми шпицами.
Уход за
храмом и охрана его лежали на обязанности священников и левитов. Во главе
стражи стояло пользовавшееся почетом лицо, называвшееся «начальником стражи»
при храме. Этот начальник упоминается наряду с первосвященником (Деян. 4.11;
5.24–26). Это же слово встречается также во множественном числе, когда
говорится о его помощниках (Лк. 22.4, 52). Иосиф Флавий сообщает, что ежедневно
требовалось 200 человек для закрывания ворот храма; из них 20 человек только
для тяжелых медных ворот на восточной стороне.
Для защиты и
охраны дворов храма служила также крепость Антония (Деян. 21.34), расположенная
в северо-восточном углу храма, как раз там, где соединялись северная и западная
колоннады. По Иосифу Флавию, она была построена на скале в 50 локтей вышиною и
облицована гладкими каменными плитами, которые делали затруднительным ее взятие
и придавали ей великолепный вид. Она была окружена стеною в 3 локтя вышины и
снабжена четырьмя башнями, из которых 3 были в 50 локтей вышины, и четвертая на
юго-востоке – 70 локтей, так что оттуда было видно все местоположение храма.
Этому роскошному
храму, в притворах которого благовествовали Иисус и апостолы, не надолго было
дано сохранить свою славу. Мятежный дух народа наполнил его дворы насилием и
кровью, так что Иерусалимский храм представлял подлинный вертеп разбойников. В
70 году после Р.Х. он был разрушен при взятии Иерусалима Титом. Тит хотел
пощадить храм, но римские солдаты сожгли его дотла. Священные сосуды были
вывезены в Рим, где изображения их еще и теперь можно видеть на триумфальной
арке На прежнем месте храма возвышается теперь мечеть Омара, приблизительно
там, где находился царский портик. Мечеть Омара – роскошное восьмиугольное
здание, около 56 м вышины и 8 сторон по 22,3 м в окружности с величественным
куполом; она называется также Куббет-ес-Сахра (мечеть скалы), по находящемуся
внутри ее обломку скалы, около 16,6 м длины и ширины, который, по преданию, был
гумном Орны, местом жертвоприношения Мелхиседека, центром земли и т.д. Под
основанием храма ниже поверхности земли можно еще и теперь ходить по огромным
коридорам со сводами и колоннадами древних времен; но от самого храма не
осталось и камня на камне.
3.2.6. Содерегтер Конрад. Миссия Израиля в Ветхом Завете (скиния)
(Лондон–Керчь, 1998.)
Господь
сказал Моисею: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их. Все,
как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее, так и
сделайте» (Исх. 25.8.9). «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе
на горе» (Исх. 25.40). Слово Божие говорит, что цель строительства скинии –
сотворение на земле такой обители, где бы мог пребывать Сам Господь, «обитать
посреди их». Это желание Бога выражено в книге «Откровение», где Иоанн «увидел
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего». «И услышал я громкий голос с неба,
говорящий, се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать в ними; они будут
Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; в отрет Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее
прошло». (Откр. 21.2–4) Мы должны понимать, что Бог, Который создал небо и
землю, Бог Авраама, Исаака и Иакова есть Бог Святой». «Свят, свят, свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа
восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6.2–4). Очень часто христиане
забывают об этом аспекте личности Бога, относясь к Нему, как к приятелю, и эта
фамильярность является своего рода непочтением, неуважением к Его святости и
величию.
В Пс. 92.5
написано: «Откровения Твои несомнению верны. Дому Твоему, Господи, Господи,
принадлежит святость на долгие дни». Псалом 95.9 гласит: «Поклонитесь Господу
во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!»
Скиния
расскажет вам о единственном возлюбленном Сыне Божьем, искупительной жертве
Мессии Израиля, Господе Иисусе, Который заплатил за грехи наши на Кресте.
Двор скинии – дорога ко Христу.
Рассмотрим
следующий рисунок.

Немного из анатомии. Ноги (1) – для передвижения, таз; (2) – прочное слитное соединение; плечи (3) – сильные, так как на них часто приходится нести груз. Диафрагма (4) отделяет сердце (5) и легкие от желудка. В скинии точно такое же разделение. Святая святых – это часть, где находится сердце (5). Оно воистину должно быть святым, потому что в этом сердце живет Бог. Святилище расположено там, где находится вторая часть тела – ниже диафрагмы, и привязана больше к земному (6). Наше сердце должно точно соответствовать размеру святая святых, не выходить за его рамки, иначе придется подрезать сердце, чтобы оно вместилось в святая святых. «Если кто совершен, так должен мыслить. Если вы о чем мыслите, то и это вам Бог откроет» (Фил. 3.15). Кто чего достиг, по тому правилу и должен жить. Только тот является святым христианином, кто полностью посвящен Богу.
Как видите, голова
(7) расположена вне скинии. Над скинией находилась Слава Божия. Это все равно
как центр, откуда приходят команды. Этот как будто нерв, соединяющий нас с
Богом. У нас действительно не должно быть своей головы. Наша голова – это
голова Бога.
Рассмотрим
еще один рисунок.

Вся скиния
построена в своем прогрессирующем развитии. Во дни Адама и Евы мы находились
перед самим входом во двор скинии (Г). Это была дверь, состоящая из крученого
виссона (2), нашего Иисуса Христа, о Котором Бог сказал Адаму и Еве (Быт.
3.15). Мы вошли в эту дверь, переступив через грех (медные подножия), потому
что Иисус (завеса) заплатил за это цену (серебряные крючки). Уже тогда Бог
определил Свою задачу – Он есть Бог, человек, царь, слуга (4 столба (3). Завеса
состояли из трех полотен, потому что Бог тогда, во времена Адама и Евы, говорил
о Своем триединстве (Отец, Сын, Дух Святой (4). Здесь, у входа людям было
просто сказано: «Не ешьте!» Войти во двор скинии мы можем только тогда, когда
признаем свой грех.
Мы входим в
эти ворота и идем. Подходим к жертвеннику (5). Жертвенник, как мы говорили –
символ Креста. Во времена Адама и Евы возносились на жертвенник приношения
Богу, во времена Ноя и в последующие. Делать такие жертвы означало угождать
Богу. Когда приносились эти жертвы, люди вспоминали об обещанном Мессии. Каждая
жертва на жертвеннике являлась прообразом самой великой жертвы, которая
когда-либо приносилась! Мы признали свой грех. Но этого мало. Кто-то должен
умереть за него. Это делает Иисус!
Пройдя
жертвенник (Крест), мы подходим к умывальнику (6). Здесь Бог говорит с каждым
человеком индивидуально. Дальше человек может продолжать свой путь, только
заглянув в зеркало и увидев себя грязным и запятнанным. Дальше можно двигаться,
только омыв свои руки и ноги, очистившись. Слово Божие, в которое мы смотримся
как в зеркало, очистит нас.
Подойдя ко
входу в саму скинию (7), мы окажемся перед завесой, состоящей из четырех
полотен, которые находились на пяти столбах (8). Это прообраз 5 книг Моисея.
Изучение Пятикнижия поможет нам лучше понять любовь и оценить жертву, которую
принес Иисус. Пятикнижие Моисея поможет нам осознать в себе грех (медные
подножия), увидеть его в себе. (Прочитайте Евр. 3.) Моисей был верным
служителем Бога. Через него мы сможем больше узнать не только о грехе, но и о
природе греха, а также о справедливости и смысле крови. Там у входа в скинию,
людям был дан закон и пояснение, что такое грех. Там были даны десять
заповедей. Приходя туда, мы уже должны принадлежать Церкви. Тогда кажущиеся на
первый взгляд неразрешимыми проблемы и трудности окажутся не такими уж
значительными. Четыре полотна завесы на золотых крючках дают нам понимание
четырех важных истин о грехе, жертве, общении друг с другом и жизни
обетованной, вечной. В Торе (Пятикнижии) Иисус Навин ввел людей в эту землю. Но
сам Моисей, являясь прообразом Иисуса, не был послан нам с небес. Сам Бог
обещал спуститься с неба, приняв человеческий облик. Потому что даже зная закон
Моисея, никакой человек не может спастись ни этим законом, ни своими праведными
делами. Здесь крючки уже золотые, но подножия все еще медные, что напоминает
нам о дальнейшем очищении от греха по мере нашего продвижения к святая святых.
Мы проходим
это место и оказываемся во святилище Богу (9). И здесь очень важно не
останавливаться. В этом святилище остались и не пошли дальше евреи,
последователи иудейской религии. Наша цель – святая святых. В святилище мы
проходим дальнейший путь очищения, потому что там есть светильник, стол хлебов
предложения, там есть жертвенник для курений. Посредством этих принадлежностей
все более очищается наша греховная жизнь. Здесь завеса (10), отделяющая
святилище от святая святых (11), покоится на столбах, которые вставлены в
серебряные подножия. Греха уже нет. Как нет «никакого осуждения тем, кто во
Христе Иисусе» (Рим. 8.1). Если мы подошли к этой завесе, отныне мы стали
покоиться на милости Божьей, на Его благодати.
Начинали мы
идти с узкого пути (1). Когда подошли к скинии, наш путь расширился (2).
Вспомним дерево, которое растет от корня. Корень – обетование о Мессии. Когда
дорога начинает расширяться – мы узнаем много нового, познаем Божьи истины.
Длинная широкая дорога – это Библия, которая сначала содержала для нас только
самые основы, а затем мы узнавали все больше и больше, расширяли и дополняли
свои знания.
На отрезке
«вход-жертвенник» (2–5) нам отрывается смысл жертвоприношений и значение крови.
На отрезке «жертвенник-умывальник» (5, б) мы познаем, что такое очищение.
Но именно с
самой широкой линии, у входа в саму скинию (7), дорога вновь начинает сужаться
и очень быстро. Это то место, откуда начинается наш узкий путь к Христу. И чем
ближе мы подходим к святая святых (9), тем все уже он становится. И там, у
самого входа (10), если мы не принимаем жертвы Иисуса Христа, если мы не входим
во святая святых (II), мы будем раздавлены, потому что мы не войдем в Царство небесное этой
единственной дверью. Здесь также три полотна, но эти полотна – на золотых
крючках. А столбы – на серебряных подножиях. Только здесь мы может вплотную
подойти к Иисусу и быть спасенными через Его Жертву. Только тут мы должны войти
через разодравшуюся завесу в храме и ощутить присутствие Божие. Только оттуда
мы может начать свой путь в вечность (крышка ковчега)!
3.2.7.
Уайбру Хью. Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения
византийского обряда
(ББК, М,, 2000, с. 12-14;
33-35; 40-43;58-62; 83-91; 112-115; 122-124;
141-142; 146-154; 165-173; 179;186-187; 194-201.)
Хью Уайбру –
англиканский священник, изучавший богословие в парижском Свято-Сергиевском
православном институте и Оксфорде. В своей книге, написанной в 1988 году, Хью
Уайбру рассматривает не только богослужение, но и архитектурное пространство, в
котором служится литургия, ее внутреннюю символику.
1. Евхаристические богослужения Запада и
православная литургия
... Не
торжественность, а скорее простота чаще всего оказывается характернейшим
признаком современной западной литургии. Из всего ее последования выбирается лишь
тот минимум, который совершенно необходим. Излишних передвижений и жестов
избегают, чтобы они не затеняли сущностной структуры и общего движения службы.
Обстановка, как правило, тоже проста. Современные храмы тяготеют к простоте
архитектуры, скромности убранства и украшений, подчеркивая, что храм – лишь
место, где собирается живая Церковь, но где она может собираться и для других
целей, а не только для богослужения. Алтарь напоминает обеденный стол, за
которым ученики Господа продолжают трапезу, когда-то начатую Иисусом и
двенадцатью учениками. Алтарь – фокус, на нем концентрируется вся служба, и
роль эту делит с ним амвон, откуда церковь насыщают словом Божьим в Писании как
в таинстве. Особыми облачениями обычно пользуется только тот, кто собственно служит,
а чтецы и другие непосредственные участники могут быть одеты обычно, как в
быту. Иногда даже священник едва выделяется одеждой из среды прихожан. Это
модное увлечение простотой ведет к тому, что не всегда легко отличить
католическую службу от англиканской или протестантской.
Еще более
яркая отличительная черта современной западной Евхаристии – то, что в службу
вовлечена вся Церковь. От молящихся ожидают, что они целиком и полностью
включатся в богослужение; а помогает им в этом строго соблюдаемое правило – на
возгласы священника отвечает все молитвенное собрание. Используемый в
современном обряде язык прост и прямолинеен – люди хотят сразу все понимать.
Тексты Писания и молитвы часто читают простые прихожане, они же помогают
преподавать Святые Дары. Новые храмы строят, а старые – переоборудуют так,
чтобы как можно теснее соединить народ с алтарем и со священником. Евхаристию
должны и видеть, и слышать – несмотря на все еще сохраняющиеся различия между
священником и народом, активно служит ее именно народ. Особая важность
придается участию прихожан в самом средоточии службы – в причащении. На
католической мессе ничуть не меньше, чем в англиканском или протестантском
евхаристическом богослужении, ожидают, что причастятся все. Участие в таинстве
– не просто неразрывная часть Евхаристии; это ее наивысшая точка.
Христианин
Запада, привычный к такой форме и такому стилю евхаристического богослужения,
придя в православный храм на Божественную литургию, оказывается в ином мире.
Сначала он входит в церковь, форма, убранство и украшение которой не только
подчинены традиции, но обладают, как считается, собственной значимостью, вполне
независимой от значимости обряда, для которого их создавали. Пройдя через
внутреннее крыльцо, или нартекс, он оказывается в нефе, имеющем форму не
привычного прямоугольника, а квадрата, совершенно пустого, если не считать
нескольких стульев, предназначенных для больных и слабых. Он поднимает голову,
и с высоты центрального купола на него величественно смотрит Христос
Вседержитель. Вокруг поддерживающего купол барабана – пророки, апостолы,
ангелоподобные исповедники, а на окружающих купол сводах и на верхах нефных
стен – херувимы и серафимы, четверо евангелистов, сцены из жизни Христа; из
сцен этих обычно выделяются те, что отмечены в церковных календарях. Ниже по
стенам предстают изображения монахов и аскетов, мучеников и воителей,
исповедников и учителей; сонм святых окаймляет собою и как бы включает в себя
все молитвенное собрание.
Сзади, на
западной стене нефа, изображено «Успение» Девы Марии, а на восточной его
стороне возвышается украшенная иконами преграда (иконостас), отделяющая алтарь
от нефа. Она может быть сравнительно низкой, а может и доходить до самого
свода. В центре ее – двойная дверь, по бокам – одинарные. На высоком иконостасе,
как правило, воспроизведены темы фресковых или мозаичных украшений нефа. Справа
от центральной двери, или царских врат, располагается образ Христа
Вседержителя, слева – Божьей Матери с младенцем Христом. На самих царских
вратах изображено Благовещение, а на южных и северных – архангелы Михаил и
Гавриил или святые диаконы. Непосредственно над царскими вратами представлена
Тайная вечеря. Второй ряд составляют иконы, изображающие спасительные деяния
Христа в Его земной жизни, которым посвящены важнейшие праздники церковного
календаря. Над ними, в третьем ярусе, располагаются апостолы, повернутые в
молитвенном предстоянии к центру, где восседает на троне Сам Христос, а по его
сторонам – двое главных ходатаев за род человеческий, Пресвятая Дева и Иоанн
Креститель. Бывает и четвертый ярус, на нем изображены пророки по обеим
сторонам Девы с Младенцем, а весь иконостас осеняет крест с иконописным
(объемных в храме нет) изображением распятого Господа с Девой Марией и
евангелистом Иоанном по сторонам.
Когда царские
врата открыты, в середине алтаря, как правило, выстроенного в виде полукруглой
апсиды, молящиеся могут видеть богато убранный престол кубической формы; на нем
стоят крест, подсвечники и ковчег, часто сделанный в виде храма, – в нем хранят
освященный в Евхаристии Хлеб. Можно разглядеть и роспись алтаря. В самом низу –
два ряда епископов, облаченных для литургии и обращенных к престолу. Над ними у
престола Сам Христос причащает апостолов, одной рукой – освященным Хлебом,
другой – из Чаши. С полусферического купола апсиды поверх престола в
пространство нефа смотрит Богоматерь – изображение ее часто просматривается из
нефа поверх иконостаса. Однако молящиеся скорее всего не увидят жертвенника, на
котором приготовляются евхаристические Хлеб и Вино и доступ к которому
открывается через северные врата иконостаса. Не увидят они и его росписей,
изображающих рождение, смерть и погребение Христа. Не смогут они заглянуть и в
южную часть апсиды, служащую ризницей.
Типичный
православный храм со всеми его лампадами, свечами и всепроникающим запахом
ладана настолько отличается от привычной западному человеку атмосферы
богослужения, что он, этот человек, уже не очень удивляется, когда узнает, что
у православных принято считать таинством сам храм. Храм – несравненно больше, чем
место, где проводят молитвенное собрание; он – образ неба на земле. Если нижние
части нефа изображают видимый мир, то купол, а тем более алтарь – символы неба,
где ангелы, архангелы и все силы небесные поклоняются триединому Богу. Христос
приносит Себя Отцу в вечную жертву любви, и в эту жертву вовлекается каждый
самим участием в литургии, которая в духовной реальности прославляет то, что
храмовое сооружение возвещает в образе таинства.
Западный
христианин замечает, что ему православный храм внушает священный трепет, а
православные чувствуют себя там уютнее, чем сам он чувствует себя в своей
привычной, гораздо более простой обстановке. Входя в храм, они обходят его
кругом, целуют иконы, зажигают перед ними свечи, молятся. Они могут поднести к
северным вратам маленькую круглую булочку, именуемую «просфорой» (т.е.
«приношением»), и передать ее вместе с поминальным списком живых и умерших
диакону или алтарнику. Атмосфера в церкви исполнена благочестия и в то же время
неформальна, чему в большой мере способствует то, что в этих храмах (если не
считать некоторых греческих) нет составленных в ряды сидений. В западных
церквах так бывает редко – как правило, там стоят скамьи или стулья.
2. Источники традиции
Обстановка Евхаристии
В то время (в
III в.) христиане
продолжали собираться в частных домах: в Риме и других крупных городах – в
больших апартаментах жилых кварталов, в прочих местностях – в маленьких домах с
внутренними двориками. Церковь была по-прежнему вне закона и как юридическое
лицо владеть недвижимостью не могла. Однако в том же веке христиане стали
строить специальные дома для своих собраний. Например, в Никомидии был выстроен
такой большой и представительный дом, что это вызвало протесты и жалобы
нехристиан. Но чаще христиане приобретали дома на имя епископа или иного члена
общины и приспосабливали их для своих нужд – социальных, благотворительных,
образовательных и литургических. Такой дом купила община в Дура-Европос в
Месопотамии ок. 231 г. В одной из комнат оборудовали крещальню, а две
объединили – получилась большая зала для евхаристических собраний, вмещавшая
человек 50–60. У ее восточной стены располагался помост для епископа. Крещальню
украшали фрески, но главная зала расписана не была.

Дом христианской
общины в Дура-Европос (Салийе) в Месопотамии. Построен вскоре после 200 г.
Впоследствии реконструирован христианской общиной для своих целей. Слева –
большая зала для собраний, перестроенная из двух комнат; в ней, по-видимому,
совершали Евхаристию. Справа – баптистерий (крещальня)
Богослужение тех времен проходило в домашней обстановке,
но не было лишено известного блеска. Так, епископ Самосатский Павел в 60-х гг. III в. воздвиг на помосте внушительных
размеров трон. К нему примыкала комната для аудиенций. Когда епископ входил в
залу, чтобы совершить богослужение, его приветствовали, как приветствуют
римского магистрата. Собратья-епископы не одобряли этих амбиций, хотя Павел
лишь предвосхитил сложившийся впоследствии обычай. Община небольшого
североафриканского городка Цирты собиралась в обычном доме, но у нее было много
золотых и серебряных сосудов, бронзовых лампад и подсвечников. Несмотря на
эпизодические рецидивы преследований, Церковь быстро набирала силу, закладывая
фундамент для своего неслыханного роста в следующем – IV в.
Рождение иконографии
Первые
дошедшие до нас произведения христианской иконографии датируются III в. Дом-церковь в Дура-Европос
содержит самые ранние образцы фресок, встречающихся в сугубо христианских
постройках, – до этого, в том же веке, фресками украшали римские катакомбы, где
хоронили христиан. В катакомбной живописи используются мотивы, характерные для
траурного искусства. В традиционном образе доброго пастыря, символизирующем
человеколюбие, представлен Христос. Стоящая фигура с молитвенно воздетыми
руками, известная как «оранта», – это благочестивая душа. Христос и апостолы
изображены в образах рыбаков – рыба была общепризнанным символом Христа,
поскольку греческое слово «рыба» состоит из начальных букв фразы «Иисус Христос
Сын Божий Спаситель». Встречаются изображения таинств – крещения и Евхаристии,
нередко в довольно завуалированном виде. Попадаются сцены из Ветхого и Нового
Заветов: Иона во чреве кита, Даниил в львином рву, Ной и ковчег, Авраам и
Исаак, воскрешение Лазаря, поклонение волхвов, которые служили обобщенным
символом всей истории воплощения и искупления и уравновешивали собою
изображения Адама и Евы, символизирующие состояние греха, в избавлении от
которого мы нуждаемся. Большинство сцен изображают спасение конкретных людей в
награду за их веру и в ответ на молитву. Это соответствует мотиву молитвы за
умерших: когда-то Бог спас вот этих людей, пусть спасет Он теперь и усопших.
Другие изображения истолковать труднее. То и дело встречается традиционный
образ матери и младенца, но всегда ли он представляет Марию с младенцем Иисусом
– неясно.
Иконография
катакомб зарождалась в литургической обстановке, конкретней – в обстановке
молитвы за умерших. Фрески Дура-Европос тоже соотнесены с богослужением, но
только крещальным. Позади купели, стоявшей под куполообразным шатром,
изображены Адам и Ева и, гораздо более крупным планом, Добрый Пастырь со своим
стадом. Так символизируются первородный грех и искупление, совершенное Христом.
Сохранившиеся фрески изображают самарянку у колодца, шествующего по воде
Христа, воскрешение Лазаря и воскресение самого Христа, которое дано в образе
трех женщин у пустого гроба. Кроме того, есть исцеление расслабленного и битва
Давида с Голиафом. Все это указывает на победу над злом и на обновленную жизнь
и исцеление, которые дает крещение.
Росписей
евхаристической залы III в. до нас не дошло. Однако те образы, которые мы видим в катакомбах и в
Дура-Европос, явно свидетельствуют о том, что христианская иконография,
сыгравшая позже столь важную роль в убранстве храмов, особенно – в контексте византийской
традиции, уходит корнями в эллинистическую живопись III в., художественные методы которой
приспосабливали к христианской тематике.
3. IV в.
Возвышение Константинополя
В 330 г.
Константин перенес свою столицу в небольшой городок Византии. Располагаясь на
европейском берегу Босфора и занимая хорошо обороняемую позицию, он оказался
идеальным местом для столицы империи, простиравшейся от Шотландии до Египта, от
Северной Африки до Дуная, от Атлантики до Месопотамии. Этот Новый Рим,
переименованный в Константинополь, был быстро перестроен в соответствии со
своим новым предназначением, а его епископ, прежде подчинявшийся кафедре
Гераклеи, в мгновение ока сделался одним из важнейших епископов всей Церкви.
Второй Вселенский Собор 381 г. признал кафедру Нового Рима второй после
собственно Рима, и к середине V в. его юрисдикция уже включала в себя Малую Азию, Фракию
и северное Причерноморье.
К IV в. некоторые крупные церкви
превратились в центры, из которых литургическое влияние распространялось на
окружающие регионы. Рим, Александрия и Антиохия уже были весьма авторитетны.
Острый интерес, который проявляла императорская фамилия к Святой земле и ее
христианским памятным местам, привел к быстрому возвышению Иерусалима. Византия
входила в церковную провинцию Антиохии, от которой и восприняла евхаристическое
богослужение – либо непосредственно, либо через Понт и Каппадокию. ВIV и V вв. связи между Константинополем и
Антиохией еще больше укрепились за счет того, что нескольких антиохийских
епископов перевели в столицу. Новый Рим и сам вполне естественно стал центром
церковного, в частности – литургического влияния, и литургический чин великой
церкви Святой Софии (Премудрости), инициированный Константином и окончательно
сформировавшийся только после его смерти, стал распространяться все дальше и
дальше, пока не сделался к концу XII в. практически единственным и обязательным для
всех православных церквей.
Обстановка литургии
В
архитектурном смысле образцом для новых храмов чаще всего служила базилика, то
есть большой прямоугольный зал. Обычно в ней расположены три нефа. Два боковых
отделены от центрального рядами колонн, в одном конце располагается апсида. Эти
залы использовали для разных целей, и они оказались вполне удобны для церковных
богослужений новой эпохи. Такие здания стали настолько привычными, что от
латинского слова «basilica» произошло румынское слово «biserica» означающее церковь – и как храм, и
как христианскую общину.

Вид Латеранской базилики, кафедрального собора в
Риме, в 320 г. Изометрическая реконструкция
Они легко
вмещали быстро разраставшиеся приходы, насчитывавшие в больших городах уже по
несколько тысяч прихожан. В апсиде располагалось место епископа, подобающее его
достоинству, а сам он быстро приобретал статус важного государственного лица.
Он председательствовал в окружении пресвитеров на литургических собраниях, как
магистрат председательствовал в суде. В апсиде или несколько впереди от нее
стоял священный стол, а пространство алтаря охранялось от напора толпы алтарной
перегородкой – это были каменные брусья, лежавшие на высоте пояса или груди на
невысоких колоннах; точно так же охраняли императора и магистратов. Народ
собирался в центральном и боковых нефах, которые во многих храмах бывали весьма
просторными. Стены и колонны часто обшивали мрамором. Роскошь мрамора дополняли
мозаичные украшения. Снаружи эти храмы выглядели просто, внутри же были богато
отделаны, и этому имелось веское обоснование: церковь была церковью империи и
служить должна была в соответствии с этим статусом.
Имперские влияния в иконографии
Как ни
странно, немедленного расцвета христианской иконографии вслед за указом о
веротерпимости не произошло. Инициатива в этом деле исходила из императорского
дворца, а не от лидеров Церкви. Монограмма Христа (буквы X и Р), красовалась на военных
штандартах и шлемах воинов; тем самым армия и государство вверяли себя
божественному покровительству. В соответствии с художественными канонами,
применявшимися в старину при изображении богов, император чеканил собственное
изображение на монетах и медалях. Он восседал на троне во всем своем величии, а
сверху к нему простиралась благословляющая или венчающая его рука Бога. Этот
образ отражал специфически византийское богословие, господствовавшее в империи:
земное государство считалось проекцией небесного Царства, а император,
правивший в силу данной ему божественной власти, – земным образом властелина
вселенной.
Решающее
влияние на христианскую иконографию IV в. оказало дворцовое искусство. Оно послужило моделью
для изображения Христа на престоле как властителя вселенной, окруженного
ангелами и святыми. Как восседавший на троне император вручал высшим имперским
чиновникам свиток с их верительными грамотами, так и Христос вручал Петру новый
Закон. Изображения, выражавшие верховную власть Христа, часто помещали в
полукуполе апсиды.
От имперского
искусства пошли и столь характерные для гораздо более поздней христианской
иконографии непроницаемые выражения лиц и неподвижные фигуры. Это считалось
существеннейшим признаком императора и его придворных – ведь они были вознесены
над людскими слабостями и пользовались небесным покровительством. Мучеников
стали изображать в придворных одеяниях – в плаще, застегнутом на плече пряжкой,
и с таблионом, то есть квадратным куском ткани – отличием высокого ранга – на
боку. Христос сидел во главе собрания апостолов, как император – во главе
совета. На изображениях Страшного суда он восседал с ними на троне, как
судейский трибунал в суде. Даже в сюжетах поклонения волхвов и входа в
Иерусалим проявляется влияние имперской иконографической манеры: волхвы
преподносят дары Иисусу, как князья императору во время триумфа, а Христос
въезжает в святой город, как император в захваченную крепость.
Имперский
стиль портрета отразился и на христианской портретной иконографии. Собственно,
портретами в строгом смысле слова произведения этого жанра и не были. Человек
изображался так, чтобы был отчетливо виден его официальный статус. Портрет
императора был портретом именно императора, а не человека, занимающего высший
имперский пост. Христианская иконография, конечно, наделяла конкретных святых
индивидуальными чертами, причем делала это последовательно, но на самом деле не
воспроизводила их подлинных черт, а лишь варьировала известную манеру
изображения официальных лиц.
Итак,
императорское покровительство внесло важный вклад в формирование христианской
традиции и в архитектуре, и в изобразительном искусстве. В IV в. оно, похоже, оказало влияние на
выбор тематики, а также на способ ее представления. Влияние имперского стиля
сохранялось и тогда, когда, много позже, Церковь сама взяла на себя инициативу
в разработке новых тем.
4. Евхаристия в Константинополе во
времена Иоанна Златоуста
Репутацию
выдающегося проповедника Иоанн Златоуст завоевал в свою бытность священником в
Антиохии (386–98).
Константинопольские храмы
Златоуст
наверняка служил во всех больших храмах, красовавшихся в городе, начиная с 330
г. Кроме кафедрального собора – Святой Софии, строительство которой начал
Константин и завершил в 360 г. Констанций II, в столице были Высокая церковь,
церковь Святой Ирины, располагавшаяся неподалеку, и храм Апостолов; первую в
свое время Константин расширил и украсил, последнюю выстроил.
Все это были
базилики, и хотя ни один из этих храмов не сохранился, мы можем с большой долей
уверенности говорить об их основных архитектурных особенностях. Входили в храм
через внушительный портик, дверной проем которого был, по-видимому, завешан
дорогими портьерами. Пройдя в дверь, входящий оказывался в атриуме, то есть
крытом внешнем дворике, окруженном с трех сторон сводчатой галереей с
колоннами. В центре располагался фонтан, где верующий мог омыть руки,
подготавливаясь тем самым и к молитве, и к принятию таинства. В атриуме же скапливалась
беднота в надежде на подаяние.
Собственно в
храм входили через крыльцо, расположенное по четвертую сторону атриума. Из него
несколько дверей вели в нартекс, где народ мог собираться перед тем, как войти
в храм. Было ли принято входить внутрь прежде, чем прибудет епископ, неясно. Во
всяком случае, в первой половине VII в. народ, видимо, собирался вне храма, а входил
только после того, как туда торжественно войдет епископ. Во всех наиболее
крупных храмах столицы двери, вероятно, располагались по восточному торцу
здания, с обеих сторон апсиды, и по западному, а нередко – и в северной и южной
стенах. Центральные двери, которые вели из нартекса в неф, называли царскими
вратами, и именно через них входил вместе с патриархом император, когда ему
случалось принимать в литургии официальное участие.
Центральный
неф прямоугольной формы окаймляли два или четыре боковых, отделенных от него
рядами колонн. Обычно по верхам нефов и нартекса проходили галереи. На них
поднимались по лестницам или по пандусу, обычно расположенным вне храма.
Принято считать, что галереи были местом для женщин, но если это и так,
находиться в центральном и боковых нефах женщинам, вероятнее всего, не
возбранялось. Во времена Златоуста, а может быть и позже, на галерее стали
отводить особые места для императрицы и ее свиты, а иногда там, тоже в
специально отведенном месте, находился участвовавший в литургии император.
Начиная по
меньшей мере с VII в. галерею стали называть «катехуменон». Не исключено, что это
указывает на одно из ее главных предназначений – слово «катехумен» означает
«оглашенный». Отводили ли оглашенным и другим особым группам, выделявшимся из
основного состава Церкви, специальные места в храме, неизвестно. Но уж во
всяком случае для оглашенных, которые не вправе причащаться, логично находиться
именно на галерее – ведь как только закрывали входные двери, она оказывалась
отрезанной от остального храма. Во времена Златоуста институт катехизации был
еще вполне жив. Впоследствии он постепенно пришел в упадок, после VII в. – исчез совершенно, и галерею
стали использовать для других целей. На них устраивали частные молельни, а
потом и другие помещения для имперских нужд.
В восточном
конце базилики располагался алтарь (святилище) – место для епископа и
подчиненного ему духовенства. Он занимал полукруглую апсиду, иногда простираясь
и на переднюю часть нефа, и ограждался невысокой алтарной перегородкой. Вход за
ограду располагался в ее центре, а если святилище выходило за пределы апсиды,
то обычно еще и по северной и южной сторонам. Короткие опоры, поддерживавшие
горизонтальные брусья перегородки, иногда увенчивались небольшими колоннами, на
которых покоились архитравы, то есть декоративные балки. Нет никакой причины
полагать, чтобы в Константинополе этот заслон чем-нибудь закрывался; скорее
всего, пространство алтаря было вполне открыто взорам народа. В нем стоял
престол, сделанный из камня или драгоценного металла и накрытый богато расшитым
покрывалом. Нередко его особую значимость подчеркивал купол, установленный над
ним на четырех колоннах, тоже сделанных из камня или драгоценного металла.
Опять-таки, нет веской причины полагать, чтобы в какие-либо моменты
богослужения престол заслоняли от прихожан завесой, висевшей между колоннами
балдахина; впрочем, в других местах так бывало, и немало историков считают, что
так было и в Константинополе. Под престолом – по крайней мере в двух церквах V в. – располагался небольшой сводчатый
подвал, в котором хранились мощи. Спускались туда по лестнице, вход на которую
располагался непосредственно позади алтаря.
Позади
престола, прямо у стены апсиды, стоял епископский трон. По обеим его сторонам
тянулись скамьи для духовенства. В Константинополе трон был приподнят на высоту
нескольких ступенек, так что епископ со своего возвышения мог все видеть, и его
самого тоже хорошо было видно. Именно с этого трона, или кафедры, епископ
обычно проповедовал, причем сидя, хотя Златоуст чаще говорил с амвона посредине
нефа, чтобы было всем слышно.
В
константинопольских храмах амвон стоял примерно в середине нефа. Он представлял
собою возвышение, огороженное каменным парапетом; на него вели два лестничных
марша. С алтарем его соединяла солея – узкий проход, огороженный такими же
каменными брусьями на невысоких опорах, как и само святилище. Солея могла вести
прямо в святилище, или на полпути мог быть промежуток. В обоих случаях она
давала возможность беспрепятственно перейти из алтаря на амвон и обратно даже
через переполненный народом храм.
5. Литургия во времена Максима
Исповедника
Юстинианова церковь Святой Премудрости (Айя-София)
В V в. в Константинополе было выстроено
несколько церквей. Археологи раскопали достаточно, чтобы судить о внутренней
планировке трех из них. Примерно она соответствует тому, как была первоначально
спланирована Айя-София IV в.
Император
Юстиниан много строил, и кроме такого шедевра, как новая Айя-София, в столице
появилось множество храмов. По тем, что сохранились до наших дней, можно
достаточно хорошо представить, в какой обстановке служили литургию при
Юстиниане и потом, еще несколько веков. Одни храмы выстроены в виде базилик,
планировка других организуется вокруг центра – центральный купол окружают
портики, балконы и галереи. Иногда, как и в самой Айя-Софии, центральный купол
совмещен с прямоугольным общим планом. У церкви святых Сергия и Вакха (теперь
там мечеть) неф шестиугольный; он окружен почти со всех сторон крытой галереей
по низу и балконом по верху. Алтарь вдается на восточной стороне в полукруглую
апсиду; это очень напоминает церковь Сан Виталс в Равенне. Похож на них был
храм св. Иоанна Предтечи в пригороде Константинополя Эвдомоне. Церковь св.
Ирины, большая часть которой сохранилась, имела в плане форму прямоугольника с
полукруглой апсидой алтаря в восточной стене. В ее горнем месте (месте, где
располагались епископский трон и скамьи для клира, греч.– synthronon) доныне стоят шесть каменных скамей.
Как и в Айя-Софии, над центром нефа возвышается огромный купол; как у
большинства константинопольских храмов, на ее западной стороне находился
нартекс, куда входили через атриум.
Господствовала
над всеми церквами города, да и всей Восточной империи, новая Айя-София. Она
доныне сохранила большинство тех черт, которые ей придали Юстиниановы
архитекторы Анфимий и Исидор. С западной стороны к храму примыкал атриум, в XVII в. еще существовавший; два века
спустя от него практически ничего не осталось. В атриум входили через большие
двери, расположенные на северной и южной сторонах; с четырех сторон его
окружала аркада. Четвертая сторона служила наружным нартексом. Посредине этого
открытого внутреннего дворика стоял большой мраморный фонтан. Видимо, открытые
внутренние дворики были и с других сторон церкви. Благодаря ним в храм
проникало больше дневного света; в них же собирались прихожане.

Церковь Святых Сергия и Вакха, построенная
Юстинианом близ его дворца. Закончена ок. 536 г.
Из атриума в
наружный нартекс ведут пять дверей – три в центре и по одной с обеих сторон.
Оставшиеся четыре пролета сплошь заняты окнами. Примерно так же устроены двери,
ведущие во внутренний нартекс, откуда в собственно храм открываются пять
дверей. Внутренний нартекс соединяется двумя дверями – северной и южной – с
соответственно расположенными вестибюлями. В каждом из них за большой дверью
начинается пандус, ведущий на верхнюю галерею. Северный вестибюль – позднейшая
турецкая пристройка. Южный, видимо, тоже пристроен, но раньше, до начала VII в. В первоначальном варианте во
внутренний нартекс и на пандусы можно было войти прямо с улицы. Мало того –
вероятно, и на северо-восточном и юго-западном углах храма тоже располагались
пандусы, так что на галереи можно было попасть снаружи через четыре входа.
Позже была пристроена еще и лестница снаружи юго-западного простенка; по ней
всходили на южную галерею, отгороженную от всех остальных.

План Великой церкви Айя-София (Св. Премудрости),
открытой Юстинианом в 537 г.
Кроме того,
входы в храм были в северной и южной стенах, и в восточной, и по обеим сторонам
алтарной апсиды. Обратим внимание, что Айя-София имела только одну апсиду на
восточной стороне храма: маленькой боковой, вроде той, что стала типичной для
византийской церковной архитектуры и служила диакон-ником и жертвенником
(помещением для проскомидии), другой у нее не было. К прямоугольной формы
центральному нефу, увенчанному огромным куполом и двумя поддерживающими его
полукуполами, с севера и юга примыкают боковые нефы и галереи, разделенные
арками на три больших пролета. Боковые нефы всей своей протяженностью выходят
непосредственно в центральный. В южном одна секция была первоначально отведена
под императорскую ложу и огорожена барьерами.
Несмотря на
архитектурные новации, примененные при строительстве новой Великой церкви, ее
общий план консервативен – он такой же, как и у более ранних городских храмов.
Как был устроен алтарь, мы не знаем, у нас просто не хватает данных – его три
раза отстраивали, прежде чем турки разрушили его окончательно. Некоторое
представление, впрочем, мы можем составить из оставленного Павлом Молчальником
описания алтаря, заново отстроенного после того, как в 558 г. обрушился главный
купол. По окружности апсиды возвышалось на семи ступенях горнее место, причем
только самый верхний его ярус предназначался для сидений, и сиденья эти были
сделаны из серебра. База, колонны и столешница престола были золотые, убранные
драгоценными камнями. Над престолом нависала серебряная сень. Точное ее
расположение неизвестно; возможно, она простиралась в сторону пояса апсидной
формы, потому что платформа алтаря почти наверняка выходила за пределы апсиды и
вдавалась в неф. Алтарь был отгорожен; брусья алтарной перегородки были вделаны
в двенадцать колонн, а те возвышались дальше над брусьями и подпирали архитрав
с образами Христа, Пречистой Девы, апостолов и ангелов. В алтарь вели три входа
– один по центру, два по бокам.
На некотором
удалении от центрального входа начиналась огражденная низким барьером солея;
она вела к огромному амвону, расположенному посредине нефа, несколько к востоку
от центра.
Его овальная
платформа покоилась на восьми колоннах и была так велика, что под ней свободно
располагались певчие. С восточной и западной сторон на нее вели две лестницы.
Это величественное сооружение тоже было отгорожено преградой, аналогичной
алтарной, из восьми колонн с вделанными в них брусьями и архитравом.
Итак,
архитектурная обстановка, в которой совершалась литургия Юстиниановой Великой
Церкви, была вполне типичной для городских церквей предшествующих двух веков. В
этом смысле новая Айя-София была действительно консервативной, однако она
знаменовала начало новой эпохи в византийской церковной архитектуре. В
частности, характерной чертой византийского храма стал купол – и ему же
предстояло играть главную роль в толковании самого храмового здания как символа
духовной реальности. Символика купола как неба была известна и раньше; не стоит
подозревать строителей храма в том, что они построили купол, чтобы вписать в
новый храм его высокую символику. Но он пришелся ко двору и без того
укреплявшейся тенденции придавать символическую значимость церковному зданию.
Описание новой Великой церкви, оставленное историком
Прокопием, показывает, какое впечатление она производила на тех, кто впервые
входил в нее.
Ее
интерьер слишком великолепен, чтобы выглядеть чем-то обычным, и украшен со
слишком большим вкусом, чтобы казаться излишне роскошным. Храм купается в свете
и в солнечных бликах; так и хочется сказать, что он освещен не солнечным светом
снаружи, а что сияние исходит изнутри - так наполнена светом эта святыня... Над
этим кругом (аркадами с парусами) возвышается огромный сферический купол – сооружение
ни с чем не сравнимой красоты; кажется, что он не столько опирается на какие-то
твердые опоры, сколько свисает прямо с неба и накрывает пространство своим
золотым
сводом.
Кажется, сами небеса приладили все это одно к другому с такой удивительной гармонией–
одно зависит от другого, всякая вещь находит себе опору лишь в том, что лежит
под нею, так что впечатление получается чрезвычайно сильное, хотя глаз не в
силах остановиться на чем-нибудь отдельном. Каждая деталь властно привлекает
взгляд к себе, он непрестанно перепрыгивает с одной на другую, и наблюдатель не
может решить, что ему нравится больше. Даже самые искушенные, привыкшие знать
толк во всем, не могут охватить это произведение искусства целиком и уходят
озадаченные и смущенные ограниченностью своего глаза и разума... Если кто
входит помолиться.., его разум возвышается и он пребывает в небесах; ему
представляется, что Бог не может быть далеко, что Он радостно живет здесь, в
избранном Им Самим месте.
(Прокопий, «О постройках Юстиниана», I, 1, 29, 30, 45-49, 61-63.)
Все церкви
Юстиниана были, несомненно, богато украшены, но до нас не дошла практически ни
одна из тогдашних константинопольских мозаик; разве что несколько мозаичных
сводов в боковых нефах Айя-Софии восходят к первоначальной постройке. В V в. украшение храмов-базилик стало
подчиняться единой иконописной схеме. На одной стене нефа изображались сцены из
Нового Завета, на противоположной – соответствующие им эпизоды Ветхого. Каждое
из этих панно богато обрамляли мозаики. Все пространство между ними и вокруг
них заполнял декоративный орнамент. Своды обычно покрывал традиционный узор.
Больше всего поражали зрителя фигуры на полукуполе апсиды – тогда это место не
отводилось, как сейчас, почти исключительно Богоматери. Иногда там был Христос
Пантократор (Вседержитель), может быть – с апостолами, иногда – святой,
которому посвящена церковь. В базилике VI в. Св. Екатерины (гора Синай) на этом
полукуполе – сцена Преображения. Верхнюю часть храмов по большей части
покрывали мозаики, нижние же части стен и колонн были богато украшены
мраморными плитками – их жилистый узор придавал убранству храма особую красоту
и роскошь.
Прекрасным
примером убранства базилики VI в. предстает Новая церковь Св. Аполлинария (San Apollinare Nouvo) в Равенне, где тогда находилась
итальянская резиденция византийских правителей. На западной стороне нефа
шествуют с запада на восток святые мужи во главе с тремя волхвами, чтобы
поклониться восседающему на престоле вместе с Марией младенцу Христу. На южной
– симметричное шествие святых жен приближается к престолу Христа. Над ними
промежутки между окнами заполняют фигуры пророков, а над окнами небольшие панно
изображают проповедь Христа (на северной стене) и Его страсти (на южной).
Служебник, который тогда использовали в храме, с каждой из изображенных фигур и
сцен соотносил соответствующее библейское чтение.
Хорошее
представление о том, как был оформлен алтарь такого спланированного вокруг
центра храма VI в., дают знаменитые мозаики, сохранившиеся в равеннском храме Сан Витале.
Ими покрыты верхние части стен и своды. На полукуполе апсиды представлен
Христос в окружении учеников. На северной стене изображен Юстиниан, входящий в
церковь в сопровождении архиепископа Максимиана, на южной – императрица
Феодора; обоих окружают священнослужители и придворные. Четыре стоящие фигуры
ангелов на поверхности свода поддерживают центральный медальон с заключенным в
нем Агнцем, а на арке, ведущей в алтарь, два летящих ангела несут другой
медальон с вписанным в него крестом. Все остальное пространство стен заполнено
сценами из жизни Моисея (северная), ветхозаветными прообразами Евхаристии –
сценами выносящего хлеб и вино Мелхиседека и жертвоприношения Авраамова
(южная), и фигурами пророков, евангелистов, ангелов и святых. Промежутки между
основными сценами покрыты растительным, животным и другим орнаментом.
Здесь
необходимо отметить одну тенденцию, наблюдаемую в изобразительном стиле
иконописи VI в. Обычай представлять образы святых анфас, лицом к зрителю, возник в
религиозном искусстве эллинистического Востока, в северной Месопотамии или в
Иране. Через парфянское влияние он проник в Сирию и Анатолию и оказал решающее
воздействие на религиозное искусство Византии. В церковной росписи VI в. этот стиль встречается бок о бок
со все еще популярной греческой декоративной традицией. Однако ближе к концу
века он начинает преобладать, и чем дальше, тем больше. Для него характерно
стремление добиться эффекта присутствия, чтобы зритель через образ мог войти в
общение с изображаемым.
Именно из
этой традиции в пылу развернувшейся в VII в. борьбы с иконоборчеством
сформировалось византийское богословие иконы, а ее растущее влияние заметно уже
в VI в. на апсидных
мозаиках равеннской церкви Св. Аполлинария в Классе (San Apollinare in Classe), а в VII в. – в декоративном убранстве храма
Св. Димитрия в Фессалониках. Постепенно усиливаясь, эта тенденция наконец
вытеснила греческие декоративные приемы во всем их разнообразии. Снова и снова
изображали в полный рост фигуры анфас на строго однотонном фоне, а прежние композиции
повествовательного стиля стали постепенно исчезать из иконографии храмов.
Формирование новой системы храмовой иконографии завершилось лишь после
иконоборческих споров.
Тайноводство Максима Исповедника
Тайноводство
он написал между 628 и 630 гг. по пути в Африку или сразу по прибытии. Это
первый из известных нам византийских комментариев на литургию... Чин
Божественной литургии он трактует как средство мистического возвышения человека
к единению с Богом, щедро черпая из Оригена, Евагрия и Дионисия, на чью
Церковную иерархию ссылается дважды, причем один раз – чтобы сказать, что не
намерен заново рассматривать те вопросы, которые разрешил столь великий
духовный учитель. Но из этого уже традиционного материала он берет отдельные
темы и свивает их вместе, добиваясь весьма своеобразного синтеза.
Названием
«Тайноводство» Максим показывает, что намерен вести своих читателей к познанию
тайны Бога, которая, хоть и сокрыта от нас, может быть познана в Откровении.
Открывается она в мироздании, в Писании и в символике литургии, а познать ее
можно через созерцание. С его помощью разум проникает сквозь символику обряда и
постигает стоящую за этими символами реальность, и точно так же в природе
распознает истинное значение сотворенных вещей, а в Писании – духовный смысл,
содержащийся в тексте. Во всех трех случаях созерцание – это деятельность
человеческого духа, вызванная к жизни и вдохновляемая Святым Духом.
В
Тайноводстве Максим часто пользуется терминами «прообраз», «образ» и «символ»,
чтобы указать на присутствие тайны. Эти слова кажутся более или менее
синонимичными. Для Максима, находящегося в русле платонической традиции, символ
– не столько знак отсутствующей реальности, сколько сама реальность,
присутствующая в символе, и на этой концепции как на фундаменте он строит свою
интерпретацию символики литургии и таинства. Интерпретацию эту следует
рассматривать в контексте того, как он понимает Божий замысел о нашем
искуплении. За прообразами, или предзнаменованиями, Ветхого Завета следуют
образы Нового, а они в свою очередь указуют на реальность, которая осуществится
в конце времен. Воплощение Слова есть источник обожения человека, оно
присутствует на всех стадиях божественного домостроительства, усиливаясь с
каждой его ступенью.
Максим первым
из комментаторов дает толкование не только литургии, но и храма, в котором ее
служат. Он не использует символических возможностей, заложенных в куполе, но
дает не меньше пяти толкований символического значения всей церкви.
Во-первых,
Церковь – та, что строится из душ, а не из камня – есть образ самого Бога,
поскольку собирает воедино множество мужчин, женщин и детей, которым она
посредством Святого Духа дарует новое рождение. Все они вместе составляют тело
Христа, их сердца и души сливаются в одно сердце и одну душу, отдельные свойства,
которые отличают и разделяют их друг от друга, преодолеваются в братском союзе
Церкви. Именно таково единство мироздания – Бог, соединяя все сущее с Собою,
объединяет все тварные вещи и между собой.
Церковь,
выстроенная из камня, которую Максим видит как бы иконой Церкви, составленной
из людей, – это образ мира, который составлен из видимого и невидимого. Алтарь,
предназначенный для священников и служителей таинств, представляет невидимый,
духовный мир; неф, предназначенный для народа, – мир видимый, материальный;
впрочем, оба они состоят в неразрывном единстве. Неф – это святилище в
потенции, алтарь – неф в действии. Церковь рукотворная являет собою церковь
нерукотворную, тварную вселенную, которая в каком-то смысле тоже есть церковь.
Кроме того, церковь
– образ видимого и осязаемого мира: небо представлено в ней алтарем, земля –
нефом во всей его красоте. И наоборот, мир есть церковь: ее алтарь – небо, ее
неф – земля.
Символизирует
она и человека, оказываясь его образом и подобием, как сам он был сотворен по
образу и подобию Божьему. Неф символизирует его тело и обретение добродетельной
жизни. Алтарь – это его душа, которая позволяет ему, созерцая вещественные
явления, видеть за ними духовную реальность. Святой престол – его дух,
проникающий в мистические пределы богопознания. И наоборот, человека можно
рассматривать как мистическую церковь.
Но мало того,
церковь есть образ самой души. Алтарь представляет человеческий дух,
первооснову созерцательной жизни, неф – разум, первооснову жизни деятельной. Алтарь
указует на возвышение человеческого духа, который созерцанием приближается к
познанию истины. Неф указует на возвышение человеческого разума, который,
упражняясь в добродетели, прилепляется к благу. Совместный плод действенной и
созерцательной жизни – обожение души, которое символизируется служением
таинства на святом престоле.
Итак, церковь
есть символ сошествия Бога к человеку и символ стремления человека к Богу. В
ней таинство и тайна мистически сходятся вместе, осуществляя обожение человека
через его единение с Богом. Она – икона Церкви нерукотворной, выстроенной из
людей, а также – икона Церкви вечной, неземной, небесной. Несмотря на то, что
видимое и невидимое, материальное и духовное и в мире, и в человеке, и в Церкви
состоят в неразрывном единстве, видимое и материальное обречено на смерть,
чтобы воскреснуть к новому существованию во славе и в нем стать подобным
невидимому и духовному.
Самой
литургии Максим дает двоякое толкование. Во-первых, в ней представлена вся история
Божьего замысла о нашем спасении – от сотворения мира до второго пришествия
Христа. Входом епископа в храм представляется первое явление Христа во плоти.
Своей земной жизнью Христос освобождает человеческую природу от подверженности
распаду и смерти, куда она впала вследствие греха. Претерпев животворящие
страдания, он отдал себя в искупительную жертву за всех нас и тем самым вернул
нам благодать своего Царства. Затем он вознесся на небеса и вновь воссел на
своем небесном престоле – это представлено входом епископа в алтарь и
восхождением его на трон.
Вход народа
обозначает переход верующих от невежества и заблуждений к познанию Бога, от
порока и тьмы к добродетели и просвещению. В нем символически отражен каждый
поступок, связанный с раскаянием и возвратом к добродетельной жизни. Чтения из
Ветхого и Нового Заветов открывают нам Божьи цели и намерения и учат правильно
вести духовную брань, к которой мы все призваны. Псалмы – это та радость, в
которой постигается Божье благо; они приучают нас ненавидеть грех и чистым
сердцем любить Бога. Епископское приветствие «Мир всем» перед каждым чтением
означает блага, которые источают на нас ангелы, чтобы помочь нам в битве со
злом и дать нам мир и избавление от страстей, плод добродетели.
Возвещение
Евангелия представляет конец света. Сошествие епископа с трона символизирует
второе пришествие Христа, грядущего со славою, чтобы судить мир, отделить
праведных от неправедных и воздать каждому по его заслугам в этой жизни.
Затворение храмовых дверей и отпуск оглашенных символизируют как бы свертывание
материального миропорядка и вхождение достойных в духовный мир, в брачный
чертог Христа.
«Вход святых
и досточтимых тайн» – это начало нового, приготовленного для нас на небесах
просвещения о Божьем замысле, явление нам сокрытой в Боге тайны нашего
спасения. Лобзание мира служит прообразом любви и согласия, которые будут
связывать нас вместе в будущем мире, где достойные будут наслаждаться
сокровенной близостью со Словом Божьим. Символ веры символизирует вечную
благодарность Богу за все, что он сделал для нас, a Sanctus в Анафоре – наше будущее единение с
бесплотными, духовными небесными воинствами.
6. Литургия после победы иконопочитания
Устройство и убранство храмов IX в.
После победы
иконопочитания развитием иконографии руководили три основных принципа
церковного убранства. Во-первых, образ должен являть тождественность с
прообразом; лица и события должны быть такими, чтобы их узнавали. Их стали не
просто создавать в соответствии с установленными правилами, но и снабжать
соответствующими надписями. Теперь молящийся мог входить в контакт с образом,
который (и это во-вторых) должен был располагаться к нему лицом, чтобы между
ними происходила подлинная встреча. Верующий реально стоит перед Христом, Его Матерью
или святыми, он присутствует при рождении Богомладенца, при распятии,
воскресении и вознесении. Наконец, в третьих, каждый образ должен был занимать
приличествующее ему место в иерархическом строе вещей: сначала Христос, затем –
Его Матерь, затем ангелы и святые в надлежащем порядке старшинства.
Вобравшую эти
принципы систему церковного убранства, начиная с IX в., стали обычно применять в храмах,
спланированных в виде вписанного в квадрат креста с куполом посредине.
Разнообразие архитектурных форм прошлых веков уступило место одной, в
максимально возможной степени включившей в себя византийскую концепцию храма
как символического пространства и предоставлявшей наилучшие возможности для
иерархического расположения образов. Начиная с этого времени говорить о
мозаиках и фресках как о храмовом декоре уже недостаточно – это непременный
элемент священного пространства, в которое входит молящийся. Сам храм, его
убранство и богослужение слились в сложный комплекс символов, в контексте
которого людям является тайна спасительной Божьей любви, захватывая молящегося
и позволяя ему участвовать в небесной литургии и божественной жизни.
Первый храм
послеиконоборческого периода, описание которого у нас есть, – это новая церковь
Божьей Матери, выстроенная императором Василием I на территории его
константинопольского дворца. Надо думать, что к использованию икон подходили с
осторожностью: отсутствуют изображения событий, а есть только индивидуальные
образы. Оно и понятно, ведь первейшим доводом в защиту икон было то, что они
служат средством личного общения. В своей проповеди на освящении этого храма в
881 г. патриарх Фотий сказал:
На этом
куполе изображена с помощью мелких цветных камушков человеческая фигура,
представляющая Христа. Вы можете сказать, что Он взирает свыше на весь мир,
следит за тем, как идут в нем дела и как он управляется – с такой силой
художник передал в форме и цвете заботу Создателя о нас. На образующих крест
сводах вокруг купола изображены во множестве ангелы, обступившие своего Господа
для служения Ему. С алтарного свода сияет образ Девы, простирающей в мольбе за
нас свои пречистые руки и дарующей императору благополучие и победу над
врагами. Апостолы и мученики, пророки и патриархи украшают собою храм,
наполненный их образами.
Молящийся, входя в храм,
вступал в образ вселенной. На куполе, символизирующем светоносное небо, он
видел Христа Вседержителя («Пантократора»), правящего миром, который Он создал
и искупил. На верхних сводах, окружающих купол, – небесное воинство ангелов.
Еще чуть ниже, в конхе апсиды, – Матерь Божью, символ Церкви. На верхах стен –
святых в должном порядке старшинства. Сам он, находясь на земле, на низшем
уровне храма, видел и осознавал, что он теперь входит в содружество святых и
ангелов и даже дерзает вместе с ними войти в жизнь Христа прославленного, а в
нем получить надежду войти в тайную и все же неким таинственным образом
явленную жизнь Святой Троицы. Ведь храм – не только зримое выражение Евангелия,
но и икона предложенного ему спасения

Храм Успения в Никее, нач. VIII в. (план и разрез). Пример ранней церкви
крестово-купольной планировки
Литургия в IX в.
IX в. – это самый ранний период, от которого до нас дошел подлинный текст
византийской Божественной литургии. Кодекс Барберини 336 датируется примерно
800 г. и в нем есть молитвы, которые читал на разных церковных службах служащий
их епископ или священник.
Церковная история Германа Константинопольского
Одним из
самых распространенных комментариев на литургию была Церковная история. Ее
первоначальный вариант написан, как принято считать, Германом I, патриархом Константинопольским с 715
по 730 г.
Полное
название комментария Германа само по себе показательно: Церковная история и
мистическое созерцание. Последняя часть этого труда связывает его с Максимом
Исповедником и Дионисием Ареопагитом, которые занимались созерцанием духовной
реальности, символами которой как раз и выступают литургия и составляющие ее
части. Оба они принадлежали к александрийской богословской традиции и, в
согласии с нею, уделяли меньше внимания спасительным деяниям Иисуса Христа в
его земной жизни. Герману такое понимание литургии тоже не чуждо; но он больше
осмысляет и подчеркивает события, связанные с историей спасения – само слово
«история» означает и размышление над тем, как Бог являет себя в жизни, смерти и
воскресении Христа, и над тем, как молящийся может участвовать в этом спасении.
Герман соединил александрийский подход, который к тому времени успел уже
укорениться в византийской традиции, с глубоким интересом к историческим
событиям и к полноте человеческой природы Христа в духе традиции антиохийской.
Оба эти
аспекта хорошо видны в том, как он толкует символику храма. «Храм есть земные
небеса, где Бог наднебесный живет и ходит». Кроме того, он «представляет
распятие, погребение и воскресение Христа». Апсида символизирует и пещеру
рождества, и гробницу. Святой престол являет как место, где лежал Христос
телесный, так и престол Божий, равно как и стол Тайной вечери. Надпрестольная
сень служит тому, чтобы образно «представить распятие, погребение и воскресение».
Святой престол символизирует Гроб Христов, но он также «называется и является
небесным алтарем, где земные, плотские священники, которые всегда помогают и
служат Господу, представляют духовные, служащие и иерархические силы
бестелесной и небесной власти». Исполнение истории спасения тоже представлено –
алтарь и в частности архиерейское место и скамьи священников указуют на второе
пришествие Христа, когда он воссядет на своем судейском троне. Если же смотреть
вне алтаря, то стоящий посреди нефа амвон символизирует камень, отодвинутый от
двери Гроба, и провозглашает воскресение из мертвых.
Поза
молящегося тоже имеет значение. Молитва читается лицом к востоку, потому что
«доступное нашему осмыслению Солнце правды – Христос Бог наш – явился миру в тех
областях востока, где восходит доступное нашим ощущениям солнце». Запрет
преклонять колени в воскресенье и на протяжении всего пасхального периода – это
знак того, что «наше грехопадение было исправлено воскресением Христа в третий
день».
Церковная история
Германа вносит в византийскую традицию толкования литургии, до тех пор во
многом черпавшую вдохновение в александрийской мысли, исторический подход
антиохийской школы. Отчасти это было реакцией на иконоборчество. Защитники
ико-нопочитания основывали свои доводы на православном учении о воплощении:
если Бог стал в Иисусе Христе в полной мере человеком, то Христа во плоти можно
представлять в зримых образах. Теоретическим фоном иконоборчества было, кроме
всего прочего, монофиситство, несоразмерно подчеркивавшее божественное в Христе
в ущерб человеческому, и реакцией на это со стороны православных было, кроме
всего прочего, подчеркивание исторической, телесной природы воплощенного Сына.
Герман был одним из первых защитников иконы и одной из первых жертв иконоборцев
– его сместил император-иконоборец Лев III. Поэтому он должен был описать
литургию, не только трактуя ее в традиционной манере, как образ небесной
реальности, но и следуя антиохийской традиции в духе Феодора Мопсуестийского,
чтобы хотя бы первую часть обряда представить как образ земной жизни Христа.
Важно
отметить, что в комментарии Германа ни какой-либо один из этих подходов, ни
даже оба вместе, не преобладают полностью. Рассматривает он и сущностную
значимость литургии как служения таинства, в котором совершается воспоминание
принесения Христом самого Себя в жертву и предвкушается реальность будущего
Царства, начавшегося уже теперь. Следующие комментаторы уже не будут столь
строги к себе в использовании антиохийской исторической символики; и все же их
подход предвосхитил именно Герман, применив принцип символической интерпретации
к архитектурным элементам храма и деталям службы и, тем самым, введя в
изъяснение литургии новое измерение. Церковная история может по праву считаться
первым вполне византийским комментарием к Божественной литургии.
7. Византийская литургия в XI в.
До сих пор мы
имели дело с Божественной литургией константинопольской Великой церкви, а
поскольку столица Византии раньше тоже называлась Византией, то и ее обряд по
праву называют византийским. Теперь вернее будет говорить о литургии
православной. Ведь к XI в. церкви Восточной и Западной империй уже не только отличались, но все
больше и больше отделялись друг от друга в силу политических, культурных и
богословских различий, которые иногда резко выступали на передний план именно в
литургических различиях. Между тем византийская Церковь все более твердо
руководствовалась древней традицией; с другой стороны, она разрасталась
территориально за пределами империи, которая, наоборот, уменьшалась.
Богослужение становилось все единообразней – обряд Великой церкви
распространялся в новых церквах в среде славянских народов, а в границах
империи вытеснял все прочие местные обряды.
Местные
особенности, впрочем, еще сохранялись. Но вот, например, в XI в. епископ Андиды Памфильской Николай
изо всех сил настаивает, что литургическая практика его церкви вполне
соответствует столичной. Даже традиционные обряды древних патриархатов –
Александрии, Антиохии и Иерусалима – начинали испытывать влияние Константинополя,
престиж которого после мусульманского завоевания VII в. и последующего упадка этих церквей
постоянно повышался. К концу XII в. дело дошло до того, что знаменитый византийский
канонист, титулярный патриарх Антиохийский Феодор Валсамон высказал
авторитетное суждение: считающие себя православными могут следовать только
константинопольскому обряду. Византийская литургия стала фактически и
номинально литургией православной.
Во всяком
случае, так ее воспринимали славянские церкви. Именно такое впечатление оказала
литургия Великой церкви на послов Владимира, князя Киевского, что и убедило его
принять христианство в его византийском варианте. Русская летопись «Повесть
временных лет» рассказывает, как Владимир послал своих людей в разные страны
узнать о бытующих там вероисповеданиях. Мусульмане в Болгарии не оказались для
них привлекательными, латинское богослужение германских и романских народов
тоже не впечатлило их. А вот побывав на литургии в Великой церкви, они потом
рассказывали: «И не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого
зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы
только, что пребывает там Бог с людьми и служба их лучше, чем во всех других
странах. Не можем мы забыть красоты той». Слова Германа «Храм есть земные
небеса, где Бог наднебесный живет и ходит» были для них истиной. В 998 г.
Владимир крестился.
Ко времени
обращения славян литургия Великой церкви уже была близка к своей окончательной
форме. Впрочем, кое-какие изменения ей еще предстояло претерпеть. Их принес XI в., ознаменовавший предпоследнюю
стадию становления обряда. Тогда же дорабатывалась и организация пространства –
принципы храмового убранства все теснее соответствовали продолжающейся и
развивающейся традиции символического толкования литургии.
Храм и его убранство
К XI в. везде, куда только ни
распространялось из Константинополя христианство, самым характерным архитектурным
планом церквей был вписанный в квадрат крест. Центральный купол нефа порой
окаймляли по бокам меньшие купола, а к алтарной апсиде с севера и юга тоже
примыкали две меньшие. Сдержанная иконографическая манера IX в. уступила место более изощренной.
Сохранилось три храма XI в., и то, что осталось от их мозаик, позволяет составить достаточно
четкое представление об иконографической схеме того периода. Это храм монастыря
Осиос Лукас и церковь Дафни (оба в Греции), а также храм Нового монастыря на о.
Хиос. Иконографические системы всех трех в основном похожи друг на друга.

План собора монастыря
Осиос Лукас, ок. 1020 г. с храмом Богородицы, ок. 1040 г., Греция
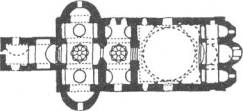
План собора (главного храма) Нового монастыря на о. Хиос, 1042–1056 гг.
Типичная
церковь XI в. была разделена на три иконографических пояса. Верхний, включавший
купола, верхние своды и полукупол апсиды, представлял небо. Там находились
образы Христа, Пресвятой Девы и ангелов. На главном куполе могло быть одно из
трех изображений: Христа Вседержителя, Вознесения или Пятидесятницы. С
центрального медальона, где располагался образ, сияли расходящиеся от центра
лучами фигуры ангелов, апостолов или пророков, глядящих друг на друга через
обрамленное куполом пространство. Доминирующим образом центрального купола стал
все же Христос Вседержитель, вытеснив более раннее повествовательное
изображение сцены Вознесения. Сцена Пятидесятницы могла располагаться на другом
куполе, а если в храме был только один, то на своде апсиды. Христос
Вседержитель встречается также и в нартексе, над главным входом в храм, вместе
с образом Пресвятой Девы и Христа-Эммануила.
Полукупол
апсиды занимал образ Богоматери, либо стоящей в рост, либо восседающей на
престоле – одиночная фигура на золотом фоне. Поклоняющиеся ей ангелы были
представлены на верхах алтарных стен или на сводах над ними. Иногда в апсиде
находился и образ Христа, как до иконоборчества. Такие его образы сохранились в
храмах более позднего периода, не имевших купола, – а наивысшим в символическом
смысле местом в храме был апсидный свод. Со стен и сводов боковых апсид,
ставших в послеиконоборческий период архитектурной нормой, обычно смотрели
Иоанн Креститель или Иоаким и Анна – образы, относящиеся к предутотовлению
пришествия Христа.
Во второй
пояс входили верхние части сводов и паруса непосредственно под куполами. Здесь
был представлен круг великих праздников, с течением времени все увеличивавшихся
в числе. Полный круг, сложившийся к XI в., включал двенадцать праздников: «Благовещение»,
«Рождество», «Сретение Господне», «Крещение», «Преображение», «Воскрешение
Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Распятие», «Воскресение или Сошествие во ад»,
«Вознесение», «Пятидесятницу» и «Успение Богородицы». Их в те времена понимали
не столько как исторические сцены из земной жизни Иисуса, сколько как именно
образы церковных праздников. В X и XI вв. они были представлены далеко не в каждой церкви.
Этот круг
образов представлял и даже создавал присутствие в храме разных сторон тайны
Христовой – его воплощения, страданий и воскресения. Присутствие же их, в свою
очередь, как и утверждал Герман, делало храм образом распятия, погребения и
воскресения. Сама церковь становилась действенным воспоминанием чудных дел
Божьих, о которых говорится в Анафоре и которые символически представлены в различных
частях литургии. Сила воздействия этих сцен усугублялась тем, что они
располагались, когда возможно, на закругленных парусах центрального купола.
Получалось так, что Мария и Гавриил смотрят друг на друга через реальное
пространство, новорожденного Христа обступают с обеих сторон ангелы и прочие
действующие лица сцены рождества, Иоанн Креститель и ангелы стоят по обеим его
сторонам в Иордане. Конечно, не все праздничные иконы удавалось разместить
таким идеальным образом, часть их располагалась на плоских поверхностях. Когда
паруса центрального купола были слишком малы, на них вместо этих сцен часто
изображали четырех евангелистов.
Третий, самый
нижний пояс, предназначался для изображений отдельных святых, расположенных в
иерархическом порядке. В алтаре или близ него располагались фигуры
ветхозаветных патриархов, исповедников и учителей Церкви. В центральной части
нефа были сосредоточены группами мученики, а на западной его стороне – святые
монахи (преподобные). Святые жены и причисленные к лику святых императоры часто
размещались в нар-тексе. Святых обычно изображали в полный рост, как бы
подчеркивая этим, что и они, и молящиеся принадлежат к одному сообществу.
Впрочем, это могли быть и поясные изображения, расположенные в мелких углах
храма, вроде тимпанов или неглубоких ниш. Такие изображения обычно находились
на арках, пазухах сводов и узких пространствах стен. Выбор представленных в
храме святых в известной мере определялся местными пристрастиями.
Это новшества
в иконографической системе XI в. еще больше, чем предшествовавшая ей система IX в., сближали храм с его главным
«обитателем» – литургией. Он по-прежнему был небом на земле и сообществом
святых, но теперь стал еще и представлением спасительных дел Божьих в Иисусе
Христе, благодаря которым земля воссоединилась с небом, материальный мир
преобразился, человечество вернулось в рай. Его соотнесенность с литургией,
которая – и как целое, и в своих отдельных частях – создавала присутствие в
храме тайны Христа, не могла ускользнуть от внимания молящихся.
«Сокрытие тайн»
Мы уже
говорили о том, что по крайней мере до XI в. в Константинополе собравшиеся в
нефе люди могли видеть, что происходит в алтаре. Вопреки распространенному
мнению, алтарь в столице не был заслонен от людских взглядов, а престол не был
спрятан за завесами, висевшими между колоннами надпрестольной сени. На фресках
и миниатюрах вплоть до XI в. византийские алтари и престолы показаны открытыми взору. Некоторые
церкви имели, самое большее, низкую алтарную преграду без возвышающихся над нею
колонн, на которых можно было бы подвесить занавеси. В тех храмах, где такие
колонны были, на них опирались архитравы, и всевозможные изображения, связанные
с алтарем, помещались именно на верхах архитравов, а не между колоннами. Все
византийские комментаторы литургии явно исходят из того, что действия, которые
они описывают и объясняют, люди могут видеть.
Надо
признать, что в других церковных областях алтарь во время Анафоры уже давно
закрывали от взора людей. Что же касается Константинополя, то первое недвусмысленное
упоминание об этом обычае содержит Протеория, комментарий на литургию
середины XI в. Там говорится, что после Великого входа врата алтарной преграды
закрываются и завеса задергивается. Автор называет этот обычай монашеским, и
вполне возможно, что как раз в это время он стал распространяться именно в
монастырских храмах.
Этот обычай основывался на том, что мирянам не следует
видеть, как совершается таинство. Никита Стифат, инок Студийского монастыря в
Константинополе, ближе к концу века писал:
Знайте, что место мирян в собрании верных во время
Анафоры– подальше от божественного алтаря. Внутреннее его пространство
предназначено для священников, диаконов и иподиаконов; пространство вокруг него
– для монахов и других чинов нашей иерархии; а уж позади них, на возвышении, –
место мирян... Как же с такого расстояния может мирянин созерцать тайны Божьи,
которые священники с трепетом совершают ?
«Непосвященному
взору» мирян нельзя видеть Священные Тайны, «ибо созерцание и лицезрение этих
тайн вверено Богом и апостолами лишь священникам, приносящим жертву» (Послание
8 Никиты Стифата).
Одних только
огромных пространств Великой церкви и других больших храмов было достаточно,
чтобы люди не могли видеть, что происходит в алтаре. В меньших же церквах им
мешала завеса, гарантирующая, что народ не сможет преступить границы
литургического благочестия.
8. Завершающая стадия становления
литургии
К XIV в. православная литургия достигла
полноты своего развития, и начался процесс консолидации. В разных уголках
православного мира обряд еще несколько варьировался, но во всех церквах
Византийского государства служение литургии приближалось к полному
единообразию. Этому немало способствовал Диатаксис Филофея.
Афонский
монах Филофей стал патриархом Константинопольским в 1354 г. В столице тогда
соперничали два типикона (сборника богослужебных правил). Традиционным был
типикон Великой церкви, созданный в IX в. в монастыре Св. Иоанна Студита. Однако к началу XII в. постепенно начал обретать
популярность типикон монастыря Св. Саввы близ Иерусалима благодаря не в
последнюю очередь содержавшимся в нем более подробным наставлениям по ведению
службы.
Еще будучи
монахом на Святой горе, Филофей составил два Диатаксиса: один устанавливал
правила для священников и диаконов на утрене и вечерне и Божественной литургии,
а другой содержал подробные инструкции по служению литургии, как по части
текста, так и по части церемониала. Церемониал обрел широкое распространение,
внеся единообразие в литургию, особенно – проскомидию, которая как раз больше
всего и варьировалась. Став патриархом, Филофей ввел его в обиход Великой
церкви, и он очень скоро распространился на прочие церкви – и греческие, и
славянские. Содержавшиеся в нем правила вошли в первые печатные богослужебные
книги XVI в.
Обстановка литургии
К началу XIV в. планировка храмов в форме
вписанного в квадрат креста все еще встречалась, но теперь наряду с нею
применялись и другие архитектурные решения. Снова вернулся стиль греческого
креста, строились и храмы-базилики. В каждой из частей православного мира
развивались свои специфические вариации на основные архитектурные темы.
Сохранилось немало храмов XII – XV вв., дающих нам хорошую возможность изучить обстановку,
в которой служили и до сих пор служат Божественную литургию. Многие из них
поныне сохранили хотя бы часть первоначального убранства. Неф с куполом и три
апсиды на восточной стороне оставались общепринятым стандартом.
В
поздневизантийских храмах алтарь никогда не выступал в неф. Алтарная преграда
проходила под аркой, отделявшей неф от алтарной апсиды, и обычно простиралась
дальше к северу и югу, отгораживая жертвенник и диаконник, которые обычно
сообщались с алтарем через арки внутри ограды и с нефом через врата. Жертвенник
был теперь существенной частью храмового здания, и к тем церквам, где прежде
имелось отдельно стоящее сосудохранилище,

Планы храмов XIV в. в Югославии
Л – Старо Нагоричане,
1313 г.; Б – Грачаница, 1321 г.; В- Крусевач, ок. 1380 г.; Г– Раваница, 1375-
1377 гг.
теперь
нередко пристраивали две боковые комнаты. К XIV в. даже сама Великая церковь
приобрела внутреннее помещение для проскомидии. Наличие по крайней мере трех
отдельных помещений означало, что уже два входа – с Евангелием и с дарами –
были шествиями из одного места в другое. Со временем появление иконостаса с
тремя вратами сделало возможным в церквах с одной апсидой располагать
жертвенник прямо в алтаре, сбоку от престола. Тогда шествия стали заканчиваться
там же, где начинались, и превратились в чисто церемониальные действа, лишенные
какого бы то ни было практического значения.
Становление иконостаса
Алтарь
оказался полностью отделенным от народа непрозрачной преградой лишь в XIV в. Низкую алтарную ограду с несущими
архитравы колоннами, которая до самого XIII в. служила средством отделения апсиды
от нефа, и теперь можно увидеть позади этой окончательно сформировавшейся
преграды.
С давних
времен алтарную преграду украшали иконы. Образы Христа, Марии, ангелов и святых
были вырезаны на архитраве или помещены на его верху. К IX в. распространился обычай выставлять
некоторые иконы для почитания на специальных подставках впереди или позади
алтарной ограды, а иногда – укреплять их на ее вратах или колоннах, или на
сени, или на архитраве (такое устроение можно видеть в датируемом концом XI в. или XII в. соборе византийского стиля в
Торчелло близ Венеции). Чаще всего в одной из этих позиций устанавливали образ
Христа Вседержителя либо Девы Марии – Предстательницы за род человеческий.
Популярен был и деисус– Христос
Вседержитель
в центре, Мария и Иоанн Креститель в молитвенных позах по сторонам. Вместе с
этими образами или вместо них на архитраве могли быть изображения апостолов,
святых или ангелов или сцены великих праздников. Симеон Солунский в своем
толковании XV в. храма и литургии, по-видимому, молчаливо подразумевает, что наверху
архитрава есть деисус с ангелами, апостолами и святыми.
В начале XV в. большинство храмов еще сохраняло
типично византийскую алтарную преграду, но она уже преобразовывалась в то, что
теперь считается типично православным иконостасом. Иконам Христа и Богоматери
оставалось преодолеть лишь небольшое пространство, чтобы занять свое нынешнее
положение на префаде к югу и к северу от царских врат. Сцена Благовещения,
которая раньше часто располагалась в пазухах свода над алтарной преградой,
переместилась вниз и заняла верхнюю панель самих царских врат или все врата
целиком. Деисус остался над архитравом как и сцены великих праздников (теперь
это был уже полный их круг), которые располагались над деисусом, а к нему добавились
фигуры святых, повернутые в молении к центральной фигуре Христа. По мере
разрастания иконостаса, или темплона, как его часто называли, над сценами
праздников появлялись все новые ряды с образами пророков и патриархов. В зените
своего становления иконостас целиком заполнял проем апсидной арки, полностью
отрезая собою алтарь от нефа. Общепринято считать, что эта форма
выкристаллизовалась на Руси и оттуда распространилась на гору Афон и дальше, на
греческие и славянские церкви.
Таким
образом, завершился процесс, в ходе которого народ постепенно лишался
возможности слышать главные молитвы и видеть главные действия литургии. Они
стали прерогативой духовенства; теперь одни только священнослужители могли
слышать, видеть и осязать Тайны, наделенные слишком большой святостью, чтобы к
ним смели приближаться миряне, – разве что изредка, в причастии. Свое
евхаристическое благочестие простые прихожане сосредоточивали на иконах,
почитая их и молясь перед ними, а также на тех частях литургии, которые они
могли видеть или слышать. Их учили и эти последние рассматривать как
последовательность икон, с помощью которых следует созерцать жизнь и
спасительные дела Христа.
Убранство храма
К началу XIV в. византийская система церковного
убранства получила значительное развитие. Несколько сдержанная по масштабам
схема, сложившаяся сразу после победы иконопочитания, с неизбежностью должна
была уступить место более раскованной. Росту масштабов иконописного убранства
во многом способствовали изменения как в архитектуре храмов, так и в технике и
материале декора. Византийская иконопись среднего периода выполнялась в технике
мозаики и занимала лишь определенные участки интерьера, а низы стен обычно
облицовывали мрамором. К XIV в. мозаика почти полностью уступила место менее дорогостоящей фресковой
росписи. Вместо мрамора и отдельных мозаичных панно почти все внутренние
поверхности храмов теперь покрывали штукатуркой и записывали фресками.
Ограниченный круг тем, используемых в X и XI вв., расширился – ведь теперь для
заполнения всех внутренних поверхностей храма требовался более объемный
материал. Возрождение стиля базилики привело к тому, что в храмах появились
большие поверхности стен, которые надо было записывать. Воспроизвести
иерархическую, сакраментальную схему византийской мозаики среднего периода в
таких храмах не удавалось. Снова, как и в доиконоборческие времена, стали
появляться повествовательные сцены.
Храмовый
декор не только расширялся в масштабе, не только включал в себя новый материал,
но и испытывал немалое влияние со стороны литургии и ее интерпретации, а также
со стороны календаря, упорядочивавшего церковный год. Основные темы предыдущих
периодов сохранялись, но теперь их дополняло многообразие повествовательных
тем; их использовали по всей внутренней поверхности храма, не слишком считаясь
с разделением его на пояса, у каждого из которых была особая функция.
Апсида почти
неизменно несла на своем своде образ Богоматери. Его связь с литургией, которую
служили под ним, в алтаре, вполне осознавалась. Через Марию Слово стало плотью
и явилось в мир, а через литургию Церкви даются воплощение и явления Христа.
Ниже располагалось изображение причащения апостолов, самый ранний образец
которого, киевский, датируется XI в. В Айя-Софии Христос в этой сцене изображен дважды,
каждый раз по другую сторону престола под сенью; по одну сторону апостолы
принимают от него хлеб, по другую – чашу. Это одно из нововведений в
иконографии, знаменующее отход от строгих правил иконопочитательского
богословия – ведь изображается здесь не историческое событие; Христос преподает
причастие апостолам, как епископ народу. Тем не менее, эта сцена прекрасно
отражает изложенное в комментариях учение о том, что литургия, которую служат
на земле, – образ Тайной вечери и небесного богослужения, а епископ – символ
Христа. Словом, причастие апостолов объединяет в одном образе историческую,
литургическую и духовную реальность.
Еще ниже
представлены фигуры литургистов в облике епископов в литургических одеяниях.
Главные места, естественно, отведены св. Василию Великому и св. Иоанну
Златоусту, а зачастую – и св. Григорию Великому, которому приписывают литургию
преждеосвященных даров. Их могут сопровождать диаконы – скажем, Стефан или
Лаврентий. Иногда они обращены к настоящему престолу; иногда один из них
изображен в центре апсидной стены. Держа в руках литургические тексты, святые
епископы прошлого предстают как бы небесными сослужителями тех, кто стоит у
земного алтаря.
На стенах,
отделяющих алтарь от нефа, нередко были представлены ветхозаветные прообразы
Евхаристии вроде тех, что мы видели в церкви Св. Виталия в Равенне:
жертвоприношение Авеля, упоминаемое в молитве проскомидии литургии Св. Василия;
Мелхиседек, приносящий хлеб и вино; Авраам, приносящий в жертву Исаака;
гостеприимство Авраама. Последний образ имеет не только евхаристический, но и
тринитарный смысл: стол, вокруг которого сидят три ангела, часто изображается в
виде престола, а на нем стоит чаша или блюдо с агнцем. Участие в Евхаристии
вводит молящегося в средоточие Троицы, самую природу которой составляет
жертвенная любовь.
Литургические
темы с особой отчетливостью проступают в декоре ризницы. На полукуполе апсиды
часто изображали св. Иоанна Крестителя в соответствии с толкованием Николая
Андидского: обряд проскомидии символизирует Боговоплощение и пророческие
предсказания о нем. Весьма своеобразным был символизм страстей. Иногда Христа
изображали в виде лежащего на дискосе младенца, чьи ребра пронзает копьем
(литургическим) епископ: это иллюстрация Германова толкования проскомидии в
версии Анастасия. Иногда Христос показан мертвым и приготовленным к погребению.
Впрочем, его могли изображать в виде младенца и без всякой символики страстей:
тогда на первый план выступала символика Рождества.
Христос
Вседержитель по-прежнему смотрел вниз с центрального купола, кроме, конечно,
храмов-базилик, где он перемещался на следующее самое святое место – полукупол
апсиды. Вошло в традицию по нижней кромке купола или по периметру
поддерживающего его барабана изображать Небесную литургию. Подобно причащению
апостолов, от которого эта сцена, возможно, и произошла, она тоже не совсем
соответствует богословию иконопочитания. В ней представлен Великий вход,
преобразованный в небесные реалии: ангелы-священники и ангелы-диаконы со
свечами, рипидами и священными сосудами шествуют к святому престолу. Великим
входом, как стенографическим значком, можно было обозначить всю литургию, что
наглядно показывает, насколько видное место он занял в самом обряде и в системе
византийского литургического благочестия. Иногда это шествие движется от одного
престола – от жертвенника – к другому. Иногда у престола изображен ожидающий
шествие Христос в епископских одеяниях. Может он стоять и у жертвенника,
провожая шествие.
На верхах
стен и храмовых сводах по-прежнему располагался круг великих праздников –
главных событий из жизни Христа. Теперь к ним добавились и другие едены – не
праздников в строгом смысле слова, а событий, отмечаемых в определенные дни
церковного года, например, Христос в храме среди учителей или неверие Фомы. В
символическом толковании литургии стали отмечать все новые подробности земной
жизни Христа, а иконография стала отражать все больше событий и сцен,
иллюстрирующих ту же самую тайну Воплощения.
К XIV в. в убранство храмов добавились и
другие иконографические циклы. Они носили повествовательный характер и не были
напрямую связаны с основной канвой жизни Христа. Располагались они в разных
уголках храма. В боковых нефах, приделах, притворах или нар-тексе могли
изображать жизнь Девы Марии. Ее Успение обычно помещали на западной стене нефа.
Этот цикл отчасти соответствует богородичным праздникам и таким
паралитургичес-ким практикам, как акафист Богородице. Другой цикл
второстепенного характера, встречающийся в боковых нефах, приделах и нартексе,
а иногда и в главном нефе, – учительство и чудеса Христа. Николай Кавасила в
своем толковании на Божественную литургию подчеркивает, что это, прежде всего,
воспоминание страстей, смерти и воскресения Христа, а не его чудес. Иногда
изображали в подробностях сами страсти, независимо от того, что в праздничном
цикле уже содержится образ Распятия.
К образам
святых, по-прежнему украшавшим в иерархическом порядке нижние части стен нефа,
теперь добавились циклы, изображающие жизнь отдельного святого – может быть,
того, кому посвящена данная церковь, или наиболее почитаемых в данной
местности, а то и вообще в церкви.
Начиная с XIV в. в притворах, нартексе или на
крыльце стали изображать семь Вселенских Соборов. Все они уже были памятными
событиями календаря, а Седьмой и вовсе отмечали в первое воскресенье Великого
поста как Торжество Православия – победу Церкви над всеми ересями. Их включение
в систему храмового убранства отражало спор с церковью Запада о том, сколько
именно соборов следует считать вселенскими, а их положение близ входа
подчеркивало, что Церковь есть столп и утверждение истинной веры в воплощение
Христа, о чем свидетельствует весь храм.
И еще одно
изображение впервые появляется в XIV в. – Страшный суд. Это тоже связано с календарем:
предпоследнее воскресенье перед Великим постом отмечено в нем как воскресенье о
Страшном суде. В литургии оно привязано к поминовению усопших на проскомидии, а
также напоминает о молитве «да не в суд и не в осуждение будет мне
причащение.., но во исцеление души и тела». Изображение Страшного суда иногда
располагалось в нартексе, иногда – на одной из стен часовни, используемой для
поминальных или похоронных служб. В Воронете (Румыния) оно занимает всю
наружную поверхность западной стены одной из пяти тамошних расписанных церквей.
Отчетливо
выраженную связь расширенной иконописной схемы XIV в. с церковным календарем можно
наблюдать в росписи нартекса – по всей поверхности его стен в соответствующем
порядке часто располагаются сцены основных праздников каждого месяца.
Разросшаяся в
объеме иконография XIV в.,
включая в себя элементы классической византийской схемы среднего периода,
содержала и богатый материал повествовательного характера, менее тесно
связанный с исходными принципами иконописи. Появились сцены, в которых
исторические элементы переплетены с неисторическими, причем невидимые реалии
представлены в символических образах. Это, пожалуй, вполне естественно в век,
когда Григорий Палама отстаивал исихазм афонских монахов и утверждал, что во
время литургии можно воочию увидеть Христа глазами веры:
Этот дом
Божий есть истинный символ Гроба Господня... Ведь позади завесы– помещение, где
будет положено Тело Христа, а также святой престол. И потому тот, кто с
ревностью приблизится к божественной тайне и к месту, где она расположена, и
будет упорствовать в этом до конца.., несомненно увидит Господа духовными,
скажу более– телесными очами. Кто видит в вере таинственную трапезу и хлеб
жизни, который приносится в ней, тот под внешними формами видит само
божественное Слово, ставшее плотью ради нас и живущее в нас как в храме.
Литургия в XIV в.
Диатаксис
Филофея показывает, что к середине XIV в. литургия обрела, за исключением нескольких
деталей, ту форму, в которой существует и поныне. Все новшества, вошедшие в нее
после XI в.,
относились к проскомидии и личному благочестию клира. В результате процесса,
начавшегося, по-видимому, в XII в., литургия св. Иоанна Златоуста сделалась
обиходным обрядом, а литургию св. Василия Великого стали служить лишь десять
раз в году. С точки зрения молящихся разница было небольшая, поскольку молитвы,
которыми обряды отличаются друг от друга, читали втайне, и лишь хвалебную песнь
Богоматери после Анафоры, тоже собственную для каждого из дней, когда служилась
эта литургия, пели вслух.
Толкование литургии
Византийская
традиция толкования литургии достигла апогея в трудах двух авторов, каждый из
которых завязал, наконец, узелок на одной из двух нитей, из которых эта
традиция и была свита. В Толковании на божественную литургию богослов-мирянин XIV в. Николай Кавасила придерживается
восходящей к антиохийской школе интерпретации обряда как символического
представления исторической жизни Иисуса Христа. Но, в отличие от Николая
Андидского, он применяет этот принцип осторожно и с умеренностью, настаивая на
том, что основополагающее значение имеет не это, а молитвы, чтения и действия,
составляющие службу. Превыше всего он убежден, что воспоминание Христа в
Евхаристии сакраментально по сущности, а центральный смысл литургии состоит в
причастии. Можно не сомневаться, что Толкование Кавасилы – обдуманный и
целенаправленный протест против безудержного символизма, свойственного Николаю
Андидскому.
В следующем
веке монах Симеон, ставший в 1416–1417 гг. архиепископом Фессалоникий-ским
(Солунским) и умерший в 1429 г., написал два трактата – Толкование церкви и
литургии и О священной литургии. Труд Кавасилы он, по всей видимости, прочел,
но под его влияние не подпал. Он считал себя последним учеником Дионисия
Ареопагита и писал в русле александрийской традиции, представителем которой был
Максим Исповедник.
Симеон Солунский
Тому, кто
созерцает богослужение, открывается и доступ к духовной реальности, которая
есть Христос. Реальность эта отлична от той, что дана в воплощении и принесена
всей историей спасительного домостроительства; скорее это реальность предвечного
Слова Божьего. Постепенно очищаясь, человеческий дух получает от Бога дар
просвещения, позволяющий ему подняться от уровня материальных символов к
духовной реальности, которая в них содержится. Так он возрастает в премудрости
и продвигается к совершенному знанию божественных тайн, которое составляет цель
христианской жизни. Симеон рассматривает это продвижение иерархически, как
Дионисий: каждый из небесных и земных чинов передает знание тайн нижестоящему.
Но в отличие от Ареопагита, для Симеона созерцание тайн – неотрывная часть
исторической работы, которая направлена к искуплению человечества.
В труде О
церкви и литургии Симеон утверждает, что всего лишь следует святым отцам. Из
этих его замечаний видно, до какой степени возобладала традиция символически
толковать литургию в византийской и вообще православной мысли и практике. Труд
Симеона ставит последнюю точку в развитии этой традиции, причем он исходит из
того, что литургия всегда была такой, как в XV в.:
Ибо мы ничего
не прибавили к тому, что нам передали, ни изменили ничего из того, что
получили. Мы сохранили все, как сохранили мы Символ веры. Мы служим Литургию
так, как ее передали нам сам Спаситель, апостолы и святые отцы. Как Господь
совершил ее со своими учениками, преломив хлеб и раздав им, а равно и чашу,
точно так же поступает и Церковь – епископ служит со священниками или
священники с другими священниками. Свидетель-ствует о том преемник апостолов,
святой Дионисий, уча, как служить, что делаем и мы. Василий со Златоустом,
которые преподали нам вещи божественные, толкуя все больше о великих тайнах,
завещали нам совершать ее так, как совершает наша Церковь, и их молитвы в
литургии свидетельствуют об их учении касательно первого и второго Входов и
всего остального обряда.
Первым делом
Симеон обращается к храму. К тому времени уже сложился обряд его освящения:
Храм, хоть и
сложен из вещей материальных, обладает благодатью свыше: ведь он освящен
таинственной молитвой епископа, помазан священным елеем, служит в полной мере
жилищем Бога. Не всякий может ходить в нем, куда пожелает: какие-то отделы его
для священников, какие-то для мирян.
Подразделение храма на две части – или на три, если
считать нартекс, – имеет несколько смыслов:
То, что в
нем две части – алтарь и неф,– представляет Христа, Который есть и Бог, и
человек– один незримо,другой зримо. Подобным же образом это представляет
человека, который есть душа и тело. Особенно же это знаменует тайну Троицы– она
непостижима в своей сущности, но мы знаем ее по ее проявлениям в мире. В
частности, это представляет видимый мир и невидимый, и также отдельно видимый;
небесное – святым алтарем, земное – святым нефом. С другой точки зрения всю
церковь можно рассматривать как трехчастную: то, что перед нефом, собственно
неф и алтарь. Это знаменует Троицу, и небесные воинства, выстроенные триадами,
и благочестивый народ, разделенный на три части – я говорю о священниках,
верных и кающихся. И также образ построения святого храма дает нам знание
земного, небесного и наднебесного: нартекс– того,что на земле, неф – того, что
на небе, святой алтарь – того, что превыше небес.
Алтарная преграда обозначает различие между чувственной и
духовной реальностями, алтарная завеса представляет небесную скинию Бога,
Каменный престол указывает нам на Христа как на скалу; нижний плат представляет
погребальные пелены, богатый верхний покров символизирует Его славу. Каждение –
образ благоуханной благодати Святого Духа, зажженные свечи – даруемое им
просвещение. Амвон символизирует камень, отваленный от входа в гробницу. Все
убранство храма представляет красоту тварного мира; огни суть подражание
звездам, паникадило – небесному своду.
9. Эпилог
Николай
Кавасила и Симеон Солунский писали комментарии на литургию, становление которой
во всех существенных элементах было уже завершено. С тех пор она изменилась
мало. Во всех православных церквах ее служат практически одинаково, с
второстепенными вариациями – каждая церковь использует свой национальный
литургический язык. Таким образом, она стала одним из факторов, объединяющих
автокефальные Церкви в одну семью. Вместе с другими службами она выражает в
молитве и богослужении ту веру, которой они все придерживаются; это еще один
объединяющий фактор. Как традиция сформулированного отцами IV–ХШ вв. вероисповедания считается
авторитетным выражением православной веры, так и литургическая традиция,
зародившаяся примерно в то же время и определившая тогда основные направления
литургии и многое из ее состава, почитается непреходящим стандартом
православного богослужения.
Прирожденный
консерватизм, все более проявлявшийся в Византийской церкви начиная с VIII в., в полной мере унаследовали
отпочковавшиеся от Константинополя славянские церкви. Его усугубляли для них
внешние обстоятельства. Начиная с VII в., когда территории древних патриархатов
Александрии, Антиохии и Иерусалима были завоеваны арабами-мусульманами, все
больше православных церквей оказывались под владычеством нехристиан. К моменту
падения Константинополя под натиском турок (1453) Восточная Римская империя
включала почти одну только столицу. Большая часть юго-восточной Европы уже
находилась под Османской империей, а к концу XV в. лишь два римских княжества,
Молдавия и Валахия, еще удерживали ненадежную независимость, прежде чем стать
данниками Блистательной Порты в Стамбуле. И только на Московской Руси
Православная Церковь жила в христианском государстве, которое и само лишь
недавно сумело освободиться от двухвекового татаро-монгольского владычества.
Такие
исторические обстоятельства возлагали на православные церкви ответственность
двоякого свойства. Служа для своих народов носителями христианской традиции,
они стали и носителями их национального самосознания, нередко подавляемого
иноземными угнетателями. Там, где церковь мало что могла, кроме как молиться в
храмах, литургия стала чем-то большим, чем выражением преданности христианской
вере. Необходимость сохранить не только христианскую, но и национальную
традицию требовала еще более строгого консерватизма во всех аспектах церковной
жизни. В Новой истории положение большинства православных изменилось мало.
Православная Церковь в России, не успев пожать плоды только что обретенной
свободы от имперского контроля и восстановления патриаршества в 1917 г., тут же
подпала под господство официально атеистического государства. Меньше одного
века продержалась после османского владычества свобода большинства церквей
юго-восточной Европы – после Второй мировой войны им пришлось жить в условиях
гонений со стороны марксистских государств. Единственная из главных
православных церквей, живущая в официально православном государстве, –
Элладская. Растущие православные церкви на Западе по большей части все еще
крепко привязаны к своим материнским церквам в традиционно православных
странах. Их образуют главным образом верующие из этих стран, живущие в
диаспоре, плюс небольшое число обращенных из местного населения, и на них часто
возлагается миссия хранить и передавать по наследству национальную православную
культуру, из которой они происходят.
Неудивительно
поэтому, что в православных церквах нет ничего подобного так называемому
литургическому движению, столь сильно повлиявшему на богослужебную практику
современных церквей Запада. Это движение возникло в результате изменений,
происшедших в современном западном христианстве. Изучение истории
западнохристианского богослужения выявило, что формы службы и способы ее
проведения, ставшие к началу нынешнего века традиционными, сложились под
влиянием тенденций, аналогичных тем, какие, как мы видели, действовали в
процессе становления православной литургии. Некоторые из основополагающих
принципов раннехристианского богослужения, в особенности евхаристического,
оказались перегружены и затемнены более поздними наслоениями. В то же время
изучение Нового Завета и церковного учения возродило взгляд на Церковь как на
сообщество верующих, служащих и свидетельствующих, а не как на клерикальное
учреждение, предоставляющее религиозное обслуживание относительно пассивной
массе. Тем самым в служении Евхаристии стали видеть особую деятельность,
отличающую христианское сообщество, осуществляемую всем народом Божьим –
царственным священством – и возложенную на него Богом в крещении. Из этого
вытекает активное свидетельство и служение христианского сообщества в жизни
мира – то, что один православный автор назвал «Литургией после литургии».
Нельзя сказать,
чтобы такое понимание дела, лежащее в основе обновления литургического
богослужения в разных подразделениях западнохристианских церквей, было чуждо
Православию. В своей книге «Введение в литургическое богословие» о. Александр
Шмеман выявляет те тенденции в развитии византийской литургии, которые чем
дальше, тем больше делали ее не столько служением всей Церкви, сколько
клерикальным актом, направленным на удовлетворение частных религиозных нужд.
Критически относится он и к традиции символического толкования литургии,
затемнившей собою тот факт, что Евхаристия по сути своей есть таинство. Его
анализ становления литургии основан на том же ощущении, которое вдохновляет
литургическое движение в церквах Запада. Но условия жизни православных церквей
настолько отличны от западных, что у них нет ни возможности, ни также желания
реформировать православную службу в том духе обновления, каким живет западное
литургическое движение.
Это не
значит, однако, что в православном служении литургии никаких изменений не происходит.
В России и в других странах, особенно – в диаспоре, многие православные
причащаются чаще, отходя от многовековой практики. В Греции ектений между
чтением Евангелия и Великим входом теперь, как правило, опускают. В приходских
церквах той же Греции литургию обычно служат с постоянно открытыми царскими
вратами, а многие храмы там, как и в Соединенных Штатах Америки, изменили
иконостас так, что у стоящих в нефе появилась возможность что-то увидеть.
Некоторые священники читают хотя бы часть Анафоры вслух, оставляя беззвучными
лишь одну-две «тайные» молитвы. Кое-где народ присоединяется к хору в пении
Трисвятого, Символа веры, Молитвы Господней и некоторых других. Традиция
символического толкования литургии в терминах земной жизни Христа официально не
оставлена и, как мы видели, в известной мере воплощена в тексте самого обряда.
Она все еще присутствует в современных книгах о литургии, но уже в довольно
фрагментарном и смягченном виде – похоже, она утрачивает свою былую
жизненность. Конечно, этим переменам далеко до того, чтобы называться
литургическим движением в западном смысле слова, и христиане Запада, как
правило, воспринимают православную литургию как традиционную, консервативную
форму евхаристического богослужения.
Впрочем,
части христиан именно это и нравится. К консерватизму склонны многие
религиозные люди, по крайней мере, в своей религиозной практике. Не все члены
Церкви встретили с энтузиазмом быстрый процесс перемен, который происходит на
Западе. Литургическое движение, как мы видели в первой главе, способствовало
перемещению акцента на определенные аспекты богослужения. Но остаются ведь и
другие, важность которых не осознает современная западная мода. В православной
литургии, несмотря на ее консерватизм, есть вещи, которым могут поучиться христиане
Запада. Некоторые из них присущи всему православному богослужению, а не только
литургии.
Прежде всего,
для православного храм как таковой носит характер таинства. Запад тоже освящает
храмы и выделяет их из всего прочего, но в наше время акцент делается на Церкви
как на святом сообществе, а не на храме как святом месте, и это влияет на то, в
каких зданиях происходит богослужение. На самом же деле эти два аспекта не
обязательно исключают друг друга. Молитвенному богослужению не мешает, а очень
помогает, когда входишь в заведомо святое место; легче осознать присутствие
Бога и свою общность со святыми. Оно должно быть не убежищем от внешнего мира,
а напоминанием о том, что пространственная и временная вселенная будет
преобразована благодатью Бога в Его Царство. Реальность этого Царства мы
предвкушаем и переживаем в Евхаристии, которую служим в освященном пространстве
храма.
В
Православной Церкви неотъемлемая составляющая этого пространства – иконы. Через
них осуществляется видимое и сакраментальное присутствие Христа, Пречистой Девы
Марии, святых и всего домостроительства спасения. Христиане Запада начинают
ценить ту роль, которую играют иконы в богослужении и молитве; но им еще
предстоит по-настоящему понять всю важность визуальных элементов богослужения. Православное
понимание иконы в принципе принадлежит всей Церкви, оно сформулировано Седьмым
Вселенским Собором. Но этот собор никогда в полной мере не понимали и не
принимали на Западе, а православная иконографическая традиция сохранила много
такого, чему могли бы поучиться все христиане.
Зрение – лишь
одно из орудий, с помощью которых в православном богослужении человек целиком
вовлекается в богослужение и молитву. В этом процессе участвуют все органы
чувств, вообще все тело. Перед иконами люди зажигают свечи. Неизменное на
всякой службе каждение взывает к обонянию. Через слух проникает и делает свое
дело музыка – ведь почти все тексты поют либо произносят нараспев, редко что
читают не нараспев. К иконам, облачениям и священным сосудам можно прикасаться
и целовать их; людей помазывают елеем; им дают есть освященный хлеб и другую
пищу. Тело также участвует в богослужении: люди осеняют себя крестным
знамением, кланяются и даже простираются ниц. Этой вовлеченности всего человека
и всех его органов чувств христианин Запада может поучиться. Церкви, испытавшие
влияние Реформации, традиционно относятся с подозрением к тому, чтобы в
поклонение Богу вмешивалось тело и вообще что бы то ни было материальное. Они
отделили дух от материи и, делая упор на слове, апеллируют главным образом к
разуму, к интеллектуальному восприятию. Недавние богослужебные реформы,
охватившие все западные церкви, еще больше выдвинули на первый план словесное и
интеллектуальное содержание службы за счет традиционных ее аспектов, которые
взывают не к разуму, а к другим сторонам человеческой личности. Сознающий,
рассуждающий ум, конечно, должен участвовать в богослужении, но есть еще и
чувства, и ощущения, и эмоции, словом – все, что лежит под рассудочной
поверхностью, а богослужение призвано вовлекать в свое движение к Богу и
пронизывать освящающей Божьей благодатью всего человека, целиком.
Каждая
личность, участвуя в богослужении, входит в определенные взаимоотношения с
другими личностями. Евхаристию служит народ Божий, а не собрание индивидуумов,
никак не связанных друг с другом. Очень важно, чтобы отношение человека к
сообществу понималось правильно. Интересно и, может быть, немаловажно одно
отличие между православными и западными прихожанами. Реагируя на индивидуализм,
считающийся характерной чертой западного христианства последних веков, западные
церкви старательно подчеркивают корпоративную природу Церкви и богослужения.
Очень может быть, что здесь кроется опасность – отдельных людей принуждают к
излишней согласованности. Православные не раз отмечали, как регламентированы и
организованы прихожане Запада, располагаясь в своих храмах на скамьях или
стульях четкими рядами. Обычай требует, чтобы они одновременно делали одно и то
же. При этом, однако, внешняя упорядоченность отнюдь не устраняет внутреннего
индивидуализма. Точно так же известная свобода, предоставляемая православным
прихожанам хотя бы тем, что у них нет скамей и рядов, не уничтожает чувство
сообщества. Открытое и свободное пространство нефа позволяет молящимся стоять
где они хотят, становиться на колени или класть земные поклоны, передвигаться
по церкви, зажигать свечи, прикладываться к иконам. В рамках традиции, довольно
строго предписывающей, как должны вести себя все присутствующие в храме, им
предоставляется удивляющая западных христиан степень личной свободы. Может
быть, в этом отражается более сбалансированный взгляд на взаимоотношения
отдельных личностей в христианском сообществе, чем тот, которого достигли западные
Церкви. Церковь – не собрание отдельных индивидуумов и не коллектив, в котором
отдельная личность подчинена целому. Это – сообщество личностей, поддерживающее
каждую личность в ее христианской жизни и поддерживаемое каждой личностью,
вносящей в него свою лепту. Может статься, Православная Церковь, не испытавшая
западного индивидуализма, а значит – и реакции на него, поможет западным
Церквам найти здесь правильный баланс.
Туг же
возникает вопрос об участии прихожан в богослужении. Как правило, на православной
литургии причащается совсем немного народу, а большая часть службы, если не
вся, поется клиром и певчими. Для современных западных христиан это значит, что
православные практически не участвуют в литургии – они лишь пассивные
наблюдатели клерикального обряда. Такая оценка, пожалуй, чересчур поверхностна.
Противоположное «активному» не обязательно пассивно; участвовать в богослужении
можно и созерцательно, наподобие того, как в англиканской традиции поют
вечернюю молитву. В литургии и других православных службах есть нечто
созерцательное, и тут христиане Запада тоже могут кое-чему поучиться.
Современное западное богослужение иногда настолько активно, что может
показаться суетливым и даже сбивать с толку. Литургическая молитва перемежается
указаниями сесть, встать, преклонить колени. Течение службы прерывается, когда
объявляют номера страниц, гимнов и молитв. Цель, конечно, благая – полное
участие в службе всех собравшихся; но иногда это может и раздражать, не говоря
о том, что теряется молитвенное настроение. В обновленных службах
предусматривается и молчание, но моменты эти не обозначаются и не всегда
используются для молитвы. Может быть, в суетливом, переполненном активностью
мире христианам нужно несуетливое, не очень активное богослужение? Может быть,
созерцательность православного богослужения придала бы Западу то измерение,
которого у него не было или которое, хотя и есть, может легко утратиться?
Если западные
христиане войдут в православный храм и поучаствуют в литургии, они получат то,
что редко получают в рамках своих традиций. Эта форма христианского
богослужения сложилась, как и их собственная, в конкретных культурных и
исторических обстоятельствах, и само богослужение – не менее христианское, чем
у них. Все больше христиан понимает, что у каждой из традиций в рамках Церкви
Христовой есть чем поделиться с остальными, и каждая нуждается в чем-то, что
есть у других. Православная Церковь сознает первостепенность богослужения в
христианской жизни, и это само по себе необходимо для всех. Было бы удивительно,
если бы христиане Запада не нашли в православном богослужении – особенно в
сердце церковной молитвы, в литургии – ничего, достойного подражания.
БИБЛИОГРАФИЯ
Комментарии на литургию
Bornert, R., Les
Commentaires Byzantines de la Divine Litwgie du Vile аи XVe Siecle.
Paris, Institut Francais d'Etudes Byzantines, 1966.
Cabasilas, Nicholas, The Divine Liturgy. Engl.
translJ. M. Hussey and P. A. McNulty. London, SPCK, I960.
Dionysius, Pseudo-, The Ecclesiastical Hierarchy. In
The Complete Works of Pseudo-Dionysius. Engl. transl. Colum Luibheid. London,
SPCK, 1987.
Germanos of Constantinople, On the Divine Liturgy.
Engl. Transl. Paul Meyendorff. New York, St Vladimir's Seminary Press, 1984.
Maximus the Confessor, The Church's Mystagogy. In
Selected Writings of St. Maximus the Confessor. Engl. Transl. G. С Berthold. New
York, Paulist Press, 1985.
Герман
Константинопольский. Сказание о церкви и рассмотрение таинств. М.: Мартис,
1995.
Максим
Исповедник. Мистагогия. В кн.: Творения преподобного Максима Исповедника. Т. 1, М.: Мартис, 1993.
Архитектура и иконография
Grabar, F. Christian Iconography: A Study of its
Origins. London, Henley, Routledge & Kegan Paul, 1969.
Kitzinger, E. Byzantine Art in the Making. London,
Faber & Faber, 1977.
Krautheimer, R. Early Christian and Byzantine
Architecture. The Pelican History of Art. London, Penguin Books, 1965.
Mathews, T. F., The Early Churches of Constantinople:
Architecture and Liturgy. The Pennsylvania State University Press, 1971.
Приложение 1
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
|
Основные
темы |
Номера пунктов |
|
Ветхозаветный храм |
2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 2.2.10;
3.1.1.5; 3.1.2.3; 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6 |
|
Христианский храм |
|
|
Христианский храм
как святыня |
1.1; 1.9; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3;
2.2.4; 2.2.6; 2.2.13 |
|
Устройство и литургичность
христианского храма |
1.8; 1.10; 2.1.2.; 2.1.3;
2.1.8; 2.1.10; 2.2.1; 2.2.8; 2.2.9; 3.1.1.4; 3.1.1.5; 3.2.4; 3.2.7 |
|
Убранство христианского храма,
система росписи |
2.1.13; 3.1.1.12;
3.1.1.13; 3.1.2.1; 3.2.2; 3.2.7 |
|
Храмовая архитектура и
церковное искусство |
1.2; 2.1.12; 2.2.11; 2.2.14;
3.1.1.2; 3.1.2.12; 3.2.2 |
|
Храмостроительство |
3.1.1.1; 3.1.1.6; 3.1.1.8;
3.1.2.4 |
|
Храм
как символ |
|
|
Образ и первообраз, символ |
1.3; 1.6; 1.9; 2.1.7; 2.2.5; 2.2.6;
2.2.12; 2.2.15; 3.1.2.1; 3.1.2.10; 3.2.2 |
|
Символика христианского храма |
1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.10;
2.1.3; 2.1.5; 2.1.8; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 2.2.1; 2.2.12; 2.2.15; 3.1.1.4;
3.1.1.9; 3.1.1.11; 3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.1.2.3; 3.1.2.5; 3.1.2.6; 3.1.2.8;
3.1.2.10; 3.1.2.11; 3.1.2.13; 3.1.2.14; 3.1.2.17; 3.2.2; 3.2.4 |
|
История
христианского храма, традиция и канон |
|
|
История храмостроительства |
2.1.4; 2.1.9; 2.1.11; 3.1.1.3;
3.1.1.5; 3.1.2.3; 3.1.2.6; 3.1.2.7; 3.2.7 |
|
Традиция и канон в архитектуре православного
храма |
2.1.4; 2.2.2; 2.2.13; 3.1.1.7;
3.1.2.5; 3.1.2.9; 3.1.2.16; 3.1.2.17 |
|
Особенности архитектуры
русского православного храма |
2.1.1; 3.1.1.10; 3.1.2.7;
3.1.2.15 |
|
Проблемы современного
храмостроительства |
2.2.14; 3.1.1.14; 3.1.2.9 |
Приложение
2
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Православный храм и его символика
Аверинцев
С.С. Заметки к будущей классификации типов символа // Проблемы изучения
культурного наследия. – М., 1985.
Аверинцев С.С.
Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия. Южные славяне
и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. – М., 1973.
Аверинцев
С.С. К уяснению символа надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской //
ДРИ. Художественная культура домонгольской Руси. – М., 1972.
Аверинцев
С.С. Символика раннего средневековья (К постановке вопроса) // Семиотика и
художественное творчество. – М.: Наука, 1977.
Антоний митр.
Сурожский. Дом Божий. Три беседы о Церкви. – М.: Путь, 1995.
Антонов Н.Р.
Храм Божий и церковные службы (учебник богослужения для средней школы). – СПб.,
1912.
Багрецов Л.
Смысл символики, усвояемой св. отцами и учителями Церкви христианскому храму и
его составным частям. – СПб., 1910.
Барсегян Т.
«Божиим веление сотворенны» // Московский журнал, 1991, № 6.
Баталов А.,
ВятчанинаТ. Образ Иерусалимского храма в архитектуре Московского государства XVI–XVII вв.: доклад на VI Респ. конференции в Ереване в 1987 г.
// АС Москвы, 1988, № 6.
Булгаков Г.И.
Заветы древнего церковного зодчества и иконографии (К вопросу о вынесении
жертвенников и ризниц из св. алтарей в особые помещения, об устройстве
жертвенников узаконенного размера и формы и о размещении св. икон в храме и
алтаре). – Курск, 1910.
Булгаковский
Д. Св. Храм Божий и его священная важность для христиан. – СПБ., Тузов, 1893.
Бусева-Давыдова
И.Л. Литургические толкования и представления о символике храма в Древней Руси
// Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. – СПб.: Центр
восточ-нохристинской культуры, 1994.
Буслаев В.И.
Сочинения по археологии и истории искусства (Византийская и древнерусская
символика). Т. 1–3. – СПб., 1908, 1910; 1930.
Вагнер Г.К.
От символа к реальности. – М., 1980.
Вагнер Г.К.
Византийский храм как образ мира // ВВ № 47. - М., 1986.
Вагнер Г.К.
Канон и стиль в древнерусском искусстве. – М.: Искусство, 1987.
Варнава еп.
Место молитвы (храм и его внешняя обстановка) // Основы искусства святости,
ж-л. «Глаголы жизни», 1992, № 2.
Вениамин
(архиеп.). Новая Скрижаль. – СПб., 1908.
Ветринский И.
Памятники древней хрис-танской Церкви. Т. 2. – СПб., 1830.
Вилинский
С.Г. Византийско – славянские сказания о создании храма Св. Софии Ца-реградской
// Летопись ИФО. VIII в. Визан-тийско-славянское отделение. Т. 5. – Одесса, 1900.
Владышевская
Т.Ф. Музыка в синтезе храмового действа // Музыка Древней Руси. Искусство
Древней Руси. – М., Искусство, 1993.
Восточнохристианский
храм. Литургия и искусство / Под ред. И.М. Лидова. – СПб.: Центр
восточнохристианской культуры, 1994.
Голейзовский
Н.К. Семантика новгородского тератологического орнамента //Древний Новгород.
История. Искусство. Археология. Новые исследования. – М., 1983.
Голубинский
Е. История алтарной преграды или иконостаса в православных церквах. – СПб.,
1971.
Голубцов А.П.
Из чтений по церковной археологии и литургике. С-Пб.: Сатис, 1995.
Гуляницкий
Н.Ф. Освободительные идеи Руси в образах памятников архитектуры XVI-перюй половины XVII вв. //АН № 32. - М., 1984.
Гуляницкий
Н.Ф. О внутреннем пространстве в композиции раннемосковских храмов // АН № 33.
- М., 1985.
Живов В.М.
«Мистагория» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа //
Художественный язык средневековья. – М., 1982.
Иванов В.В.
(св.) Христианская символика в богословии «Корпус ареопагитикум». – Загорск:
МДА, 1975 (машинопись).
Иванов И. О
значении храма и образа в области веры и религии Христовой. – Воронеж, 1894.Приложение 2. Библиографический указатель
Кирилл
Транквилион. Зерцало богословия (свод символов Церкви). –Потаев, 1618; Унев,
1692.
Комеч А.И.
Символика архитектурных форм в раннем христианстве // Искусство Западной Европы
и Византии. – М., Наука, 1978.
Красносельцев
Н.Ф. Очерки из истории христианского храма. – Казань, 1881.
К Свету.
Символика русского храмоздательства. – М. 1994.
Кудрявцев М.П.
Москва – Третий Рим. – М: Сол Систем, 1994.
Кудрявцев
М.П., Мокеев Т.Я. О типичном русском храме 17 в. // АН № 29. – М., 1981.
Кудрявцев
М.П. Сообщение по докладу прот. Льва Лебедева «Богословие земли как образа
обетованной земли Царства небесного» (содоклад на межд. церк. конф.:
«Богословие и духовность», май 1987) // Тысячелетие Крещения Руси. – М.: МП,
1989.
Кудрявцев
М.П. Храмовая архитектура Древней Руси // Русская Православная Церковь. - М.,
1980.
Лев Лебедев, прот.
Богословие русской земли как образа обетованной земли Царства небесного (на
некоторых примерах архитектурно-строительных композиций XI–XVII вв.). Доклад на межд. церк. конф.
«Богословие и духовность», май 1987 // Тысячелетие Крещения Руси. – М.: МП, 1989.
Лев Лебедев,
прот. Духовное преображение творения в православном богослужении. – ЖМП, 1983,
№ 7.
Лев Лебедев,
прот. Православный храм; Богослужения при основании и освящении храма;
Богословско-литургический словарь // Настольная книга священнослужителя. Т. 4.
– М.: МП, 1983.
Лелеков А.А.
Символизм новгородских сионов // Сообщения 1 ВЦНИЛКР 28. – М.,
1973.
Лео фон
Кленце. Руководство к архитектуре христианского культа. – Мюнхен, 1833.
Лидов A.M. Схизма и византийская храмовая
декорация // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. – Центр
восточнохристианской культуры, СПб., 1994.
Локтев В.И.
Крестово-купольный тип храма в русской и грузинской средневековой архитектуре
как способ восприятия пространства (доклад на II международном симпозиуме по грузинскому
искусству). – Тбилиси, 1977.
Лосев И.О.
Логика символа // Контекст-1972. - М., 1973.
Лосев А.Ф.
Очерки античного символизма и мифологии. Т. 1. – М., 1930.
Лосев А.Ф.
Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1976.
Лосский В. Образ
и подобие. – ЖМП. № 3, 1958.
Луковникова
Е. Древнехристианская изобразительная символика // Альфа и Омега. – М., 1995, №
3(6).
Максим
Исповедник. Тайноводство // Писания отцов и учителей Церкви. – СПб., 1855.
Матфей
(игумен). О духовном значении храма. – Загорск: МДА, материалы ЦАК, № 8, 1970.
Мельник А.
Освященное пятиглавие // Московский журнал, № 4, 1992.
Мокеев Г.Я.
Столичный центр Пскова конца XV в. // АН, N 21. – М., 1976.
Мэтью Томас.
Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантокра-тора в куполе
// Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. – Центр
восточнохрис-тианской культуры, СПб., 1994.
Никодим митр.
Ленинградский и Ладожский. Христианские храмы и богослужение во времена св.
Иоанна Златоуста (по его творениям). - ЖМП, 1964, № 11-12.
Новая
Скрижаль. – СПб., 1909.
Нюстрем Эрик.
Библейский словарь (храм...).– Торонто, 1989.
ОстаповА.
(прот.). Церковно-археологический словарь (элементы арх. и живоп., персоналии,
стили, города). – МДА, 1961; 1963 (машинопись).
Першин С. Почему
церковь похожа на церковь? // Наука и религия, № 3, 1985.
Писания св.
отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения.
Сочинения Блаженного Симеона архиепископа Фессалоникийского. – СПб., 1856.
Покровский
Н.В. Иерусалимы или сионы Софийской ризницы в Новгороде. – СПб., 1911.
Покровский
Н.В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. – М., 1880.
Покровский
Н.В. Справочная книжка для любителей церковной архитектуры, – СПб., 1904.
Протасов Н.Д.
Архитектура храма и настроение. – Сергиев Посад, 1913.
Раппопорт
П.А. Ориентация русских церквей // Краткие сообщения института археологии, вып.
139. – М.: Наука, 1974.
Св. Герман
Константинопольский. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. – М.: МАР-ТИС,
1995.
Светлаков А.
(св.) Христианские храмы, история их и значение. – Н. Новгород, 1882.
Святославский
И. (св.) Записки для чтения о храме с приложением об иконописи. – М, 1879.
Серафим
Слободский (прот.). Закон Божий (храм и его устройство). – Jordanville, USA, 1987.
Симбирцев
И.М. О старинном устройстве деревянных церквей на Севере в идейном и
эстетическом отношении. – Архангельск, 1914.
Скабаланович
М. Таинственный храм прор. Иезекииля // Труды Киев. Дух. Акад. – 1908, март.
Смирнов
(архимандрит Евлогий). Храм Божий - ЖМП, 1973, № 10.
Соболев И.
(ев) Православный храм. – ЖМП., 1972, № 11.
Трифон
(епископ Дмитровский). Любите храм Божий. – ЖМП, 1974, № 12.
Троицкий Н.И.
Влияние космологии на иконографию византийского купола. – Тула, 1898.
Троицкий Н.И.
Иконостас и его символика // Православное обозрение, 1891, апрель; Труды VIII АС, т. 4, М., 1887.
Троицкий Н.И.
Христианский православный храм в его идее. Опыт изъяснения символики храма в
системном изложении. – Тула, 1916.
Трубецкой
Е.Н. Умозрение в красках. – М., 1916.
Уваров А.С.
Христианская символика. Ч. 1. – М., 1908; рукописи А.С. Уварова т. II. – СПб., 1858.
Уваров А.С.
Христианские древности и зодчество, т. 1. – МДА, ЦАК.
Успенский
Б.А. Солярно-лунарная символика в облике русского храма. // Тысячелетие
Крещения Руси. – М.: МП. 1983.
Успенский Л.
Богословие иконы Православной Церкви. – М.: МП, 1989.
Успенский Л.
Символика храма. – ЖМП, № 1, 1958.
Федоров В. На
стезях духовного созидания (храм и богослужение) // О вере и нравственности по
учению Православной Церкви. – М.: МП, 1991.
Феодосии
Сафонович. Выклад о церкви и ея тайнах. – Киев, 1666.
Флоренский
Павел (св.). Иконостас// Богословские труды, № 9. – М., 1972.
Флоренский
Павел (св.). Небесные замения / Размышления о символике цвета // Маковец.
Журнал искусств, 1922, № 2.
Храм Божий и
церковные службы // Учебник богослужения для средней школы. – СПб., 1912.
Церковная
археология в вопросах и оглавлениях по книге, именуемой Новая Скрижаль, для
употребления в духовных семинарах. – СПб., 1839.
Чтение о-ва
любителей духовного просвещения. О храмах. – СПб., 1875, № 4.
Шамаро А.А.
Русское церковное ходчество: символика и истоки. – М., Знание, 1988, № 10.
Языкова И.К.
Икона в литургическом пространстве // Богословие иконы. – М.: Издательство
Общедоступного Православного Университета, 1995.
Ястребов А.
Храм, его символика и значение в жизни христианина. – ЖМП, № 11, 1953.
Auber С. Histoiree et theorie du symbolisme religient avant
et deputs te Christiansisme. – Paris, 1971.
Braun J. Der christiche Altar, I–II. – Munchen, 1924.
Faeusen Hubert. Geschichte, Symbolik und Funktion
altrussische Baukunst.
Gass W. Symbolik der griechischen Kirche. – Berlin,
1972.
Gers Heinz-Mohr. Lexikon der Symbole. – Herder, 1992.
Kallenbach G. Dogmatische-Liturgischsym-bolische
Auffassung... – Hall, 1857.
Klenze L. Anweisung zur Architektur des christlichen
Cultus –Munchen, 1833.
Martyzium. Recherche sur le culte des relignes et lart
chretien antigue, ler vol. Architecture. – Collede de France, 1946, 2 vol,
Iconographie, 1946.
Ouspenski Z. The symbolism of the Church. – Oxford,
1964.
Ouspenski Z. Symbolik des orthodoksen kirchengebaude
und der Icon.
Panofasky E. Aufsatze zu Grundfragen der
Kunstgeschichte. – Berlin, 1964.
Sauer J. Symbolik der Altars. – Freiburg im Sreisgan,
1924.
Smith E. Architectural Symbolism of imperial Rome and
Middle Ages. – Princston, 1956, The Dome, Princston, 1956.
Schnell H. Zur Situation der christlichen Kunst der
Gegenwart. –Munchen-Zurich, 1962.
Sczensny Marina. Leon von Klenzes «Anweisung zur
Architektur des christlichen Cultus» (дисс), 1974.
Церковь, культура и творчество
Болотов В.В.
Лекции по истории Древней Церкви. – Пг., 1918.
Булгаков
Сергий (проф., прот.). Еще к вопросу о Софии, Премудрости Божией. (По поводу
определения Архиерейского Собора в Карловцах) // Путь (Приложение), 1936.
Булгаков С.
(прот.). Православие. Очерки учения Православной Церкви. YMCA-PRESS, 1985.
Булгаков С.
(прот.). Свет невечерний. Созерцания и умозрения. – Серг. Посад, Моск. губ.,
тип. И. Иванова, 1917.
Варнава
(Беляев) (епископ). Основы искусства святости (Опыт изложения православной
аскетики) 1922–1928 гг. // Б.г. (машинопись).
Васечко
Николай. Влияние христианства на формирование и развитие древнерусского
изобразительного искусства/ Курс, соч., МДА, 1960.
Василий
Великий. Творения. – СПб, 1911.
Веселого А.В.
Гносеологическая природа религии и ее соотношение с гносеологической природой
искусства. Одесса, 1966 (дисс. к.ф.н.).
Вишневский П.
Богословско-эстетические воззрения священника Павла Флоренского. Загорск, МДА,
1981 (машинопись).
Георгий
Флоролвский (прот.). Пути русского богословия. – Киев: «Путь к истине», 1991; YMCA-PRESS, 1983.
Глубинский Е.
История русской Церкви. Т. 1,2. - М., 1904.
Голубцов А.П.
Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев Посад, 1918; СПб.:
Сатис, 1995.
Даниленко
Л.А. Философско-эстетические взгляды Августина (дисс.к.ф.н.). – М., 1982.
Дионисий
Ареопагит. О небесной иерархии или священноначалии. М., 1786; О церковном священноначалии.
– М., 1878.
Дмитриевский
И.И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной
литургии (основано на св. Писании, правилах), в т.ч. Книга о храме Симеона
мит-роп. Солунского. Репр. Изд. 1984 г. Изд. отд. МП, 1993
Дьяченко Г.
Беседы о богослужении. – М., 1888.
Евсевий
Памфил. Сочинения. Т.З. – СПб., 1848.
Ерминия, или
Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом живописцем
Дионисием Фурноаграфиотом, 1707– 1733. - Киев, 1868. Переиздание: М., 1993.
Зернов Николай.
Три русских пророка. Соловьев, Достовский, Соловьев. – М.: Московский рабочий,
1995.
Иванов В.В.
(св.) Духовные основы церковного искусства. ЖМП, № 4, 1983.
Иванов М.С.
(проф.) Церковь и культура // О вере и нравственности по учению Православной
Церкви. Сборник. – М., 1991.
Ильин И.А.
Аксиомы религиозного опыта. Т. 1-2. – Париж – М.; ТОО Рарог, 1993.
Ильин И.А.
Основы христианской культуры. – Женева. Изд. Бюро Конфедерации рус. тру-дящ.
христиан, 1937.
Ильин И.А.
Поющее сердце <фрагменты> // Родина. Русская философия. Православная
культура /Сост. и авт. вступ. ст.е.С. Троицкий. – АКИРН. - М., 1992.
Ильин И.А.
Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993.
Ильин И.А.
Что такое искусство // Одинокий художник/ сост., примеч. и предисл. В.И. Белов.
– М.: Искусство, 1993.
Иннокентий
(Павлов) (игумен). Церковь и культурные сокровища Святой Руси // Церковь и
время. - М.: МП, ОВЦС, 1991, № 2.
Иоанн
Дамаскин. Точное изложение православной веры (слова в защиту святых икон). –
СПб. – М., 1894.
Иоанн
Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы // Полное
собрание творений, т. 1. – СПб., 1913.
Иоанн
Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Мысли о богослужении православной церкви.
-Л., ПДА, 1991.
Иоанн
(Максимович), архиеп. Почитание Богородицы и Иоанна Крестителя и новое
направление русской религиозной-философской мысли // Православная беседа. –
1993, № 2.
Иоанн
(Экономцев), игумен. Православие, Византия, Россия (сб. статей, в т.ч.: Исихазм
и проблемы творчества). YMCA-PRESS, 1989; М.: Христианская литература, 1992.
Иосиф
Волоцкий (преп.). О поклонении храму – образу Божию // Послание иконописцу. –
М., 1994.
Иустин
(Попович), архимандрит. Гуманистическая и богочеловеческая культура //
Православная Церковь и экуменизм. – Солунь. Изд. Хиландарского монастыря, Св.
Гора Афон, 1974.
Историческое,
догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии. – СПб.: изд.
Тузова, 1896.
Карташов А.В.
Влияние Церкви на русскую культуру // Русское возрождени. – Нью-Йорк – М. -
Париж, 1982, № 2 (18).
Киприан (Керн),
архимандрит. Антропология ев. Григория Паламы. – Париж, YMCA-PRESS, 1950.
Козлов Максим
(свящ. преп. МДА). Что воссоздаст великую Россию?/ Беседу вел А. Тимофеев //
Православная беседа, – 1993, № 4.
Концевич И.М.
Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. – М.: МП, 1993.
Красносельцев
Н.Ф. О древних литургических толкованиях. – ЛИФОНУ (Новороссийский
университет), IV, Визант. отд. II, Одесса, 1894.
Красносельцев
Н.Ф. «Толковая служба» и другие сочинения, относящиеся к объяснению
богослужения в Древней Руси XVIII века (библ. обзор) // Православный
собеседник. – Казань, 1878, май.
Кураев
Андрей, диакон. Грехопадение // Человек <РАН>, 1993, № 5, 6, 1994, № 1.
Ладинский А.
Церковная археология. – СПб, 1873.
Лев [Церпицкий],
еп. Новгородский и Старорусский. Размышления о религии и культуре // Москва,
1993, № 12.
Леман-Абрикосов
Г.Л. Основные мысли о культуре и искусстве. – МДА., мат. ЦАК, вып. 9, 1971.
Леонтьев К.Н.
Избранное. – М., Рарог, Моск. рабочий, 1993.
Лосский В.Н.
Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М.,
1991.
Лосский В.
Спор о Софии. Докладная записка прот. Булгакова и смысл Указа Московской
Патриархии. – Париж, 1936.
Лотман Ю.М.,
Успенский Б.А. Миф – имя – культура. ТЗО, 6. – Тарту, 1973.
Максим Грек.
Сочинения, т. III, Казань, 1862.
Малков П. О
воззрениях святых отцов и учителей Церкви на языческую культуру // Альфа и
Омега. – М., 1995, № 2(5).
Малков Ю.Г.
Некоторые аспекты развития восточно-христианского искусства в контексте
средневековой гносеологии // Советское искусствознание 77, вып. 2. – М, 1978.
Манн Т. Иосиф
и его братья. – М., 1968, т. 1; Доктор Фаустус. – М., 1960, т. 5.
Марк
(Лозинский). Епископ Игнатий (Брянчанинов). О церковном искусстве. – МДА, мат.
ЦАК, № 6.
Матвеев
Анатолий. Изобразительное искусство в жизни Церкви (реф.). – МДА, мат. ЦАК,
вып. 9, 1971.
Мейендорф
Иоанн, проториерей. Введение в святоотеческое богословия (конспекты лекций). –
Вильнюс – Москва: Весть, 1992.
Мейендорф
Иоанн, протопресв. Наследие красоты: Литургия и искусство в русской духовной
традиции // Мера. – СПб., 1993, № 2.
Мейендорф
Иоанн, протопресв. О византийском исихазме и его роли в культурном и
политическом развитии Восточной Европы в XIV веке // Труды отдела древнерусской
литературы, т. XXIX. - Л., 1974.
Миронов A.M. История христианского искусства. –
Казань, 1914. «Народ Божий», Афины, 1977.
Настольная
книга священнослужителя, т. 4. – М., 1983.
Некрасов В.Л.
Некоторые работы по истории христианского искусства – западноевропейского и
русского. – ЛДА., 1978 (дисс. машиноп.).
Никонор
(Бровкович), епископ Херсонский и Одесский, преосвещ. Поучение при освящении
здания Общества изящных искусств // Православное обозрение. – М., 1885, № 10.
Николай
(Чернышев), диакон. К вопросу о восстановлении памятников церковной культуры в
наши дни // Святыни и культура. – М.: БВС, 1992.
Никольский
К.Т. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. – СПб., 1894;
изд. 6, СПб., 1990.
Нил
Синайский. Творения, ч. 3. – М., 1899 (Письмо по поводу украшения церкви).
Оливье
Клеман. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. – М.:
Путь, 1994.
Олсуфьев Ю.,
граф. Заметки о церковном пении и иконописи как видах церковного ис-
кусства в
связи с учением Церкви // Московский журнал, 1992, № 3.
Остапов А.,
(прот.). Основные периоды истории русской культуры и искусства X–XX вв. – МДА., мат. ЦАК, № 4
(зодчество).
Остапов А.
(прот.). Учебный курс церковной археологии. – МДА., 1964.
Писания св. отцов
и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. –
СПб., т. 1–3, 1855–1857:
-
Преподобного Максима исповедника тай-новодство о том, что символами служат
действия, совершаемые по чину св. Церкви в божественном собрании (литургии).
- Слово св.
Софрония, патр. Иерусалимского о таинственном священнодействии.
- Св. отца
нашего Германа, патр. Константинопольского последовательное изложение церковных
служб и обрядов, и таинственное умозрение о их значении.
- Симеон
Солунский. Разговор о св. священнодействиях и таинствах церковных.
Платон архим.
Благодатные узы любви (богословие образа)//О вере и нравственности по учению
Православной Церкви. – М.: МП, 1991.
Покровский Д.
Словарь церковных терминов. - М.: РИПОЛ, 1995.
Покровский
Н.В. История христианского искусства в первые восемь столетий. – СПб., 1883.
Покровский
Н.В. Лекции по церковной археологии, читанные студентам СПб. Духовной Академии.
– СПб., 1885.
Покровский
Н.В. Церковная археология и литургика. – СПб., 1980; П., 1916.
Покровский
Н.В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. – П.,
1916.
Попов И.
Элементы греко-римской культуры в истории древнего христианства//Вопросы
фиолсофии и психологии, кн. 1 (96), 1909.
Поселянин Е.
Искусство и религия//Светильник: Религиозное искусство в прошлом и настоящем. –
1992; № 1.
Православие и
искусство. Опыт библиографического исследования/Авт.-составители: Е.В. Данилов,
Д.В. Новиков. – М.: Т-во русских художников, 1994.
Редин Е.К.
Христианская топография Козмы Индикоплова по греческим и русским спискам, ч. 1.
–М., 1916.
Русская
Православная Церковь. – М.: МП., 1980.
Рябушинский
В.П. Литургическое значение священного искусства//Вестник РСХД. –
Париж–Нью-Йорк, 1954, № 5–6 (35).
Святой
Праведный Иоанн Кронштадский. Моя жизнь во Христе. Мысли о богослужении
Православной Церкви. – Л.: Православная Духовная академия, 1991.
Святыни и
культура. – М.: Общество ревнителей православной культуры, 1992.
Семенов
Тянь-Шанский А. (прот.). Искусство в христианском мире//Вестник РСХД. –
Париж–Нью-Йорк, 1962, № 2 (65).
Семенов
Тянь-Шанский Д. Труд, творчество и свобода//Путь, 1936/37, № 52.
Серафим
(Роуз), иеромонах. Православное мировоззрение//Русский паломник, 1990, № 1.
Серафим (Соболев),
архиеп. Новое учение о Софии Премудрости Божией. – София, 1935.
Серафим
(Соболев), архиеп. Русская идеология. – Джорданвилль. – N.Y., Свято-Троицкий монастырь, 1987.
Слесинский
Р., Философия культа по учению о. Павла Флоренского//Вестник РДХ. – Париж-Нью-Йорк
- М., 1981, № 3-4 (135).
Соловьев B.C. Общий смысл искусства// Сочинения в
2-х тт., т. 2/Общ. Вед. и сост. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева; прим. С.Л. Кравца и
др. – М.: Мысль, 1988 (Филосовское наследие, т. 105).
Сочинения св.
Дионисия Ареопагита. Книга о церковной иерархии//Писания св. отцов и учителей
Церкви, т. 1. – СПб., 1855.
Сочинения св.
Иринея, еп. Лионского. – М., 1871.
Струев Н.
Спор о софилогическом богосло-вии//Вестник РХД. –Париж–Нью-Йорк – М., 1987, № 1
(149).
Струев Н.
Православие и культура/Вступ ст. Н. Поздняковой. – М.: Христианское
издательство, 1992.
Субботин К.
(св.). Руководство к изучению устава богослужения Православной Церкви. – Сатис,
СПб., 1994.
Творения Тертуллиана,
христианского писателя в конце второго и начале третьего века. – СПб., 1850, ч.
4.
Тихомиров
П.В. Художественное творчество и религиозное познание. Филосовско-богослов-ский
очерк. – Серг. Посад Моск. губ.; 2-я тип. Снегиревой, 1897.
Топоров В.И.
О космологических источниках раннеисторических описаний // ТЭС, 6. – Тарту,
1973.
Трубецкой Е.
Смысл жизни. – Берлин, Слово, 1992.
Угринович
Д.М. Искусство и религия. – М., 1963.
Успенский Л. VII Вселенский Собор и догмат о
иконопочитании. – ЖМП, № 12, 1958.
Федоров Н.Ф.
Сочинения. – М., 1982.
Федор
[Позднеевский], архиепископ. Смысл христианского подвига. – М., Донской
монастырь, изд. МП, 1991 (Репринт. Изд. Св.-Троицк. Серг. Лавра, 1911).
Философия
русского религиозного искусства XVI–XX вв. Антология/Сост., общ. ред. и предисл. Н.К,
Гаврюшина. – М.: Прогресс, 1993.
Флоренский
Павел (св.). Из богословского наследия: Богословие культа//Богословские труды,
вып. XVII, 1977.
Флоренский
Павел (св.). Храмовое действо как синтез искусств // Маковец. Журнал искусство,
1922, № 1 // Статьи по искусству, Paris, YMCA-PRESS, 1985 // AC Москва, 1988, № 6.
Флоренский
Павел (св.). Христианство и культура // ЖМП, 1983, № 4.
Флоровский
Г., проф., прот. Вера и культура // Святыни и культура: Сборник/Братство
Всемилостивого Спаса. – М., 1922.
Флоровский
Г.В. (прот.). Пути русского богословия. – Париж, YMCA-PRESS, 1983.
Флоровский
Г.В. (прот.). Этос Православной Церкви // Вестник русского зап.-европей-ского
патр. экзархата, № 42–43.
Хенгсбах Ф.
Раннехристианское искусство из Рима (каталог), 1962, МДА, ЦАК.
Хомяков А. С.
О возможности русской художественной щколы // Русская эстетика и критика
40–50-х годов XIX в. – М.: Искусство, 1982.
Христофор
(архим.). Древнехристианская иконография как выражение древнецерковно-го
мировоззрения, – СПб., 1886.
Черкасов-Георгиевский
В. Москва. Религиозные Церкви и общины. – М.: Профиздат, 1992.
Шаргунов
Александр, протоиерей. От богословских утопий к духовной трезвости // Пра-вославная
беседа, 1993, № 1.
Шишкин А. О
границах искусства у Вяч. Иванова и о. Павла Флоренского // Вестник РХД. –
Париж-Нью-Йорк – М., 1990, № 3 (160).
Шмеман А.,
прот. Исторический путь Православия. – Paris, YMCA-PRESS, 1985.
Шмидт Ф. Что
такое византийское искус-ство//Вестник Европы, 1912, октябрь.
Шохин В.
Демократия от богословия или Новое учение о Софии//Православная беседа. – 1993,
№ 2.
Эйкен Г.
История и система средневекового мировоззрения. – СПб., 1907.
Языкова И.К.
Богословие иконы. – М, 1995.
Яковлев И.Г.
Искусство и мировые религии. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977; 1985.
Православная эстетика и культура
Аверинцев
С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., Наука, 1977 / Автореф. дисс. М.,
1979.
Аверинцев
С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средне-вековья //
Античность и Византия. – М.: Наука, 1975.
Аверинцев
С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // ДРИ.
Зарубежные связи. – М., 1975.
Аверинцев
С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к
средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения, М., 1976.
Аверинцев
С.С. У истоков поэтической образности византийского искусства // Древнерус-ское
искусство. Проблемы и атрибуции. – М., 1977.
Адамян А.
Эстетические воззрения средневековой Армении. – Ереван, 1955.
Александр
Мумриков (диакон). Критерии красоты и церковности в иконографии Рождества
Христова // Московский журнал, 1991, № 1.
Амфитеатров
Е.В. Исторический очерк учений о красоте и искусстве. – Харьков, 1890.
Асмус В.Ф.
Вопросы теории и истории эстетики. – М.: Искусство, 1968.
Асмус В.Ф.
Классики античной эстетики // Античные мыслители об искусстве. – М., 1937.
Афанасьев А.
Поэтические воззрения славян на природу. Т. I–III. –М., 1865–1869.
Борис
Михайлов (диакон). Утопия эстетизма в музейном деле // Святыни и культура. –
М., 1992.
Бычков В.В.
Античные традиции в эстетике раннего Августина. Традиции в истории культуры. –
М.: Наука, 1978.
Бычков ВВ.
Взаимосвязь философского, религиозного и эстетического в восточнохри-стианском
искусстве (критический анализ проблемы). – М., 1973 (дисс. к. ф. н.).
Бычков В.В.
Византийская эстетика. Теоретические проблемы. – М.: Искусство, 1977.
Бычков В.В.
Из истории византийской эстетики // ВВ № 37. - М., 1976.
Бычков В.В. К
вопросу восточнохристианской гносеологии // Историко-филосовский сборник, № 3.
- МГУ, 1971.
Бычков В.В. Corpus Areopagiticum как один из философско-эстетических
источников вос-точнохристианского искусства. – Тбилиси, 1977.
Бычков В.В.
Малая история византийской эстетики. – Киев: Путь к истине, 1991.
Бычков В.В.
Образ как категория византийской эстетики // ВВ № 34. – М., 1973.
Бычков В.В.
Традиции символизма в древнерусской эстетике // Византия и Русь. – М.: Наука,
1989.
Бычков В.В.
Эстетика Филона Александрийского // ВДИ. - М., № 3, 1975.
Бычков В.В.
Эстетические аспекты иконографического канона в восточнохристианском
искусстве//Вопросы теории и истории эстетики, вып. 7. – М., 1972.
Бычков В.В.
Эстетические взгляды Климента Александрийского//ВД И. –М., № 3, 1977.
Бычков В.В.
Эстетические идеи патристики II–V вв. н.э. (критический анализ) (дисс. д. ф. н.).-М., 1980.
Бычков В.В.
Эстетическое знание цвета в восточнохристианском искусстве//Вопросы истории и
теории эстетики. – МГУ, 1975.
Бычков В.В. CORPUS
AREOPAGITICUM
как один из
философско-эстетических источников восточнохристианского искусства//2 МСГИ. -
Тбилиси, 1977.
Вагнер Г. К.
Византийское искусство в трудах В.Д. Лихачевой // ВВ N 45. – М., 1984.
Вагнер Г.К. В
поисках истины. Религиозно-философские искания руских художников. Середина XIX – начало XX в. – М.: Искусство, 1993.
Вашков С.
Религиозное искусство. – М., 1901-1911.
Вейдле В.
Перерождение античного искус-ства // Православная мысль, вып. V. – Париж, 1947.
Глаголев B.C. Современное Православие и искусство.
– М., 1966 (дисс. к. ф. н.).
Гуревич А.Я.
Категории средневековой культуры. – М., 1972.
Из истории
эстетической мысли древности и средневековья. – М.: АН, 1961.
История
эстетики – Памятники мировой эстетической мысли:
- Т.1 –
Античность, Средние века, Возрождение. – 1962.
- Т.2 –
Эстетические учения XVII– XVIII вв. - М., 1964.
Кошеленко
Г.А. Из истории становления эстетических воззрений раннего христианства // ВДИ,
1964, № 3.
Кошеленко ГА.
Развитие христианской эстетической теории в конце II–III в. н.э. // ВДИ, 1970, № 3.
Лосев А.Ф.
Диалектика художественной формы. – М., 1927.
Лосев А.Ф. О
понятии художественного канона//Проблема канона в древнем и средневековом
искусстве Азии и Африки. – М., 1973.
Лосев А.Ф.
Художественные каноны как проблема стиля//Вопросы эстетики, 1964, № 6.
Лосев А.Ф.
Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1978.
Лосев А.Ф.,
Шестаков В.П. История эстетических категорий. – М.: Искусство, 1965.
Мостаченко A.M. Виды пространства и времени в
искусстве // Симпозиум «Проблемы ритма, художественного времени и пространства
в литературе и искусстве». – Л., 1970.
Мурина Е.Б.
Проблемы синтеза пространственных искусств. – М., 1982.
Нуцубидзе
Ш.И. Петр Ивер и античное философское наследие (проблемы Ареапогитики). –
Тбилиси, 1963.
Рыбалкин М.К.
Соотношение эстетического и религиозного в процессе возникновения искусства. –
М., 1972 (дисс. к. ф. н.).
Савоськина
Т.С. Эстетическая сущность архитектурного образа. – Киев, 1978 (дисс. к.ф. н).
Шевырев С.
Разговор о возможности найти единый закон для изящного // Московский Вестник. -
М., 1827, ч. 1, № 1.
Шестаков В.П.
Учение о гармонии в истории эстетической мысли. – М.: Наука, 1973.
Яковлев Е.Г.
Эстетическое сознание, искусство и религия. – М., 1968 (дисс. д. ф. н.); М.:
Искусство, 1969.
A Muveszet Tortenete. A Korai kozepkor. – Corvina, 1988 (история христианского
искусства).
Теория архитектурного формообразования
Авксентьев
В.Л. Архитектурная пропорция. – Киев: Будивельник, 1986.
Арнхейм Р.
Динамика архитектурных форм. – М.: Стройиздат, 1984.
Архитектурная
композиция. Современные проблемы. – М., 1970,
Афанасьев
К.П. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. – М., 1961.
Бадштюбнер Э.
К вопросу о взаимосвязи между византийско-восточной и европейской архитектурами
средних веков. – 2 МСАИ, Ереван, 1973.
Генисаретский
О.И. Вещь. Образ и переживание в художественном проектировании. //
Художественное моделирование комплексного объекта. Труды ВНИИТЭ. Серия
Техническая эстетика, Вып. 31. – М., 1981.
Дмитриев Н.
Речь об основании красоты в архитектуре. – М., 1840.
Зельдмайер Г.
Первая архитектурная система средневековья // История архитектуры в избранных
отрывках. – М., 1935.
Иконников А.
В. Стиль жизни и стилеобразование предметно-пространственной среды //
Техническая эстетика, 1984, № 7.
Иконников
А.В. Художественный язык архитектуры. – М., 1985.
Подъяпольский
С.С., Бессонов Б.Г., Беляев Л.А., Постникова Т.М. Реставрация памятников
архитектуры. – М.: Стройиздат, 1988.
Шевелев И.
Логика архитектурной гармонии. – М.: Стройиздат, 1973.
История храмостроительства
Алпатов М.В.
Всеобщая история искусств. – М.-Л.: Искусство, 1950-1956 (т. III, M., 1955 -Русское искусство до начала XVIII в.).
Бадштюбнер Э.
К вопросу о взаимосвязи между византийско-восточной и европейской архитектурами
средних веков. 2 МСАИ, Ереван, 1973.
Брунов Н.И.
Очерки по истории архитектуры. Т. 2, М.–Л., 1935.
Вагнер Г.К.
Искусство Древней Руси. – М.: Искусство, 1993.
Всеобщая
история архитектуры. Т. 1. – М., 1970; Т. 2. - М., 1973; Т. 3. - М., 1970.
Всеобщая
история искусств. Т. 2. – М., 1960.
Вятчанина
Т.Н. О значении образа в древнерусской архитектуре // АН № 32, М., 1984.
Гагарин Г.Г.
История пятиглавых соборов в России. – СПб., 1856.
Гагарин Г. Г.
Происхождение пятиглавых церквей. – СПб., 1881.
Голубцов А.П.
Из чтений по церковной археологии и литургике. – Сатис, С-Пб., 1995.
Ильин М.А.
Заметки об архитектуре посадских храмов Москвы и Подмосковья XVI в. // Византия. Южные славяне и Древняя
Русь. Западная Европа. Искусство и культура. – М., 1973.
Ильин М.А.
Исследования и очерки. – М., 1976.
Ильин М.А.,
Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI в. Проблемы и гипотезы, идеи и
образы. – М.: Искусство, 1980.
История
Византии. Т. 1. – М., 1967; Т. 2. – М., 1967.
Красовский М.
Очерк истории Московского периода древнерусского зодчества. – М., 1911.
Лидов A.M. Иерусалимский кувоклий: О
происхождении луковичных глав // Иконография архитектуры. – М., 1990.
Макарий
(Миролюбов), архим. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и
его окрестностях. – М., 1860.
Новицкий А.
Луковичная форма церковных глав. Ее происхождение и развитие. – М., 1909.
Павле
(игумен). История русских колоколов. – Мат. ЦАК, № 8, Загорск, 1970.
Плешинец М.
Происхождение, история и духовное содержание православного иконостаса. –
Загорск, МДА, 1961.
Покровский
Н.В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. –
Петроград. 1916.
Происхождение
пятиглавых церквей. – СПб., 1881.
Раппопорт
П.А. Зодчество Древней Руси. – Л.: Наука, 1986.
Филатов СВ.
Проблема взаимосвязи живописи и архитектуры в памятников церковного зодчества
конца XV–XVI вв. // Проблемы истории СССР, вып. 13. – М., 1983.
Червяковский
Е.О. Историческое происхождение и значение иконостаса в Православной Церкви. –
Вильна, 1899.
Чубанишвили
Ю. К вопросу о начальных формах христианского храма. 2 МСГИ. – Тбилиси, 1977.
Якобсон АЛ.
Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры. – Л., 1983.
Якобсон А.Л.
Закономерности в развитии средневековой архитектуры. – Л.: Наука, 1985.
Современное храмостроительство
Алонов Ю. О
монастырских часовнях // Архитектура СССР, 1989, № 3.
Армеев Р.,
Каждому новому району столицы – свой храм. Известия, 29 марта 1995 г., № 57
(24416).
Барановский
Л. Новые идеи в контексте традиции. Конкурс на храм-памятник в Екатеринбурге.
Архитектурный вестник, 1992, № 5.
Власова Т.,
Лосицкий Ю. Церковная архитектура Радослава Жука. Архитектура СССР, 1991, № 3.
Диакон
Николай Чернышев. К вопросу о восстановлении памятников церковной культуры
наших дней//Святыни и культура. – М., 1992.
Кабанова О.
Новый храм «на крови». – Независимая газета, № 161, 22 авг. 1992.
Кеслер М.Ю. В
память безвинно убиенных // МЦВ, 1991, № 21 (66).
Кеслер М.Ю.
Кто построит новые храмы?// МЦВ. 1991, № 18(63).
Кеслер М.Ю.
Приходу – храмовый комплекс // МЦВ, 1992, № 2 (68).
Курашова Т.
Храм примирения // Уральский рабочий, 23 сент., 1992.
Лошаков И.,
Буличова Т. Раздуми на шляху до храму // Архитектура Украины, 1992, № 2.
Недович Н.
Строится православный храм // Архитектура СССР, 1991, № 1.
Ольгинский
храм // Архитектура СССР, 1991, № 2.
От
воссоздания храма – к возрождению города // Архитектурный вестник, 1992, № 5.
Попов Д.
Анатолий Полянский: «Все будет очень просто, без излишеств...» // Домострой, №
22, 11 июня 1991.
Стрельчик Е.
Благовест над Ореховым. Конкурс, тур первый // «Вечерняя Москва», 1990, 12 апр.
Туркатенко М.
О строительстве культовых сооружений в Польше в послевоенный период // Архитектура
СССР, 1990, № 6.
Приложение 3.
Иллюстративный материал







